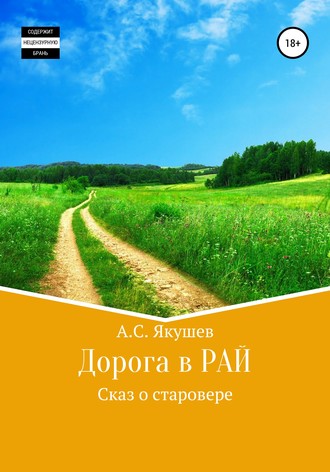
Полная версия
Дорога в РАЙ
На большую голову его бала нахлобучена войлочная шляпа самодельной выделки. Холщовая рубаха ниже пояса, застегнутая на все пуговицы и подпоясанная сыромятным ремешком. Широкие штаны были заправлены в высокие голенища охотничьих ичиг.
Остановившись в двух шага, навис как глыба, и с какой-то совсем не старческой улыбкой, продолжал:
– В лохани, говоришь, тогда пропущу, но все равно с оплатой. По одежки-то не наш. Городской, поди. Каким, однако ветром тебя занесло, паря?
– Попутным…
– Ишь ты. Оно и видать. Налегке поди… Толку с тебя мало. Чо возьмешь с таково…..
– Смотря какая оплата.
– Да бутылкой, однако, как повелось. А чем же ишо. Лучшей оплаты пока на Руси нету. И навряд ли будет, ядрить ее налево.
– Ну, хозяин – барин, – и Николай Фотийвич достал запасную бутылочку. Вот и пригодилось.
Бородач отвел ее рукой.
– Что мало? – спросил Николай Фотийвич и подумал смущенно: «Действительно, что это я… Да такому медведю это наперсток. Ему бы стакан. Вот так старовер».
– Укатали Егорку, крутые горки, – хмыкнул бородач, ровно угадав осуждение, которое так сразу вынес еще не знакомый пришелец. И снисходительно предложил, как хозяин положения, которому виднее как поступить, чтобы не упасть лицом, да еще и бородатым, в грязь:
– А че стоим-то?! Что есть, то есть. Поди, лучше присесть. И по глоточку для знакомства. Виднее будет, что и как, да и приятнее – по глоточку для разговора.
Расположились под кедром как на смолистом ковре.
Николай Фотийвич нарезал колбасы. Снял с бутылочки стаканчик. Наполнил. И – бородачу. А тот вдруг:
– Так ты сперва сам, а потом мне, если на, то пошло.
– Что так?
– Так у нас заведено, разве не слышал…
– Когда это было… Да не то еще слышал о староверах и не раз, – хотел добавить: « Но почему-то лишь о наших». Но промолчал, не желая обидеть.
Встречался он с ними и в Японии, и на Аляске, и в Уругвае, да куда только не занесла их злосчастная судьба, когда многие из них вынуждены были покинуть свою родину Россию – матушку. И везде отзывались о них как о доброжелательных людях, правда живущих общинами в своих поселениях, сохраняя свою веру, свой язык, свои обычаи и главное, что всех удивляло, – необычайное трудолюбие. Благодаря ему они везде приживались, жили в достатке и были гостеприимны.
– Неужели осталось такими до сих пор.
– Однако, осталось. В тайге живем. А заразы в миру не убавилось, а прибавилось.
– И посуду выбрасываете?
– Быват.
– И не пьете?
– Смотря с кем и, как и отчего.
– Сейчас за встречу…
– С кем? Ну, да ладно, однако. Возьму грех на душу, пока никто не видит.
– Кто здесь видит. Кроме кедра вроде никого нет.
– Грех, значит, когда его видать. А, когда никто его не видит – ничо.
– А из староверов ли сам?
– На дух – из староверов. А по телесному так себе, с боку припеку. А куды деться. Но советский. Молотый, перемолотый. Ядрить меня на лево. Мне, что сверху, что снизу. Бог, нечай, всяких видал и видит. Всем прошат. Да разве грех глоток выпить, да еще и заморской. Али два. Был бы толк. А толк-то – человека познать в разговоре. Он ведь никак не идет, чтоб на душу не принять. На этом Русь держалась и держится. С кем только ей не приходилось пить и что? лишь бы не ссориться. А мы ее дети малые. Как примам, так выше нормы и дурь в голову. Так ты не держи. Я жду….
Николай Фотийвич выпил. Потянулся за колбасой. Хотя надобности в ней у него не было после такой малой дозы.
Бородач, выпив, сокрушенно покачал головой:
– Наперсток! И уже все в миру по стольку пьют?! Пропала матушка Русь.
Вот раньше – и поднял руку, словно желая швырнуть стаканчик куда подальше от Кедра, продолжил стихом:
В старину живали деды
Веселей своих внучат:
Как простую пили воду,
Мед и крепкое вино….
Николай Фотийвич не скрыл удивление. Он стихи любил. Какой моряк без них, да к тому же – штурман, над головой которого всегда заманчивые звезды, впереди загадочный горизонт, а за кормой милый берег и все, что в душе и на сердце. Сам в юности, на вахте у котлов, бывала с пафосом выкрикивал, расхаживая по кочегарки:
Наша вахта сильна!
И никто никогда!
Не пройдет больше
Гвардии вахты.
Но к своему счастью быстро понял: стихоплетство – для слова, а поэзия – для души. И она повсюду, как воздух на планете, где живет душа человеческая. У нее один язык, ясный каждому – чувство. Еще наш Александр Сергеевич в славную бытность свою заметил:
И выстраданный стих, пронзительно унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой.
Вот и брось, что тебе не дано, и радуйся тому, что можешь чувствовать тех, кому дано, выразить словом то, что и тебя волнует. Многих поэтов он знал на память. Мог блеснуть четверостишьем, а то и более при случаях в хорошей компании. Но тут и от кого и где!?
А бородач по-свойски, видимо присущей ему:
– Че уставился-то… Али думаешь, что живем в лесу, да молимся колесу. Не на таковского напал. Мы ни лыком шиты. А че, не правда что-ли было сказано? Пили всей артелью с ведер и не плошали. Силен был народ, да видать, ослабел на обетованной земле нашей. А отчего бы? Не нам судить.
Закусывать колбасой он тоже не стал. Но, словно по какой-то своей привычки, заживал травкой, густо разросшейся у ног, там, где земля не была засыпана толстым слоем пожелтевшей хвои, годами опадавшей с кедра.
– А что не колбасой? – поинтересовался Николай Фотийвич, удивляясь.
– Да мы ее, как и медвежатину, не едим. Мало ли чо в ней напичкано…
А травка, да ишо у кедра, что черемша. Тюца называется. Запашок вроде бы тот. Но всяку гадость во рту сбивает наповал. Да и появляется пораньше, когда человеку, как и зверю, травка для здоровья нужна. К ней наших отцов ишо орочи приучили. А их вроде бы корейцы. Так вернее. Названье-то ихнее. Да и в травках лечебных они зуб съели. И нас приучили. А вот от чеснока нас бог избавил. И верно. Рот обжигат, а толку…. Одна вонь. Старики говорили ишо, мол, когда Моисей сорок дней кормил в пустыне свой народ манкой. Она народу осточертела. Он напал на чеснок. А от него смрад. Господь прознал. Разгневался, ровно простой смертный, проклял вонючую траву и тех, кто ее ел и до сих пор ест. Наматывай на ус.. Авось пригодится…Так плесни -ка ишо. Что-то не разобрал че к чему. Вроде захорошело, вроде нет.
Опрокинув вторую, тут же сказал:
– Бог-то троицу любил и нам велел.
Когда допили, изрек со знаньем дела:
– А все-таки наша медовая бражка вкуснее. Не пил ишо?
– Не приходилось.
– Однако, придется. Угощу, если гостем будешь
– Я не пить приехал, а жить.
В бородаче вдруг как будто что-то изменилось. Лицо его стало строгим. Глаза – навострились. Он спросил, как следователь на допросе:
– Признайся уж, ты не из наших- ли?
– Из ваших, но без бороды.
– А ты не ерничай. Борода у нас -святое. Нет ее, нет и души. Срезать -великий грех Так-то. Ну, да ладно. У тебя и без бороды – душа нараспашку. Глаза выдают. А нас староверов жизнь приучила бородой ее прикрывать. Так что не обессудь. Ответ держи как перед начальством. Или скрывать тебе есть че!?
Глава пятая.
К Р Е С Т Н И К
– Было бы не пришел. Фамилия моя Долганов. Говорит она тебе о чем не будь?– спросил с надеждой.
– Вот те на! Долганов! – воскликнул с радостным и не скрываемым изумлением. – Как не знать. А я все приглядываюсь на кого ты похож. А ты, видать, Никанор.
– Был Никанор да весь вышел. И я давно Николай…
Бородач понятлива кивнул и с какой-то радостью назвался:
– А я из Толпышевых. Небось, помнишь?
– Вроде соседи были…. Но тебя не припомню.
– Какой там! Но мы с тобой крестные братья.
– Когда успели?
– Да так вышло. Я свет божий увидел, когда ты уже в море ушел. И твоя мама Устинья Степановна меня крестила. Она, однако, по обычаю моя крестной мать. А ты мой брат… И не отнекивайся.
– Я не отнекиваюсь, – сказал Николай Фотийвич с трудом веря и думая: «А я-то… Выходит, не все еще для меня потеряно».– Знал бы раньше, списались бы… И к себе пригласил, или сам бы давно приехал.
– Так знатье бы и соломинку бы подослал. – без какой-либо обиды сослался на поговорку не кровный, но все же брат, знающий себе цену. – Раньше довелось мне дать тебе телеграмму. Крестная просила. До последнего часа ждала тебя… Да че говорить, мать есть мать. Моя тоже давно почила. И они на погости рядом.
– А отец? тоже…, – зачем-то спросил, подразумевая под словом «тоже» что его отец там же, где и его.
Бородач понял:
– Там же, где же ишо в его годы…. Меня и назвали его именем – Иваном. Вот и выходит, на Руси нашей все еще Иванов, как кедра по тайге. А кличут меня в закутке нашем – Ивановичем. И не потому, что я избран на сходе старостой в нем и не из уважения к моему званию, а в память об отце, что меня и обязывает.
– И ты под стать ему, как я посмотрю.
– Да, силенок у него было – не занимать. Он тигра ловил за загривок и поднимал как кошку.
– А ты?
– Куда мне. Да и тигра в нашей тайге днем с огнем теперя не сыщешь. Его тоже люди как говорил Дерсу Узала. И ушел из нашей загубленной нещадной вырубкой тайги в Китай.
– Значит, сейчас тебе ничего не остается как встречать таких как я под такой надписью.
– Однако, я, видать, по воли бога в такой час тут оказался. Сам диву даюсь. Надо же, крестного встретил. А надпись так себе. Голь на выдумки легка.
– Хороша голь, если судить по надписи.
– Она не для таких как ты. По тайге сейчас, как в старые времена, такие хунхузы бродят, что не дай бог. Норовят все нами наживное хапнуть. Вот мы и остерегаемся как могем…, и прищурил глаза. -Так ты насовсем вернулся, али как?
– Как примете….
– А что принимать-то. Ты на старости лет к себе вернулся. А че без семьи-то?
– Не сберег я семью, – оборвал резко Николай Фотейвич.
– Как это?
– Жена погибла вместе с сыном.
– Ох беда! И все, как перст, один?
– Как видишь…, – не охотно отвечал Николай Фотийвич.
– Тягость мучит. Оно и видно. Да что ворошить-то, – сочувствовал Иванович. – Лишь бы с душой пришел. Однако, не с грешной. Не замаливать же грехи свои чай явился.
– Не бойся. Я вроде бы не грешил. Ни до этого было. Да с кем в море согрешишь? С русалками что ли…
– Не шуткуй. Я за тебя буду в ответе. Мало ли чо участковый у меня спросит. Он хоть один на всю округу, но как я появлюсь в районный центр, так он ко мне, как там у вас… Так я ему бы выложил, как там у нас… Приди и посмотри, говорю. И пришел бы, отвечат, если б не дорога ваша. Ну и как ты. Говори. как на духу. Не подведи меня. Мало ли чо – Успокойся. За кормой у меня все нормально. За границей ни раз бывал, как юнга Огненных рейсов. Медаль «Ушакова» за это имею. Участвовал как вольнонаемный в десантных операциях во время Японской войны И медаль «За победу над Японией» имею. И удостоверение « Участник войны». И как ко всему: орден «Трудового Красного Знамени» и юбилейную медаль к столетию Владимира Ильича Ленина. Так что за меня не бзди….
– Так бы и сказал, а то вокруг, да около, – кашлянул Иванович, – И с разу видно, что наш.
– А дом наш цел? – задал наконец свой главный вопрос Николай Фотийвич, боясь получить отрицательный ответ.
– А то как же! – обрадовал его Иванович, – Пойдем, покажу.
Николай Фотийвич попытался подняться. Но ахнул от боли. Левую ногу свела внезапная судорога.
– И часто это у тебя? – спросил Иванович.
– Первый раз, – морщась, выдавил из себя Николай Фотийвич, с трудом растирая затвердевшую подколенную мышцу. – И вся ваша дорога….
– Предупредил бы заране что приедешь, мы бы тебя привезли по речке, а то на вездеходе.
– Хорошо живете.
– А то как же, на то и Рай, чтоб хорошо жить.
Когда судорога отпустила, Николай Фотийвич поднялся, но все еще с ноющей болью и шел, припадая на левую ногу.
Молча прошли до поворота. Но за ним, скрывая деревню, стояла выше человеческого роста плотная ограда из гофрированного листового железа. В ней не было видно ни ворот, ни дверей.
– Железный занавес, – усмехнулся Николай Фотийвич.
– Какой ишо занавес. Заплот, – как-то обижено отозвался Иванович.
– От тигров?
– Сейчас зверь почище пошел, – буркнул Иванович.
–А этот дом не наш ли? или я ошибаюсь? – кивнул Николай Фотийвич на заброшенный дом, одиноко стоявший вне ограды на крутом берегу.
– Так ваш…. А чей же.
– Не ожидал свой дом увидеть в таком состоянии. А могила матери тоже запущена?
– На погосте у нас порядок. За могилой крестной я сам слежу. Да и родительский день не мной придуман… Останешься вот -вмести навестим. А дом-то… Так что ж ты хотел. Дом твой столько лет стоит как сирота, – укорил Иванович. – Скажи спасибо, что цел. А тятьки своему, что таким крепким на веки его срубил. Тятьки давно нет, а дом стоит как память о нем. Нам бы так оставить что-то нами сработанное.
– А почему он в стороне оказался? С него, насколько я знаю, наша деревня начиналась, – не скрыл обиды Николай Фотийвич.
– Да ты обиду на нас не держи…Он нами не забыт. И оставлен на виду таким как есть. И не просто так, а с умыслом.
– Не понял.
– Так тут и понимать неча, – хитро сощурился Иванович, будто довольный тем впечатлением, которое произвел заброшенный дом на Николая Фотийвича. – То- то нам и надо… Не для тебя конечно. Для тебя мы все внутри сохранили, веря, что ты все-таки вернешься и не на пустое место. С наружи же не для тебя.
– Но для кого же?
– Для тех, кто на наш рай зарится. Он для них, как показуха… А по нонешному как реклама.
– Нашли чем рекламировать.
– Да ты сперва покумекай, потом осуждай. В рай-то каждый норовит по пасть. Все на готовенькое. Не знашь что ли как нас выживали из наших деревень. Мы только обживемся в непролазной тайге, избы построим, огороды раскорчуем, а нам хохлов подселивают. Они курят, пьют горилку, матерятся, гадят, а работать в тайге – ни шиша. Какое жилье с ними. Мы все бросали и уходили подальше. И вот теперя тоже. А тут – рай. И каждый норовит попасть. Приедут посмотреть. А тут домишка замшелый на курьих ножках. А за оградой или ты говоришь за железным занавесом поди еще хужи. Одна вывеска для потехи – Рай. И скажут себе: мы уже нажились в таком рае. И поворот от ворот. А нам это и надо. Однако, скумекал?
– Скумекал. И буду в нем как часть этой рекламы убогости.
– А че ты хотел.
Глава шестая
Р Е К Л А М А
На первый взгляд дом вполне оправдывал свое нынешнее назначение. Старая крыша, его покрытая колотой дранкой, кое-где была залатана ржавыми листами железа, как обветшалая одежка заплатами. Толстые брусья стен почернели. Ставни окон обвисли. Окна потускнели. Плахи завалинок обвалились. Крыльцо покосилось. Ступени грозили развалиться. Резные столбики, поддерживающие плоский навес, скособочились. А как бы над всем этим сиротством высилась одинокая плакучая Ива, как горестная дева с распущенными волосами. Ее не было тогда, когда он уходил. Да и все остальное не было таким.
В памяти Николая Фотийвича дом остался большим, ухоженным и зажиточным. Всюду виделась рука отца. Запомнилась, что он все время что-то подделывал, подгонял, вырезал, стараясь сделать дом еще краше. Любил напоминать с гордостью: «Построен без единого гвоздя колышками, да клинышками. Топором да пилой. И чтоб все ладно было. И все по-божески. Вот мотри, три окна на южном фасаде. Три ни больше, не меньше. Ибо, есть: «Отец, сын и Дух святой» Вот у нас в горнице и полно солнышка. Мать не нарадуется. Каков хозяин – таков и дом». Так или ни так говорил отец, но смысл всплыл в душе Николая Фотейвича таким образом и зацепил за сердца тяжкой виной, будто сам был виновен в том, что отчий дом, забытый им, превратился в жалкую убогость. И не только дом. Двор без поленницы. На вороте закрытого колодца уныло висело ржавое ведро. Большой огород на склоне к реке зарос густой полынью. Прясло из жердей завалилось. Куда не посмотришь – запустенье.
Упрек Ивановича был справедлив. Николай Фотейвич не стал оправдываться. Да и зачем. Тяжелея стало от того, что теперь он не найдет в себе силы восстановить все как было прежде, не говоря уже о том, чтобы заняться землей, хотя бы вроде дачника и проводить здесь летнее время на своей малой родины и среди земляков. Он безнадежно повернулся к Ивановичу, не скрывая этого, и будто сам себя осудил:
– Да, Иванович, ты прав: выход у меня один- быть частью вашей рекламы. – Не быть же мне капитану на старости лет во всех своих регалиях тут свадебным мореходом. И кричать на свадьбе ради потехи: « Полундра! Теща на горизонте. Спасайся, кто может» .Лучше согласно времени рекламой нищеты быть. Сидеть на сгнившем крыльце в оборванных до колен джинсах, в морских деревянных колодках на босу ногу, в замызганной тельняшке и в выцветшей штурманской фуражке с туским крабом над треснувшим козырьком. Не бриться. Не мыться. И чтоб рожа была опухшей, как у бича. И буду, как пугало в огороде. Все для вашего рая польза, а мне наказания за долгое отсутствие, как блудному сыну. Ну как, староста, на твой взгляд.
– Однако, вроде хорошо, ежели прикинуть, -сощурился Иванович, пряча смешинку. -Время тако…Вчера капитан, а седни – дворник. А че. У нас в артели каждый на своем месте и млад и стар. Никто работой не обижен. Всяку работу человек должен делать пока есть силы. Не в наказании дело за провинность каку, а в любом деле, которое в общине нашей нужно всем. Для тебя наказанием будет, если мы тебя на иждивении возьмем. Рай-то рай да работы в нем непочай.
– На иждивении у своих земляков – ни в коем разе. Моей пенсии мне хватит. Но и бездельником слыть не хочу, да и не привык. Почему и в городе маялся. – повысил голос Николай Фотийвич, заметив усмешку.
– Так-то лучше, чем жалится. Всерьез-то не дашь себя обьегорить, да еще и по пустякам. Дело-то выеденного яйца не стоит, чтобы всерьез говорить – то. Да ты и сам такой. Как себя, моряка, обговорил. Смех один. А к рекламе – самое то. Так, глядишь, и сговоримся, – продолжал Иванович все в тоже духи.
– Но, если и я такой, тогда слушай, – сказал Николай Фотийвич как можно серьезнее. – Я согласен. Но без испытательного срока. И с твердой оплатой и вовремя, а то будете тянуть как работодатели сейчас делают.
– Какой ишо оплатой? – спросил Иванович, теряя усмешку.
– Оплата такая. Мене достаточно, чтобы у крыльца с утра стоял жбан с бражкой, шматом сало и картошкой в мундирах.
– Так за этим дело не станет, – с облегчением выдохнул Иванович.
Оба рассмеялись, довольные тем, что нашли общий язык. А потом Иванович с легким сердцем, но с какой-то таинственностью на лице предложил:
– Теперя заглянем в избу.
– Что-то не так? – насторожился Николай Фотийвич.
– Смотря для кого, – уклончиво ответил Иванович. – Тятька-то твой, царство ему небесное, дом построил по староверски, с секретом. Варнак в него не зайдет со своим душком.
– Да какой же я варнак.
– А чем пропиталась твоя душа за столь время. Кто знат. Я тебе вроде брата, и то сказать не могу. В доме же Матка она сразу угадат. И если что не по нее – не пропустит.
– Но это мне не страшно. Я до мозга костей продут от всякой нечисти морским ветром.
– Дай-то Бог, – Иванович, не желая впутывать душу свою, да и сберечь душу крестного брата своего, закатил глаза к высокому небу и размашисто
перекрестился.
Глава седьмая.
М А Т К А
Подошли к крыльцу. Николай Фотийвич, все еще чувствуя боль в ноге, спросил, кивнув на подгнившие плахи:
– Не сломаются?
– С чего бы! – заверил Иванович. – В моем бренном теле ни один пуд – и ишо не раз ни одна доска не проваливалась под ногами.
Уверенно ступил прямо на вторую ступень. Ее плаха, жалобно хрустнув, вдруг подвернулась и ввалилась. Он, проваливаясь, взмахнул руками, и ус-
пел ухватиться за столбик:
– Над же так! Да еще как нарочно при хозяине. На мою голову… Ядрить ее налево.
– Что ты все ядрить да ядрить? Старовер вроде.
– Так это вместо мата. Мы же не материмся. А порой хочется. Вот я и придумал. И вошло в привычку – и к месту, и не к месту. А седня на языке. Так при тебе прикидываюсь. А то все староверы, да старовера. А мы че – те же русские… Но перед Всевышнем – другие.
– Я не Всевышний! – сказал Николай Фотийвич. подумав о своей ноге, которая при каждом неосторожном шаге давала о себе знать. – Но если оступлюсь, накрою твою голову пару ласковыми, не смотря что ты крестный.
– Не обессудь, все рук не хватат. – И Иванович почесал бороду, которая, наверное, иногда заменяла ему затылок, и изрек смущенно, – Бог не Мякишка. Скрывай не скрывай, а он примечает и никакого обмана не пропустит. Сколько раз себе говорил, да и другим тоже. А толку…
Сени были не заперты. На дверях в дом тоже не было замка.
– Так у нас повелось, – сказал Иванович, распахивая дверь. – Исполнять одну из заповедей Христа – не воруй! И дом открыт и душа открыта. – и похвастался как ни в чем не бывало. – Обычаи отцов не нарушаем.
Но за дверью оказался настолько высокий порог, что не каждый сходу возьмет его. «Тем более я со своими мотылями», – подумал Николай Фотийвич, не решаясь поднять ногу. И не скрыл недовольство:
– Что-то мой батя перестарался.
– Нет! Он постарался и не зря, а с умыслом. – возразил Иванович. – Посуди сам. На улице трескучий мороз. Откроишь дверь нараспашку, мороз-то хлынет по низу, а тут порог. Мороз и упрется. И ишо, высокий порог малышню приучал не ползать через порог, а переступать через него.
– Ясно. То-то я легко перешагивал все высокие комингсы, встречавшие на своем пути. – заключил Николай Фотийвич.
– Много чего еще в доме, что тебя напугат, – произнес Иванович, про-
пуская его вперед.
– Я уже ни раз напуганный, – отмахнулся Николай Фотийвич. А зря. Не успел и шага сделать в кухню, как все существо его сжалось от какой-то насторожённости. Он замер. Над ним нависла балка, лежавшая поперек входа. Потолок, который она удерживала, был из широких плах, давно небеленых. И всем своим существом он ощутил, что стоит ему двинуться дальше, как балка вместе с потолком свалится ему на голову. А это, пожалуй, будет больнее чем излом ступени под ногами.
– Проходи, не бойся, – сказал за его спиной Иванович. – Это балка из кедра, а никакая-то подручная доска под ноги на скору руку. Балка надежна. Да и с задумкой. На тебя не свалиться… Она соображат не хуже нас.
– А ты откуда знаешь?! – машинально, но шепотом спросил, он с трудом снимая с себя наваждение.
– Мне ли не знать, – тоже шепотом, но, словно открывая какую-то тайну, отвечал Иванович. – Вишь, она не зря поперек лежит. Это для того, чтобы какой варнак в избу без спроса не зашел. Такое вложили нее, как душу, мужики-плотники, скопом, уложив ее на сруб и, назвав ее маткой, обсевали ее. Обряд блюли. Он таков был: Хозяйка, варила кашу. Хозяин закутывал горшок в полушубок, заносил в сруб и подвешивал к матке. Один из плотников влезал наверх, обходил последний венец, сея хмель и хлебные зерна на счастье и благополучие. Потом подходил по матке к горшку с кашей, перерубал топором веревку, Горшок с кашей ставили в круг под маткой. Ели кашу и запивали бражулькой, чтоб держалась балка и злой дух в избу не пущала.
– Умные мужики были, – сказал Николай Фотийвич, расправляясь. – И не было случая, что бы она не сваливалась на голову? На мою, например.
– На твою нет. Ты не варнак какой. Она тебя просто припугнула, за то, что ты долго в избе своей не бывал. Для нее это грех.
– А вдруг переборщили, обмывая. Она возьми – и перепутай.
– Не перепутает. Все с умом, а не с бухты-барахты нами в нее вложено. И не попьяне топором махать и глаз иметь острый. Ни в коем разе. А не обмоешь, так она и на нас обидится, чего доброго. Так и сидели под ней, ровно проверяя, не заскрипит ли где, не даст ли она знать о себе. Таков у обычай: что не сделал, к тому же нужное – все обмой, как новорожденное. К тому же, это матка нечай в доме. И не нами названа- Маткой! – закончил Иванович со значением.
– Я не пойму, -протянул вдруг Николай Фотийвич с явным осуждением. – Это у женщины матка. А деревянная балка в избе причем.
– Вот те на! – развел руками Иванович явно обескураженный. – Взбредет же в голову такое. Это все море сказывается. Баб-то нету. Вот вы и богохульствуете, где и как и до чего можно достать мужику под юбкой. А матка не только женское чрево, куда твое семя натруженное падает. Она всему голова, без которой жизни нет. Она и у пчел, и у растений разных. И на русском языке, она – Матка. Разве душевнее скажешь. Язык – то у нас знает толк, чтоб метко назвать. А балку эту иначе и не назовёшь. Сам посуди. Она ведь тоже новорожденного качат. Забыл, поди! Так вот, вишь крюк в балке. На ем зыбка подвешивалась… И все мы на ней, как в руках материнских качались. Разве не так?

