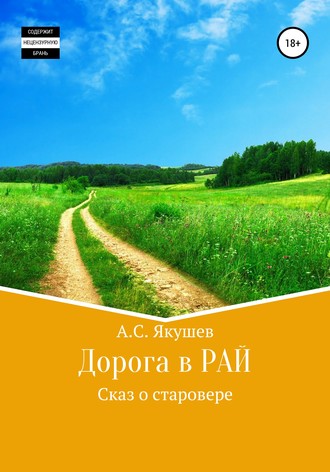
Полная версия
Дорога в РАЙ
Как-то в порту США чиновник от власти, проверяя штат команды, спросил у Николая Фотийвича:
– Что-то у вас помощников капитана четверо. Троих вам не хватает?
Впервые Николай Фотейвич замялся с ответом.
Чиновник понятливо качнул головой.
– Понятно, почему у вас нет безработных.
В то партийное время, такою угрозу, сказать честно, Николай Фотийвич бы молча проглотил. Но сейчас в сердцах отрезал:
– Я в душе считал себя от роду – старовером. И это не мешало мне идти по заданному партией курсом.
– А я коммунист! – парировал помполит.
И это вызывало уважение к нему. Несмотря ни на что, он не изменил своим убежденьем -быть нравственным, и не вилять туда-сюда в зависимости от ветра. И отвечать за каждого члена команды загранплаванья, который мог нарушить это. Были и такие, которые давали драпа заграницей. Чужая душа – потемки, тем более для закоренелого атеиста, который в своей-то разобраться не может и порой завидует священникам, которым всяк открывает душу.
И тогда шел под арест на несколько оставшихся лет – помполит. Вроде бы верно. Кому же ещё, тем более там, где каждый отвечает за свое. Но тут как бы не так. Вместе с ним шел и капитан. Так что, что тут делить между собой. Бери выше. Это сейчас все ясно. Но тогда было еще ясней. И никто не роптал. И если повезет, то вместо того, чем в мерзлый забой, в бухту Находка порт строит. Там ребята и на «Жучок» пристроят по специальности – капитаном. А помполита для перевоспитания к себе взять матросом. Пусть концы потаскает – в будущем пригодится.
– Да кто спорит, – пожал плечами Николай Фотийвич, зная, что перечить такому помполиту, это плевать против ветра. И сказал миролюбиво. – Я тоже коммунист. Да все мы коммунистами были даже беспартийные. Точно, ребята?
– Да кто сомневается, – ответил один за всех.
– Я! – сказал помполит. – Ибо никто из вас не встал на защиту партии, когда ее запретили. Да и я тоже.
– Поэтому ты меня не осудишь, – улыбнулся Николой Фотийвич, чтобы оборвать острую тему, – если я вместо «Марксизма – Ленинизма» все же возьму в дорогу то, что посоветовали товарищи.
Но все-таки водку брать не стал. А на всякий случай, прихватил плоскую бутылочку японского виски грамм на 250 с маленьким стаканчиком на горлышке. Будет чем помянуть. И то ладно.
Глава вторая.
В П У Т И
В автобусе дальнего следования, размягчено устроившись у окна, с какой-то душевной взволнованностью вспоминал ту трепку, которую задал ему отец в начале тридцатых. Было же такое. Нашел что вспомнить. Значит, она имела какое-то значение, что на всю жизнь врезалась в память.
Кончались тридцатые годы. Отгремели славой Хасанские события. Вся страна пела: «Мчались танки, ветер поднимая
Наступала грозная броня
И летели наземь самураи под напором стали и огня».
Было ему тогда десять лет. Его приняли в пионеры. Пришел домой в красном галстуке. Думал похвалит отец. Но тот пришел в ярость. Никогда он не виде его таким. Он сорвал с себя сыромятную опояску и начал хлестать ею, крича с пеной у рта:
– Павка Морозов объявился и в моей семье. Антихристово семя. Пакостник. Тот отца родного властям выдал. Он кормил его, поил, одевал. Работал, не покладая рук, а он его за кулака выдал. И ты за этим в школу ходишь!? Варнак! Еще раз этот ошейник напялишь, шкуру спущу. Мы от этой власти в тайгу ушли, чтобы ее век не видеть. А ты к ней липнешь. Скажи еще в школе, что ты из староверов, так тебе все дороги будут закрыты…. И чему учат… Безбожники… Вот тебе! Вот тебе! – И тонкой, как плеть, опояской по заднице, благо прикрытой штанами из «чертовой кожи».
Мать пыталась защитить сынишку. Но и ей досталась. Отшвырнул ее, крикнул:
– Иди! Упади на колени перед Божией Матерью. Замоли его грех. Чему его в этой школе учат, на чо натаскивают…
Мать, встав на колени, истово крестилась. А Божия Матерь с ребенком на руках – хоть бы заступилась. И сильная хлестка отца не ослабевала.
А Никанорка терялся: дома одно, а в школе другое. Пришлось ему хитрить, чтобы дома не били, а в школе не дразнили. Галстук, возвращаясь домой, он стал прятать под кочку.
В школе на уроках пения разучивали песню:
Пионеры, в бога мы не верим!
– А где же ваши боги?
– Наши боги скачут по дороге-
Вот где наши боги!
Пионеры, в бога мы не верим!
– А где же ваше Рождество?
– Наше Рождество снегом занесло-
Вот где наше Рождество!
Пионеры, в бога мы не верим!
– А где ваша троица?
– Наша троица – в три шеренге строиться-
Вот где наша троица!
Или:
Провались, земля и небо,
Мы на кочке проживем,
Бога нет, царя не надо.
Богородицу пропьем.
Как-то молодая учительница спросила школят, кем они мечтают быть.
Один тут же ответил, преданно смотря в строгое око учительницы:
– Павкой Морозовым.
– Молодец! А ты, – кивнула она на другого.
– Чапаем!
– А ты, Долганов? – почему-то выделила она его фамилией, а потом уже с каким-то осуждением в голосе, ровно наткнулась на что-то неприемлемое для нее в его имени. – Никанор. – повторила, ровна давая знать это всему классу по слогам. – Надо же – Ни-ка -нор.
Он было сжался. Но, набычившись, ответил:
– Моряком!
Как ему показалось, весь класс захохотал. А кто-то выкрикнул:
– Нашелся моряк, с печки бряк.
Так и пошло.
Он давно замечал какую-то предвзятость к нему, будто был виновен в том, что из староверов. Замкнулся в себе. Но отец приметил и сказал:
– Они завидуют тебе, потому что ты не таков как они. И будь таким как ты есть. Не давай себя в обиду. Давай отпор. Силенки у тебя хватит. Ты хоть мал, но ни баклуши дома бил.
Ко всему учился он хорошо. Память имел отменную. Все схватывал на лету. Природной смекалки не занимать.
Отец не против знаний был. Сам много читал. Радуясь тяги сынишки к чтению, поучал: «Книжку не бросай. Для ума она, как оселок для ножа. Тупеть умишку не дает. Каждое буква в слове Книга не просто вписано. Запомни, буква К обозначат, что перед тобой – ключ. Н- найти. И – истину. Г- глаголом. А – автор. Заруби на носу. Мал правда и головка ишо пуста, но заполняй ее тем, что пригодится. Светлым, как родничок. Читай то, что тебя за сердечко хватает, как сказка кака».
Сам он воевал в первую империалистическую. Был пулеметчиком. Дослужился до Унтер-офицера. Едва с агитаторами не сошелся, которые в окопах призывали: «Долой войну! Штыки в землю – и по домам». Страдал за Россию, проигравшую войну немцам. Подвыпив бывало, кричал:
– Все евреи…Смутили русский народ. Сколько нас полегло зря. Всю царскую землю порешили. И все им мало. Крестьянство под корень своим серпом да молотом. Только и видим – Смерть и голод. Что творится. Пограничное казачество извели. И до нас добрались. Сколько наших староверов ни за что, ни про что в тайге выловили и во Владивостоке под расстрел подвели…. За что!? За то, что мы русские. Что богатство наше в труде. Не пройдет им это. Никанорка, читай «Бородино». Душа русская хочет….
И каждый раз, когда, тараща от испуга глаза, приходилось цитировать
уже на память: «Не будь на то Господней воли, не отдали б Москвы!» Глаза отца наполнялись слезами. И сам вторил:
Да были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя
Богатыри не вы….
Запомни это! Запомни, тебе жить….
А мать умоляла:
– Чему учишь. Хочешь, чтобы антихристы эти и мальчонка забрали. У них ума хватит всех нас извести. Глаза-то завидущие. Злоба в них на добро. Прости мя Господи.
Началась Отечественная война. Фашисты подошли к Москве. Отец добровольцам ушел защищать русскую столицу, говоря: «Старообрядчество наше – это одно. А за Русь нашу постоять – это, однако, другое. Святое дело выше которого нет».
Никонорке, устраиваясь в пароходство, пришлось скрывать свою родословную. Бывший торговый моряк загранплаванья, поручившийся за него, предупредил:
– О староверстве забудь, не упоминай в анкете. Иначе загранки тебе не видать, как своих ушей. А мне – моего партийного билета.
И догадался он по уже знакомому наитию, заполняя анкету личного дела, и имя свое поменять на Николая, и о родословной ничего не ответить, сославшись на незнания. Да так оно и было. А чуткие люди в кадрах махнули рукой: каков с мальца спрос. Но об отце написал правду, которую тогда у него мальца никто не мог отнять: «Погиб смертью храбрых, защищая Москву». Но что греха таить, прикрывался этим и дальше по мере своего служебного положения вплоть до капитана. Так и жил: на лице одно, на душе другое. И привык, вроде так и надо было. Накренишься посильнее на левый или на правый борт – тут тебе и трепка почище отцовской.
И вот едет вроде бы для того, чтобы во всем признаться землякам и очистить душу. Но живы ли они и цела ли их деревушка.
За окном автобуса ничего утешительного. Сердце сжималось от жалости. Переживал за всю огромную Советскую страну как за свое личное. Так уж был воспитан. Знал по наслышке, что происходит по весям. Но не представлял, что все настолько плохо. Навстречу поток КАМАЗов, груженых под завязку оголенными бревнами и один к одному. Казалась, вырубают тайгу нещадно и торопятся вывезти как ворованное, а то и запрещенное к вырубке. Чем дальше в глубинку – тем хуже: опустевшие деревни. А каждая чья-то малая родина. А объединенные в одно – наша страна. Скотные из кирпича сараи без крыш, запущенные поля, одинокие коровенки. На остановках висели одни и те же объявление, вроде: «Продается дом с участком в 15 соток. Имеется колодец, баня, сарай для скота. Можно взять в аренду. Все по договоренности». Что это? Почему так? Земля ведь не изменилась. Всему крестьянству давала работу. Есть земля, есть хозяин, причем зажиточный, были бы руки и чтобы они на себя работали, на сколько это возможно. Сколько крови пролито за это. Но как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Где оно крестьянское сословие в огромной сельскохозяйственной стране? Оно выживало при крепостном праве. При освобождении имела свой голос, добиваясь земли. А при большевиках, которым поверила на слово- опять влопалось в зависимость, теперь от государства и под разливные песни в колхозах «Прокати меня милый на тракторе» в одночасье сошло на нет. А он не верил. Да и голову не вкладывалось, как возможно. Без крестьянства и России не будет, ибо оно единственное сословие, которое кормило из века в век все мелочные но всесильные сословия, надстроенные над ним, ибо это была его участь, уготовленная Создателем.
Выезжая бывало с женой после очередного рейса подальше от города, на природу, по которой истосковалась душа, они видел: ухоженные поселки с водонапорными башнями. Кирпичные сараи для скота. Стада упитанных коров на лугах. И поля, поля с ровными рядками прополотых овощей и густой зеленью картофеля. Душа радовалась.
У деревень доброжелательные старушки сидели рядком на низеньких стульчиках, от души предлагая все, что на родной земле вырастили: помидорчики, огурчики, свежо початки кукурузы, редисочку, разную молочку в стаканчиках с чайной ложечкой. Все свежее, чистое и дешевое.
Как-то на его глазах, дальнобойщик, затормозив свою громадину, подошел к крайней старушки, попросил осипшим голосом:
– Мне бы ряженки, мамаша, да не стаканчик, а два, а то и три.
Выпил не сразу, а смакуя. А потом, облизнув губы:
– Эх какая прелесть… Спасибо, мамаша. Дай бог вам здоровье, – и, протянув деньги, пошел к машине
– Постой, – попыталась остановить его старушка. – Возьми, сынок, сдачу. Мне лишнего не надо.
Дальнобойщик обернулся:
– Это, мамаша, не лишнее вам. Это премиальные за непосильный труд ваш, без которого я бы навряд ли дотянул до дома.
– Да какой непосильный, – возражала старушка ему вослед. – Труд на земле – нам в радость. А то бы сидели на старости лет, сложа руки.
Но как же не поступить также, как дальнобойщик. Что-то родное трогало душу.
За окном автобуса вдоль трассы кое где все еще висели выцветшие плакаты с бодрым портретом последнего генсека и его напутствующими словами: «Хорошей дорогой идете, товарищи!».
А дорога пошла вся в черных заплатах асфальта и в еще не закрытых им выбоинах. Слышно было как шофер в сердцах чертыхался с трудом успевая объезжать их. Но примолк, когда и такое покрытие кончилось и за автобусом потянулась густая пыль.
Николай Фотийвич, надеясь услышать что-нибудь обнадёживающее спросил наобум у хилого мужичка, дремавшего напротив:
– В деревнях все еще поют?
Тот хмыкнул:
– Какие песни… Деревня плачет.
– Есть причина?
– Да еще какая. – оживился мужичонка. – Колхозы, совхозы похезала новая власть. Не землю паи выдали. Рабочему классу – ваучеры, а нашему – паи. А этаже не твои дачных шесть соток. Цельный гектар, а то и боле. Чем обрабатывать!? Лопатой да тяпкой! Технику бы какую в придачу. Ан нет! Перебьетесь! Да не только в этом дело. Мы ведь отвыкли единолично работать. Начальство нам подавай. Без него и задницу не оторвем от лавочки. Сидим, смалим часов до десяти. Че нам. Советска власть сколько не старалась колхозами да совхозами, а собственника земельного из нашей души не выбила. Испокон веку оно.
– Ну, сейчас свой гектар. Как же не работать….
– Так я и говорю. Отучили нас самим-то. Привыкли к начальству. Придет горластый бригадир. Понукнет нас матом, мы и пойдем. А теперь начальство-то нет. Одни хозяева. И мы от неча делать пропили наши паи, а то и отдали за бесценок бывшему начальству как оно и задумало.
– Не жалко?
– А че жалеть-то. На жалились за 70 лет-то. Все наше, а теперя мое. Куда хочу, туда и ворочу. А ты сам-то, вроде городской, а в деревню едешь. Замыслил что. Не песни ли по деревням собирать. Разруха наша заставила.
– Да что-то вроде этого, – сказал Николай Фотейвич, – Но сам говоришь, песню где услышишь….
– Легче легкого. Поставь бутылку, и любую споют, как в кино – засмеялся мужик. – Помнишь небось: «Свинарку и пастух», «Кубанские казаки» Не жизнь колхозная наша, а малина. А малина-то внутри гнилая оказалось.
«Как же мои староверы в своей таежной деревушки, застану ли кого?», – переживал Николай Фотейвич.
Автобус, сбавляя ход, надсадно заскрипел тормозами.
– Вот и моя деревня. Можешь выйдешь со мной. Я тебе столько голосистых певцов найду, хоть отбавляй. Но не без этого, – и, мужичок, щелкнув себя по горлу, прытко вышел.
Автобус последовал дальше. Вскоре въехал в ту деревню, в школе которой ему, Никонорке когда-то торжественно навязали красный галстук пионера. Поискал глазами школу. На ее месте стояла другая, двухэтажная с большими окнами и парадным многоступенчатым подъездом. Возле него высился валун с выбитым силуэтом танка и чугунной плитой с черным списком. Вспомнил своего учителя по физкультуре. «Наверное, и он в этом списке». И невольно окинул ищущим взглядом спортивную площадку за школой, где в его годы, было лужайка, по которой учитель гонял их строем. На площадке стояли волейбольные столбы с порванной сеткой и другие спортивные снаряды. Она была окружена повалившейся оградой. И ее весеннюю травку пощипывали шустрые козы.
Из школы шумной ватагой выбежали школьники разного возраста. Ни на одном мальце не было красного галстука. И Николай Фотийвич решил с сожалением: «Видно, теперь гонят тех, кто приходит в школу с красным галстуком».
Больше не на чем было остановить взгляд, чтобы увидеть что-то крестьянское, что все еще жило в его душе, как у каждого русского будь он и городским от пятого колена.
У одного из многочисленных еще крепких кирпичных сараев, но пустующих, толпилось большое стадо овец, которое пытались куда-то направить два всадника то ли монголов, то ли калмыков. А так бы хотелось увидеть какого-нибудь босоного Ванюшку с тонкой плетью в ловких руках.
Еще бросился в глаза продуктовый магазин возле которого в ожидании, когда рослый парень в белом халате выгрузит из грузовичка хлеб, стояла очередь как прежде. Но прежде за колбасой, а теперь за хлебом.
Автобус остановился. Шофер облегченным голосом объявил:
– Конечная! Выходи, дед.
Николай Фотийвич, не поверив, переспросил упавшим голосом:
– Как конечная!? Не может быть. Дальше же еще была деревня. И к ней дорога была, если мне еще память не изменяет. Правда, не для автобусов. Их тогда и в помине не было. Но сейчас-то. Там же люди живут….Или нет уже той деревушки….
– Да есть вроде бы… Видишь сворот. Дорога проселочная почти заросла. Но все еще протоптана. Местные пассажиры говорят на отшибе, в километрах двадцати отсюда, а то и белее, в тайге староверы живут сами по себе, – то ли с завистью, то ли с осуждением сказал шофер, но не было в его голосе безразличия, а был интерес. – Надо же. По всей трассе запустенья, глаз бы не смотрел. А они в тайге. И город им не нужен. Уже сколько на этой трассе, а подвозить не приходилось. Ты, дед, из них что-ли. Вижу из города, в гости что-ли к ним. Или так, из любопытства… Подвез бы тебя, да и сам посмотрел. Но дорога – не пройти, не проехать. Так что, дед, придется тебе на своих двоих по такой дороге. В твои бы годы дома сидеть. Ну что? выходишь, или назад….
– Отрабатывать задний я не привык, – твердо ответил, выходя Николай Фотийвич. – Дедом в море не был. И давал команду – «Полный вперед»! Так что спасибо, сынок. И помни – дорогу осилит идущий. Тем более, когда она ведёт тебя к родовому дому. И годы мои в этом мне не помеха. Главное, не отказала бы ходовая часть, ибо на жизненной карте проложен мной может быть последний, но самый трудный курс.
– Туда, где трава по пояс, – грустно заключил молодой шофер. – Но мне еще туда не надо. Счастливо, капитан….
Николай Фотийвич не ответил. Вышел и взволнованно шагнул через не глубокий кювет на едва заметную в высоком бурьяне дорогу своего далекого детства.
Глава третья
Д О Р О Г А
Он ее не узнал. Представлял ее совершенно другой. Она была, как ему после казалось, хоть босиком бегай, не сбивая пальцы ног, хоть на телеги как по укатанному. Одолеть ее труда не требовалось. В школу бывало незаметно пробегал, расстояния, не чувствуя и не замечая препятствий.
А сейчас. Она была – хуже некуда. Глубокие колдобины, залитые жидкой грязью на каждом шагу. А то и толстые, замшелые валежины, как нарочно, лежавшие поперек. Переплетения корней, вымытые мелкими, быстрыми ручьями. Она была запущена, и, показалось ему, специально. Не верилось, что его земляки обленились настолько, чтобы поддерживать ее проезжей. « А может быть, – утешал он себя, запинаясь об очередную корягу в траве, и все еще подшучивая над собой. – Тогда я каким пацаном был,
и она …. А сейчас оба состарились – и все вокруг тоже».
Он быстро устал. Ноги заплетались все больше. Дорога казалось бесконечной. И все выше поднималась по крутому хребту.
Выбившись из сил, с облегчением присел на кряжистый выворот у дороги, но с досадой видя, что она вновь заходит в гущу леса, как в туннель, из которого может быть уже и выхода нет, задумался.
Такие дороги, как густой сетью накрыли всю русскую землю. И не зря. В ней путалась вся вражья сила. Не пройти, не проехать. Не такой ли дорогой запутал Сусанин поляков, спасая царя. Наполеон едва вырвался из нее, бросив своих гвардейцев замерзать на ней. Гитлер застрял со своей хваленой техникой. Да и меня она выматывает на износ. И так, наверное, каждого, кто захочет повидать нашу глубинку. Кому это надо? Тем, кто должен делать дороги проезжими? Но они, видно, как и мои земляки живут по старинки, ссылаясь от безысходности, что только непроходимые дороги вновь спасут всю Россею. И пусть останутся такими какими есть. Зачем зря на них тратится. Денежку в карман или еще куда. И все довольны. А ведь есть дороги, которые из века в век оправдывают себя. Они для торговли. Их проложили землепроходцы по материкам, а мореходы по океанам. Продавайте с выгодой для себя то, чем вы богаты. Покупайте то, чего у вас нет. Но на чужое не зарьтесь, не берите товар силой, не воруйте. Плохо кончится. Не своим трудом будешь пользоваться, свой исконный забудешь и – захиреешь. Только в мире и согласии торговли. И она с чего началась? С соседей по земле. Они на материках. И океанские дороги связывает их в один узел ради торговли. А на земле: деревню с деревней, город с городом. А внутри улицы, те же дороги и к соседям и ко всему необходимому. А я иду к своему прошлому по запущенной дороги. И не надо пенять на нее. Так что надо идти и благодарить судьбу, что она все еще есть, такая как есть. Другой и не должна быть, ибо она след от твоего прошлого. Он для тебя сейчас как свежий. Передохнув, он встал и пошел. Старая ветла, наклонившая у обочины, протяжно заскрипела. И ему показалось, что он слышит нудный скрип колес, не смазанных дегтем. Еще отец рассказывал, как ему, первенцу в большой семье, было поручено смазывать колеса телеги дегтем, висевшим в горшке под телегой. Чуть забудешься – и колеса скрипят, будь они неладны. И он в ответе. Запомнил же этот путь на всю жизнь. Из Томской губернии, через всю Сибирь пробиралась тогда на конной тяге, а то и пешком его семейство староверов по разбитым дорогам в загадочную страну у моря или за ним – Беловодье. За нее отец и голову положил, оставив ее как Малую родину от той, которую он искал. «Оставил мне, – подумал Николай Фотийвич, – как пуп на моем теле. А в душе – подсознательную тягу к ней. Отсюда и сила. Как в старой морской песни поется:
Дорога в жизни одна.
Ведет всех к смерти она.
И кто дорогу прошел,
Тот в жизни счастье нашел.
Найду ли я в конце концов. Это уж как судьба приложит. Я для нее сейчас, как ржавый якорь, входящий в клюз навечно. Что-то я не туда зарулил с этой песней. Позабористей она была перед этим последним куплетом. И он ни в том стиле. Кто- то перелопатил его согласно времени совсем не в лад. Помнится старый боцман наш, еще с Добровольного торгового флота напевал нам, пацанам на баке:
В таверне много вина,
Там пьют бокалы до дна
Среди персидских ковров
Танцуют «Танго цветов».
И не станцевать ли мне наперекор судьбе как в той бесшабашной песенке:
Матрос был зол и ревнив,
Услышав шутку над ним,
И, возмутивши весь зал,
Вонзил в барона/То бишь, в судьбу/ кинжал.
Это другое дело. А то клюз. Что отец бы сказал. Мне надо вернуться с таким же восприятием к жизни, с каким я уходил в юности. И пришел я этой дорогой не для того, чтобы концы отбросить, а отдать должное месту, которое меня породило.
Поднялся на косогор к распадку, в который нырнула дорога, и у него перехватило дыхание. Но не от того, что сходу взял крутизну, а от того, что увидел перед собой, у дороги.
То был высоченный и в два обхвата многолетний Кедр. И показался он ему стражем того, что было за ним и покой которого он охранял вооруженный своей мощью, густой хвоей, очищающий воздух до голубой
прозрачности, да и живицей, сочившейся по глубоким трещинам в толстой коре и застывающей целебной смолой.
– Но его же не было! – изумился Николай Фотийвич. – Это я точно помню. Была кедрушка моего роста, когда я уходил. Отец еще говорил, что посадил ее в день моего рождения. А, когда она подросла и я подрос, как-то раз, в присутствии отца, ради шалости хотел сорвать распушившуюся верхушку. Отец во время одернул, наказав:
– Сынок, не ломай верхушку. Кедрушка вырастит, а шишек не даст. А кедр без шишек, что мужик без детей. Так что знай.
«Она выросла и стала таким кедром, – остановился Николай Фотийвич, с волнением любуясь Кедром и не обратив внимание почерневшую доску прибитой к его стволу с какой-то надписью. – Он мой одногодок. И какой! И не надо жаловаться ему. У него, наверное, шишек на верхушке бывает навалом. А у моя судьба надавала шишек да каких. Но я ведь все на ногах. И пришел, надеясь увидеть родину мою здравствующей. И ты для меня добрый знак. И не приветствие ли на доске прибито для таких как я, безродных сыновей, – и подошел поближе.
Глава четвертая.
Р А Й
На доске большими буквами было вырезано «РАЙ» А ниже поменьше, но четко и свежее: «Нехристям вход воспрещен!»
«Вот тебе на!» – усмехнулся Николай Фотийвич. – Не усмехайся, однако, раньше времени. Ежели ты нехристь не пущу. – раздался бас как показалось в густой кроне кедра.
– Я крещенный в лохани, – нашелся Николай Фотейвич и задрал голову. Он не лгал. Ему еще мать рассказывала со смехом, когда он подрос: «Ты, Никанорка, дважды крещенный. Первый раз с печки, на край, который я тебя второпях положила, брякнулся прямо в лохань. Второй раз в речной купели. Так что жить будешь».
– Однако, паря, ты под ноги гляди. «Рай наш у нас на земле, а не на небе», – произнес назидательно все тот же голос уже совсем рядом. И из-за Кедра показался мужик как его дополнение. Такой же торсом, такой же заросший, только рыжей бородой, закрывающей всю грудь. И ясными, как озоновое небо над Кедром, глазами. Чем-то ко всему напомнил отца, наверное, больше одеждой.

