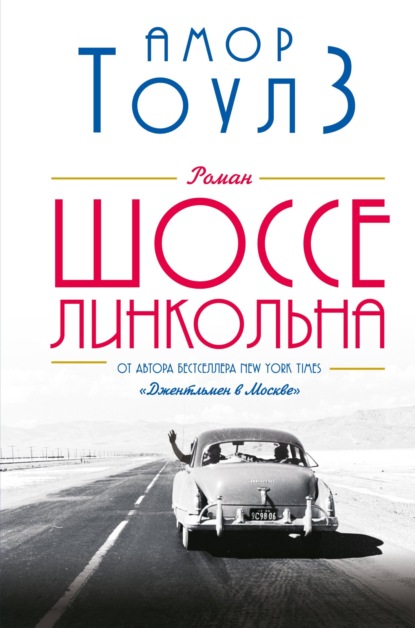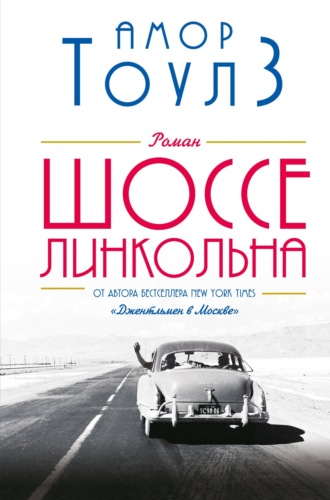
Полная версия
Шоссе Линкольна
Что тут говорить: большинству людей, чтобы сложить два и два, нужен телескоп и стремянка. Вот почему объясняться с ними – одна морока. Но не с Эмметом Уотсоном. Он с первого взгляда видит всю картину целиком – и в общем, и во всех деталях. Я поднял руки – сдаюсь.
– Согласен на сто процентов, Эммет. Я то же самое пытался объяснить Вулли, в тех же словах. Но он не слушал. Он твердо решил свалить. У него был целый план. Смоется в субботу ночью, рванет в город, угонит машину. Даже нож притырил, когда дежурил на кухне. Да не столовый. Разделочный для мяса. А сам мухи не обидит. Мы-то с тобой знаем. А полицейские не знают. Видят дерганого парня, взгляд блуждает, мясницкий нож в руке, – и валят его, как собаку. И я сказал ему, если положит нож, где взял, помогу ему по-тихому выбраться из Салины. Он вернул нож, мы залезли в багажник – и вуаля, мы тут.
И все это было правдой.
Кроме ножа.
Это называется приукрашиванием – безобидное маленькое преувеличение ради яркости. Вроде громадных часов в номере Казантикиса или пинкертона, стреляющего в замок. Эти мелочи как будто не нужны на первый взгляд, но сообщают представлению убедительность.
– Эммет, ты меня знаешь. Я мог бы отбыть свой срок и еще отбыть за Вулли. Пять месяцев, пять лет – один черт. Но при том, в каком состоянии у него мозги, думаю, он не выдержал бы еще и пяти дней.
Эммет посмотрел в ту сторону, куда ушел Вулли.
Мы оба знали, что его беда – в богатстве. Он вырос в доме со швейцаром в Верхнем Ист-Сайде, у него загородный дом, машина с шофером, повар на кухне. Его дед дружил и с Тэдди, и с Франклином Рузвельтами, а отец был героем Второй мировой войны. Но такого большого везения иногда оказывается слишком много. Бывает, в чувствительной душе перед лицом такого изобилия поселяется смутная тревога, словно бы эта груда домов, автомобилей, Рузвельтов разом обвалится на него. Сама мысль об этом отнимает у него аппетит и раздергивает нервы. Ему трудно сосредоточиться, и это мешает читать, писать, складывать и вычитать числа. Его попросили из одной школы-пансиона – его сдают в другую. А потом еще в другую. В итоге такому парню нужно как-то от мира отгородиться. И кто его за это упрекнет? Я первый вам скажу, что богачи не заслуживают и двух минут вашего сочувствия. Но такой душевный человек, как Вулли? Это совсем другая история.
По лицу Эммета я видел, что он занят такими же расчетами, думает о нежной натуре Вулли и не знает, отправить ли его обратно в Салину или помочь ему благополучно сбежать. Дилемма была непростая. Но потому, наверное, и называется дилеммой.
– День был трудный, – сказал я и положил руку Эммету на плечо. – Давай-ка вернемся в дом и преломим хлебушек? На сытый желудок мы лучше разберемся, что и почему.
* * *Деревенская кухня.
На востоке часто о ней слышишь. Это из тех вещей, о которых люди говорят с почтением, хотя лично с ними не сталкивались. Вроде правосудия или Иисуса Христа. Но в отличие от большинства таких вещей, которыми люди восхищаются издали, деревенская стряпня заслуживает восхищения. Она в два раза вкуснее той, что подадут в «Дельмонико», – и без всяких прибамбасов. Может быть, потому что готовят по рецептам, выработанным прапрабабушками, которые ехали в фургонах на Запад. А может быть, потому что столько часов деревенские проводили в обществе свиней и картошки. Так или иначе, я отодвинул тарелку только после третьей порции.
– Вот это накормили.
Я спросил мальчишку – его голова едва возвышалась над столом:
– Билли, как зовут ту симпатичную брюнетку? В платье с цветами и рабочих ботинках – надо бы поблагодарить ее за вкусную еду?
– Салли Рэнсом, – сказал он. – А запеканка с курицей. Из ее собственной курицы.
– Собственной курицы? Эммет, как там эта пословица? Путь к сердцу мужчины через что?
– Она соседка, – сказал Эммет.
– Понятно. А у меня соседей туча, и хоть раз бы кто угостил запеканкой. А у тебя, Вулли?
Вулли вилкой рисовал спирали в остатках соуса.
– Что?
– Тебя соседка когда-нибудь угощала запеканкой? – спросил я громче.
Он задумался на минуту.
– Я никогда не ел запеканку.
Я поднял брови и улыбнулся мальчишке. Он тоже поднял брови и улыбнулся.
Запеканка – не запеканка, Вулли вдруг поднял голову, как будто ему пришла мысль.
– Слушай, Дачес. Ты не спросил Эммета насчет эскапады?
– Эскапады? – переспросил Билли, и голова его чуть приподнялась над столом.
– Мы еще и поэтому сюда приехали. Хотим устроить, малыш, небольшую эскападу и надеялись, твой брат в ней поучаствует.
– Эскападу… – повторил Эммет.
– Лучше слова не придумали, поэтому назвали так, – объяснил я. – Но дело хорошее. Похвальное дело. По сути, исполнение последней воли умирающего.
Я стал объяснять, поглядывая то на Эммета, то на Билли – оба слушали, широко раскрыв глаза.
– Когда дед Вулли умер, он оставил для него деньги в доверительное управление. Вулли, так это называется?
Вулли кивнул.
– Доверительное управление – это особый вклад для несовершеннолетнего, и до совершеннолетия им распоряжается попечитель. А после совершеннолетия он может сам делать с деньгами что хочет. Но когда Вулли исполнилось восемнадцать, благодаря какой-то юридической хитрости попечитель – это муж сестры Вулли, объявил его временно недееспособным. Правильное слово. Так, Вулли?
– Недееспособным, – с виноватой улыбкой подтвердил Вулли.
– Таким образом, этот муж сестры сохранил право распоряжаться вкладом, пока Вулли не станет дееспособным или не умрет, – неважно, что случится раньше.
Я покачал головой.
– И еще называютдоверительным управлением.
– Но это дело Вулли, Дачес. К тебе это какое имеет отношение?
– К нам, Эммет. К нам имеет отношение.
Я придвинул свой стул к столу.
– У Вулли и его семьи есть дом на севере штата Нью-Йорк.
– Дача, – сказал Вулли.
– Дача, – исправился я. – Время от времени семья собирается там. Ну вот, во время депрессии, когда стали лопаться банки, прадед Вулли решил, что больше не может вполне положиться на американскую банковскую систему. И на всякий случай спрятал полтораста тысяч долларов наличными в сейф на даче. Но что интересно – даже можно сказать, судьбоносно – этот доверительный фонд Вулли составляет сейчас почти точно сто пятьдесят тысяч долларов.
Я помолчал, чтобы до них дошло. Потом посмотрел на Эммета.
– И поскольку Вулли человек великодушный и скромный в своих потребностях, он предложил: если ты и я поедем с ним в Адирондакские горы и поможем овладеть тем, что принадлежит ему по праву, то он разделит добытое на три равные части.
– Сто пятьдесят тысяч долларов разделить на три, будет пятьдесят тысяч долларов, – сказал Билли.
– Точно, – сказал я.
– Все за одного, один за всех, – сказал Вулли.
Я откинулся на спинку; Эммет смотрел на меня. Потом повернулся к Вулли.
– Это была твоя идея?
– Это была моя идея, – подтвердил Вулли.
– И ты не вернешься в Салину?
Вулли положил руки на колени и помотал головой.
– Нет, Эммет. Я не вернусь в Салину.
Эммет испытующе смотрел на Вулли, словно пытаясь сформулировать еще один вопрос. Но Вулли, по природе не склонный отвечать на вопросы и хорошо научившийся от них уклоняться, принялся очищать тарелки.
Эммет в замешательстве провел ладонью по губам. Я наклонился к нему.
– Одна загвоздка: дом открывают там в последнюю субботу июня, это оставляет нам мало времени. Мне надо заехать в Нью-Йорк повидать отца, а потом мы прямо в Адирондакские горы. Мы вернем тебя в Морген к пятнице, немного усталого с дороги, но на пятьдесят тысяч богаче. Подумай минутку, Эммет… Как обойдешься с пятьюдесятью тысячами? Что бы ты с ними сделал?
Ничего нет загадочнее человеческих желаний – так тебе скажут мозгоправы. Они говорят, что побуждения человека – это за`мок без ключа от ворот. Побуждения человека – многослойный лабиринт, и поступки часто выскакивают из него как будто бы без смысла и причины. Но на самом деле все не так сложно. Если хочешь понять, что движет человеком, достаточно спросить его: «Что бы ты сделал с пятьюдесятью тысячами долларов?»
Когда задаешь такой вопрос, большинству людей требуется несколько минут, чтобы взвесить возможности и определиться со своими предпочтениями. И это объясняет все, что тебе надо о них знать. Но когда задаешь такой вопрос человеку солидному, чье мнение для тебя важно, он ответит в мгновенье ока – и в подробностях. Он уже думал о том, что сделать с пятьюдесятью тысячами. Думал, когда копал канавы, или перекладывал бумажки в конторе, или метал еду на стол в кабаке. Он думал об этом, пока слушал жену, укладывал спать детишек или глядел в потолок среди ночи. В каком-то смысле, думал об этом всю жизнь.
Когда я задал вопрос Эммету, он не ответил, но не потому, что не знал ответа. По выражению его лица понятно было, что он точно знает, как распорядиться пятьюдесятью тысячами – до пятака, до цента.
Мы сидели молча; Билли смотрел то на меня, то на брата и опять на меня. А Эммет смотрел через стол на меня так, словно нас было двое в комнате.
– Дачес, может, это была идея Вулли, а может, еще чья-то. Все равно – я в этом не участвую. Ни в Нью-Йорк не еду, ни туда на дачу, и пятьдесят тысяч мне не надо. Завтра мне надо сделать кое-что в городе. А в понедельник, прямо с утра, мы с Билли отвезем тебя и Вулли на автобусную станцию в Омахе. Оттуда можешь ехать в Нью-Йорк, или в Адирондакские горы, или куда захочешь. А мы с Билли сядем в «студебекер» и отправимся по своим делам.
Эммет произнес эту маленькую речь с очень серьезным видом. Я еще не видел его таким серьезным. Он не повышал голоса и не сводил с меня глаз – даже не взглянул на Билли, – тот изумленно ловил каждое слово.
И тут до меня дошло, какую я допустил оплошность. Изложил все детали в присутствии малыша.
Как я уже говорил, Эммет Уотсон ухватывает всю картину лучше большинства людей. Он понимает, что человек может терпеть, но до определенного момента; что иногда бывает нужно бросить гаечный ключ в шестеренки мира, чтобы получить положенное ему Богом. Но Билли? В свои восемь лет он, наверное, не видал ничего, кроме Небраски. От него нельзя ожидать понимания всех сложностей современной жизни, того, что правильно, а что неправильно – всех тонкостей. Ине надо, чтобы понимал. И Эммет, как старший брат, единственный опекун и защитник, обязан оберегать его от всех превратностей как можно дольше.
Я откинулся на спинку и кивнул – все понятно.
– Можешь не продолжать, Эммет. Я тебя услышал.
* * *После ужина Эммет сказал, что идет к Рэнсомам – попросит соседа приехать и дернуть машину. До их дома была миля, я предложил пройтись с ним, но он счел, что Вулли и мне лучше не лезть на глаза. Я остался на кухне и болтал с Билли, а Вулли мыл тарелки.
Из того, что я рассказал вам о Вулли, вы могли бы заключить, что он не создан для мытья посуды, что глаза у него остекленеют, мысли унесутся прочь, и работа будет сделана тяп-ляп. Но Вулли мыл посуду так, как будто от этого зависела его жизнь. Опустив голову под углом в сорок пять градусов и высунув кончик языка, он водил губкой по тарелке неустанно и сосредоточенно, смывая пятнышки, которые были здесь годами, и те, которых вообще не было.
Это было удивительно. Но, как я уже сказал, – люблю неожиданности.
Когда я снова обратил взгляд на Билли, он разворачивал пакетик фольги, вынутый из вещмешка. Из фольги он осторожно извлек четыре печенья и разложил на столе – по одному перед каждым стулом.
– Так, так, так, – сказал я. – Что мы имеем?
– Печенье с шоколадной крошкой, – сказал Билли. – Салли испекла.
Пока мы молча жевали, я заметил, что Билли смущенно смотрит в стол, как будто хочет что-то спросить.
– О чем задумался, Билли?
– Все за одного, один за всех, – неуверенно сказал он. – Это из «Трех мушкетеров», да?
– Точно, mon ami.
Можно подумать, что установив источник цитаты, малый будет ужасно доволен собой, но вид у него был унылый. Подавленный. При том, что одно упоминание «Трех мушкетеров» обычно вызывает у мальчишек улыбку. Так что огорчение Билли меня озадачило. Но, собравшись уже откусить от печенья, я подумал о том, как они разместились на столе… все за одного, один за всех…
И положил свое.
– Билли, ты смотрел «Трех мушкетеров»?
– Нет, – с оттенком прежней унылости ответил он. – Но я читал.
– Тогда ты лучше других должен знать, насколько неправильным бывает заглавие.
Билли поднял голову.
– Почему, Дачес?
– Потому что на самом деле это рассказ о четырех мушкетерах. Да, начинается он с прекрасной дружбы Ортоса, Пафоса и Артемиса.
– Атоса, Портоса и Арамиса?
– Точно. Ноглавная история там про то, как молодой искатель приключений…
– Д'Артаньян.
– …как Д'Артаньян сходится с этой удалой троицей. И спасает честь самой королевы.
– Правильно, – сказал Билли, выпрямившись на стуле. На самом деле, это рассказ о четырех мушкетерах.
Довольный проделанной работой, я сунул в рот остаток печенья и стряхнул крошки с пальцев. А Билли по-прежнему напряженно смотрел на меня.
– Чувствую, у тебя что-то на уме, юный Уильям.
Он подался вперед, насколько позволял стол, и заговорил вполголоса.
– Хочешь знать, что я сделал бы с пятьюдесятью тысячами?
Я тоже подался вперед и ответил тихо:
– Больше всего на свете.
– Я построил бы дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Белый дом, как этот, с маленькой верандой, кухней и гостиной. А наверху – три спальни. Только вместо сарая с трактором будет гараж для машины Эммета.
– Чудесно, Билли. Но почему Сан-Франциско?
– Потому что там мама живет.
Я откинулся на спинку.
– Не может быть.
В Салине, когда Эммет заговаривал о матери – а случалось это редко, – он всегда говорил в прошедшем времени. Но не было речи о том, что мать уехала в Калифорнию. Он выражался так, как будто она отбыла в мир иной.
– Мы уедем сразу, как только отвезем тебя и Вулли на автобусную станцию, – объяснил Билли.
– Вот так просто – соберете все вещи, и в Калифорнию?
– Нет, Дачес, не все вещи. Мы заберем, сколько вместится в вещевой мешок.
– А зачем вы так поступите?
– Потому что Эммет и профессор Абернэти считают, что лучше всего начинать жизнь с чистой страницы. Мы поедем в Сан-Франциско по шоссе Линкольна, а когда приедем, найдем маму и построим себе дом.
У меня не хватило духу сказать мальчонке, что если мать не захотела жить в белом домике в Небраске, то не захочет жить и в белом домике в Калифорнии. Но, если отвлечься от причуд материнства, я прикинул, что для его мечты денег хватит с лихвой.
– У тебя прекрасный план, Билли. В нем есть конкретность, какая и должна быть в прочувствованном замысле. Но ты уверен, что мыслишь достаточно широко? С пятьюдесятью тысячами ты можешь замахнуться на большее. Можешь позволить себе бассейн и дворецкого. Гараж на четыре машины.
Билли с серьезным видом покачал головой.
– Нет. Не думаю, что нам нужны бассейн и дворецкий.
Я хотел ему мягко сказать, что не надо торопиться с решениями, что бассейн и дворецкий не так легко достаются, а уж если достались, то расставаться с ними ох как больно, – но тут вдруг у стола появился Вулли с тарелкой в одной руке и губкой в другой.
– Билли, никому не нужен бассейн и дворецкий.
Никогда не знаешь, что привлечет внимание Вулли. Это может быть птица, севшая на ветку. Или отпечаток подошвы в снегу. Или что-то кем-то сказанное вчера. Но если что-то завладело мыслями Вулли, то всегда стоит подождать. Он сел рядом с Билли, а я сразу пошел к раковине, выключил воду и вернулся на свое место, весь обратившись в слух.
– Никому не нужен гараж на четыре машины, – продолжал Вулли. – Но думаю, вам понадобятся несколько лишних спален.
– Почему, Вулли?
– Чтобы на праздники приезжали друзья и родственники.
Билли кивнул, одобряя здравый смысл сказанного, и Вулли стал выдвигать новые идеи, постепенно разогреваясь.
– Вам нужна будет веранда с крышей, чтобы сидеть в дождливые дни или лежать на крыше теплыми летними вечерами. А в доме должен быть кабинет и комната с камином, большим, чтобы вы могли собраться перед ним, когда идет снег. А еще тебе нужно будет секретное место под лестницей и специальное место в углу для рождественской елки.
Теперь его было не остановить. Он попросил карандаш и бумагу, придвинул свой стул к Билли и стал рисовать детальный план. Это был не какой-нибудь набросок на салфетке. Вулли рисовал поэтажные планы так же, как мыл тарелки. Комнаты в масштабе, стены параллельны, строго под прямыми углами. Любо-дорого смотреть.
Не говоря уже о преимуществах крытой веранды перед четырехместным гаражом, надо отдать должное фантазии Вулли. Дом, спроектированный им, был втрое больше того, который воображал сам Билли, и это, должно быть, произвело впечатление. Когда Вулли закончил чертеж, Билли попросил его нарисовать стрелку с направлением на север и большую красную звездочку там, где должна стоять рождественская елка. Когда Вулли нарисовал, Билли аккуратно сложил план и спрятал в вещмешок.
Вулли тоже был доволен. Но когда Билли застегнул ремешки и вернулся на свое место, Вулли как-то грустно улыбнулся ему.
– Хотел бы я знать, где моя мама, – сказал он.
– Почему так, Вулли?
– Чтобы поехать искать ее, как вы.
* * *Когда посуда была вымыта и малыш повел Вулли наверх, показать, где душ, я походил по дому, огляделся.
Что отец Эммета разорился, мы знали. Но даже с первого взгляда было понятно, что виной тому не пьянство. Когда хозяин дома пьяница, это сразу видно. Видно по состоянию мебели и двора. По выражению на лицах детей. Но, если и был отец Эммета трезвенником, я подумал, что должна быть где-то припрятана бутылка – яблочной водки или мятной настойки – для особых случаев. В этих краях обычно так.
Я начал с кухонных шкафов. В первом были мелкие и глубокие тарелки. Во втором стаканы и кружки. В третьем я увидел обычный набор продуктов, но никакой бутылки, даже спрятанной за десятилетней давности горшком патоки.
В буфете тоже никакой заначки с самогоном. Но на нижней полке я увидел пыльные горки фарфоровой посуды. Не просто обеденной. Глубокие тарелки, салатные, десертные, покосившиеся горки кофейных чашек. Я посчитал, на двадцать персон, – и это в доме, где нет обеденного стола.
Вспомнил: Эммет, кажется, говорил, что родители выросли в Бостоне. Ну, если в Бостоне, то не иначе как в Бикон-Хилл. Такого сорта вещи дают в приданое невесте из аристократов, в расчете, что посуда будет переходить из поколения в поколение. Но она едва помещалась в шкафу и в вещевой мешок точно не поместится. Что заставило меня задуматься…
В гостиной бутылку спрятать было негде, только в старом бюро в углу. Я сел в кресло и поднял крышку. На столе обычные вещи – ножницы, нож для открывания писем, блокнот и карандаш – но ящики набиты всякой всячиной, совершенно неуместной тут, – старый будильник, половина карточной колоды, россыпь пяти- и десятицентовиков.
Я сгреб мелочь (не пропадать же добру) и, затаив дух, выдвинул нижний ящик – классическое место для заначки. Но бутылке поместиться здесь было негде: ящик был доверху набит письмами.
Какими – с первого взгляда было ясно: неоплаченные счета. От газовой компании, электрической компании, телефонной компании и от всех других, у кого хватило глупости продлить Уотсону кредит. На самом дне – первые извещения, потом напоминания, а на самом верху отказы в обслуживании и угрозы судом. Некоторые конверты даже не были вскрыты.
Я улыбнулся про себя.
Было что-то трогательное в том, что мистер Уотсон держал эту коллекцию бумаг в нижнем ящике, в полушаге от мусорной корзины. Предать их вечности было бы не труднее, чем хранить. Может быть, он просто не мог признаться себе, что никогда не заплатит.
Мой папаша утруждаться не желал. У него неоплаченный счет отправлялся в мусор без задержки. У него была такая аллергия на саму бумагу со счетами, что он избегал даже быть настигнутым ими. Вот почему несравненный Гаррисон Хьюитт, изрядный педант в отношении английского языка, случалось, писал свой адрес с ошибками.
Но вести войну с почтовым ведомством США – дело непростое. В его распоряжении целый парк грузовиков и армия пехотинцев, чья единственная цель в жизни – сделать так, чтобы конверт с твоей фамилией очутился в твоих лапках. Вот почему Хьюитты, случалось, прибывали через вестибюль, а убывали по пожарной лестнице, обычно в пять часов утра.
«Ах, – говорил мой папа, задержавшись на площадке между четвертым и третьим этажами и показывая на восток. – Розовоперстая заря! Считай себя счастливцем, что можешь ее лицезреть, мой мальчик. Иные короли в глаза ее не видели!»
За окном послышался шум – пикап мистера Рэнсома свернул на дорожку. Свет фар обмел комнату справа налево, машина миновала дом и направилась к сараю. Я задвинул нижний ящик бюро; пусть извещения пребывают в целости и сохранности до Страшного суда.
Наверху я заглянул в комнату Билли. На кровати растянулся Вулли. Он тихо напевал и глядел на самолеты под потолком. Наверное, думал об отце в кабине истребителя на высоте десяти тысяч футов. Вот где он навсегда останется для Вулли: где-то между взлетной палубой авианосца и дном Южно-Китайского моря.
Билли я нашел в отцовской комнате; он сидел по-турецки на покрывале рядом с вещмешком и с большой красной книгой на коленях.
– Привет, ковбой. Что читаешь?
– «Компендиум героев, авантюристов и других неустрашимых путешественников» профессора Абакуса Абернэти.
Я присвистнул.
– Звучит внушительно. Интересная?
– Я прочел ее двадцать четыре раза.
– Тогда «интересная», пожалуй, слабое слово.
Я прошелся по комнате из угла в угол; Билли перевернул страницу. На бюро стояли две фотографии в рамках. На одной стоял муж и сидела жена в нарядах начала века. Конечно, Уотсоны, еще бостонские. На другой – Эммет и Билли несколько лет назад. Они сидели на той же веранде, где сегодня сидел Эммет с соседом. Фотографии матери Эммета и Билли не было.
– Слушай, Билли, – сказал я, вернув снимок братьев на бюро. – Можно задать тебе вопрос?
– Да, Дачес.
– Когда твоя мама уехала в Калифорнию?
– Пятого июля тысяча девятьсот сорок шестого года.
– Довольно точное сведение. Так вот, взяла и уехала? И никаких от нее вестей?
– Нет, – Билли перевернул страницу. – Вести были. Она прислала нам девять открыток. Поэтому мы и знаем, что она в Сан-Франциско.
Впервые с тех пор, как я вошел в комнату, он оторвался от книги.
– Дачес, а можно тебе задать вопрос?
– Любезность за любезность, Билли.
– Почему тебя так прозвали?
– Потому что я родился в округе Датчес.
– Где этот округ?
– В пятидесяти милях к северу от Нью-Йорка.
Билли выпрямился.
– От города Нью-Йорка?
– От него.
– А ты когда-нибудь был в городе Нью-Йорке?
– Я побывал в сотне городов, Билли. Но в городе Нью-Йорке я бывал чаще, чем где-либо.
– Там профессор Абернэти живет. Вот, смотри.
Он перевернул несколько первых страниц и протянул книгу.
– Билли, у меня от мелкого шрифта голова болит. Сделай одолжение?
Он опустил глаза и стал читать, водя пальцем.
«Дорогой читатель, я пишу тебе в моем скромном кабинете на пятьдесят пятом этаже Эмпайр-стейт-билдинга на углу Тридцать четвертой улицы и Пятой авеню на острове Манхэттен в городе Нью-Йорке на северо-восточном краю нашей большой страны – Соединенных штатов Америки».
Билли посмотрел на меня выжидательно. Я ответил вопросительным взглядом.
– Ты когда-нибудь встречался с профессором Абернэти? – спросил он.
Я улыбнулся.
– Я встречался с сотнями людей в нашей большой стране, со многими на острове Манхэттен, но, сколько помню, не имел удовольствия видеть твоего профессора.
– А, – сказал Билли.
Он помолчал, потом наморщил лоб.
– Еще вопросы? – сказал я.
– Почему ты побывал в сотне городов?
– Мой отец был служителем Мельпомены. Постоянным нашим местом был Нью-Йорк, но большую часть года мы ездили из города в город. Эту неделю в Баффало, следующую – в Питтсбурге. Потом Кливленд или Канзас-Сити. Я даже в Небраске был какое-то время, веришь или нет. Примерно в твоем возрасте – жил какое-то время на окраине городка под названием Льюис.
– Я знаю Льюис, – сказал Билли. – Он на шоссе Линкольна. Между нами и Омахой.
– Серьезно?
Билли отложил книгу и взялся за свой мешок.
– У меня карта. Хочешь посмотреть?
– Верю тебе на слово.
Билли отпустил вещмешок. И снова наморщил лоб.
– Если вы ездили из города в город, как же ты ходил в школу?
– Не все, что стоит знать, собрано под обложками учебников, мой мальчик. Скажем так: моей академией была улица, моим учебником – жизненный опыт, моим наставником – переменчивый перст судьбы.