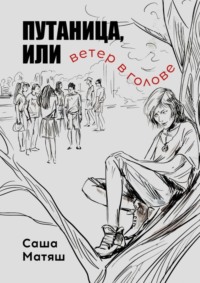Полная версия
Путаница, или Ветер в голове
Время остановилось. Гремя пустыми баками, мимо проковылял дворник. Вожатая восьмого отряда отнесла в прачечную мешок с бельем и вернулась обратно. Весной на городской олимпиаде по физике я занял четвертое место. Моя учительница Светлана Владимировна – она хотела первое – сказала, что спешка меня погубит. Это неправда, я никогда не спешу. Я терпелив, как удав, но сидеть и ждать ненавижу. Вдруг я сделал ошибку, предположив, что удочка и рыбалка – это звенья одной цепи? Я опустил ногу и, нащупав подошвой траву, легонько оттолкнулся. Все предметы вокруг меня: качели-лодочки, качели-лошадки, небо и край забора – пришли в движение – и поплыли по кругу, постепенно теряя очертания, растекаясь в воздухе, как акварель, тронутая влажной кисточкой. Очень неприятно рассказывать о себе иные вещи, но вестибулярный аппарат достался мне от мамы. Ее беспокоят рыбки у соседки в аквариуме, и ей приходится возвращаться домой, не дослушав самого интересного. В общем, через минуту я сцепил зубы. Наконец из-за угла показался Славик. Я оказался прав. Он быстро удалялся в сторону моря. Вряд ли за такое короткое время он успел разглядеть меня, а тем более запомнить, но из предосторожности я сосчитал до ста и только после этого остановил карусель.
Когда я подходил к гаражу, меня все еще сильно покачивало. Я с опаской переступил порог. В нос ударил отвратительный запах рыбы и паленой резины. Стараясь не дышать, я подошел к машине. Задний борт грузовика был открыт. Рядом на земляном полу лежали сложенные в стопку дрова, аптечка и две лопаты. Значит, кто-то здесь уже был, и этот кто-то придет еще. Я забрался в кузов и, спотыкаясь о рыбацкие снасти, пробрался к переднему борту. Я оставил ведро среди тюков с каким-то тряпьем и начал выбираться обратно. Перед тем как соскочить на землю, я оглянулся. Солнце проникало в гараж через узкие оконца под потолком. В его лучах слово «кухня» отливало перламутром. Я подумал, что легко найду его ночью при лунном свете. Я стоял неподвижно, а буквы продолжали плясать перед глазами, будто кто-то дергал их за веревочки. И этот запах… Если бы только не этот ужасный запах. Внезапно к горлу подкатил комок, и я почувствовал, что меня вот-вот стошнит. Проклятая карусель! Обливаясь холодным потом, я дотащился до детской площадки и там повалился в траву.
Пройти по раскаленным углям и этим поступком показать девчонке, что она тебе нравится, – идея смелая, но неумная. Это я понимал. Умные не начинают с костра, там они обычно заканчивают. И все-таки я решился. Одинцова была здесь. Ее приезд, необъяснимый и загадочный, толкал меня совершить что-то безумное.
Тогда, у сарая, я напрасно злился на Пашу. Одинцова действительно была «слишком партийная». Она вечно за что-то отвечала, к чему-то призывала и брала на себя ответственность. Ее ставили в пример. Ее любили в горкоме. Не могла она просто так появиться в обычном летнем лагере работников железнодорожного транспорта. Это было неправильно. Какой-то винтик в отлаженном механизме мироздания дал сбой. Так думал не один я. Загадку ее приезда уже третью неделю обсуждало сарафанное радио. Говорили, что прошлое лето она провела в Венгрии на озере Балатон. Мы учились в одной школе, и по этой причине считалось, что я могу помочь «следствию». Я молчал. Во-первых, о Венгрии я ничего не знал, а во-вторых, Одинцова была здесь, и все остальное перестало иметь значение.
Удивительно, но на вокзале в день отъезда мы не встретились. Засыпая под стук колес, я думал, что еду в лагерь в последний раз и что пора наконец осуществить давнюю мечту и хоть разок выбраться ночью к морю. А утром меня растолкал Паша и, ухмыляясь, сообщил, что Одинцова – «тоже мне звезда» – только что заходила поздороваться. «И, представляешь, уже успела пробиться в начальство. Будет помощницей вожатых. Вот лиса! Что угодно, лишь бы строем не ходить, – Пашу душило негодование. – Ты что молчишь? Вставай. Она бутерброды принесла. В прошлом году, кстати, сыра не было».
Я чуточку приоткрыл глаза. Пашины губы двигались у самого моего уха. Звуки медленно собирались в слова, слова – в предложения. Одинцова была ? Как это вообще возможно? Через несколько минут я все же спустился вниз, съел бутерброд, выпил стакан чая и, отвернувшись к окну, задумался. здесь
Роясь в маминых журналах, я часто натыкался на статьи про то, как быт убивает любовь. Кто знает, это могло быть правдой. До сих пор я воображал себя печальным рыцарем, о подвигах которого прекрасная дама узнает из песен уличных менестрелей. А что теперь? Нам придется встречаться в столовой за тарелкой молочной вермишели, а потом и того хуже – она увидит меня на пляже в трусах.
Я думаю, что всякая история любви развивается по одному из трех сценариев. Мне достался тот, где любят оба: он – ее, а она – всех на свете. В седьмом классе она писала мне длинные письма, аккуратно выделяя деепричастные обороты круглыми, как в прописях, запятыми. Меня приглашали в секцию фехтования, ансамбль народной музыки, мне предлагали стать другом по переписке неизвестного венгерского пионера. Я наивно решил, что она от меня без ума, но скоро узнал, что письма приходят всем. Я сказал себе: «Ах вот как? За кого она меня принимает?» Если кто-то еще не понял, взаимоотношения полов – это бег по минному полю. Шаг в сторону – и всему конец: ты навсегда застрял в каком-нибудь смешном амплуа «школьного товарища» или того хуже – «друга семьи». Это в мои планы не входило. В общем, к ансамблю народной музыки я не примкнул. А она и не заметила. Или все-таки заметила? Относительность знания – вот что убивает меня в диалектике: ничего нельзя сказать наверняка. Так прошел год. В восьмом классе письма закончились. Она перестала заплетать косички, и домой ее стал провожать долговязый парень из девятого «А» – они вместе посещали секцию фехтования. Половина моих одноклассников, вступивших-таки в переписку с венгерскими пионерами, готовились теперь к поездке в Москву. А я проводил тоскливые вечера под ее окнами.
И вот Одинцова была здесь. На веранде у стены лежали ее шлепанцы со сбитыми задниками. Каждое утро, проходя мимо, я заговаривал с ними. «Милые, вы мои милые. Как же я вам завидую». На веревке у умывальников висело ее полотенце, розовое с красными петухами. Иногда по соседству с петухами появлялось платьице, мое любимое – белое, в мелких, как горох, голубых васильках. В ветреный день, если подойти совсем близко, мокрая охапка васильков летела прямо в лицо, оставляя на губах горьковатый хвойный привкус туалетного мыла. Я понимаю тайный язык знамений. Ответить на это чудо можно было только одним способом – совершив сколько-нибудь равное чудо взамен.
Где-то рядом надрывно гудела муха. Звук этот – навязчивый и нервный – долго висел на краю сознания. Но стоило мне его назвать, как он стремительно приблизился и наконец вытеснил все. Я открыл глаза. Облака больше не неслись по небу в сумасшедшем хороводе, а плыли медленно и величаво. Над головой качались стебли травы. Я чувствовал на лице их полосатую тень. Слева возвышался штакетник, увитый хмелем и паутиной. Муха, должно быть, застряла где-то там. Я скосил глаза и сквозь зеленую сетку травы увидел бьющийся в паутине комок. Смерть мухи по сравнению с тепловой смертью Вселенной – событие микроскопическое. И все же мне стало неуютно. Может быть, потому, что галактики умирают молча, а муха отчаянно цеплялась за жизнь. Я пошарил в кармане штанов и в куче всякой полезной мелочи нашел небольшой пузырек из-под репейного масла. Потом, не отрывая от мухи глаз, я встал на колени и, держа пузырек наготове, двумя пальцами крепко сжал изумрудно-синее брюшко. Муха затихла. Я осторожно опустил ее в пузырек. Немного одуревшая, она сидела теперь на дне и слабо шевелила крыльями, напоминая рыбу в аквариуме. Я приладил на место пробку и поднес пузырек к лицу. Сквозь стекло на меня уставился незрячий фасеточный глаз. Жаль, что такую красоту никто не увидит. Снова порывшись в кармане, я отыскал обрывок бечевки, обвязал ее вокруг горлышка и надел пузырек на шею.
Теперь я торопился. Каждое утро после завтрака я играл в пинг-понг. Моя учительница Светлана Владимировна говорит, что у самородка все от бога и ничего от среднего учебного заведения. Если она права, то ловко отбивать шарик на другую половину стола – мой единственный настоящий и безусловный талант. Играть в пинг-понг я никогда не учился. Как только знающие люди начинают говорить о накатах и подрезках, я скромно умолкаю, чтобы не попасть впросак. Манеру игры я подсмотрел когда-то в детстве по телевизору и с тех пор играю, далеко отступив от стола, что не всегда оправданно, но смотрится эффектно. К тому же такой стиль ужасно раздражает соперников, и это тоже огромный плюс.
На площадке перед верандой уже толпились зрители. Перешагнув через чьи-то ноги, пожав на ходу несколько протянутых рук, я взлетел по ступенькам вверх. Паша ждал меня, развалясь в пляжном кресле, которое занимал на правах судьи. Увидев меня, он помахал рукой. Потом рука замерла, и Пашино лицо начало меняться. Он что-то знал. Что-то случилось. От недоброго предчувствия у меня сжалось сердце. Что, если, пока я отсутствовал, поход отменили? Я остановился у стола, и некоторое время мы молча смотрели друг на друга.
– Что случилось? – спросил я наконец.
Паша не отвечал.
– Говори как есть. Поход отменили?
Паша отрицательно помотал головой, потом нахмурился и тихо спросил:
– Что это ты нацепил? Сними. Скажут, что спятил.
Я не сразу понял, что он имеет в виду. Паше пришлось повторить:
– …эта фигня у тебя на шее. Сними, а то засмеют…
Муха! Я совсем забыл о ней. У меня отлегло от сердца. Объяснять Паше, что со мной приключилось, было некогда, да и незачем. Паша слишком верит в пользу коллективного разума и потому живет с оглядкой. Его волнует, что скажут люди. Переводя разговор в безопасное русло, я кивнул в сторону, где вдоль стены нетерпеливо прохаживался мой соперник.
– Что это с ним? Чем это он недоволен?
– Хочет, чтобы я засчитал тебе поражение.
– С какой стати?
– Говорит, что ты опоздал. Я сказал ему идти куда подальше.
Мой соперник Вадик Свисток, сообразив, что разговор идет о нем, подошел к столу. Бедняга был вечно вторым. Но ненавидел он меня не за это. Хотя, кто знает, может быть, и за это тоже.
Вадик считал себя артистом. Его мать, настоящая актриса, служила в городском драматическом театре, где он время от времени подрабатывал в массовке. Рассказывали что в каком-то спектакле он выбегал из-за кулис в коротких бархатных штанишках с фонарем в руке. Своей причастностью к театральной богеме Вадик очень гордился. Он был высоким, смуглым и улыбчивым, вокруг него постоянно крутились девчонки. Он делился с ними секретами актерского мастерства. «У артиста с короткими руками, – говорил Вадик, – нет будущего. Для выразительного жеста рука должна быть длинной». Слышать это было немного странно, как если бы пудель перешел вдруг на художественный свист. Я поделился этим соображением с парой-тройкой приятелей, и с тех пор за Вадиком закрепилась кличка Свисток. Вадик раздражал меня до беды. Я боялся, как бы этот артист чертов не задурил Одинцовой голову. Но тут мне повезло. Оказалось, что Вадик обожает пинг-понг. Он даже подавал какие-то там надежды в спортивной секции во Дворце пионеров. В день приезда он появился у стола с диковинной «лысой» ракеткой и пакетом оранжевых шариков. Любопытным Вадик объяснил, что оранжевые шарики легко отыскать на снегу. ,
– Сыграем? – обратился он ко мне. – Говорят, ты здесь что-то вроде чемпиона.
Эта неловкая грамматическая конструкция стоила Вадику очень дорого. Я разгромил его легко, с сухим счетом, хотя обычно не делаю этого из милосердия. Бедняга чуть не плакал. Я просто упивался его позором. «Брось, – сказал я. – Было бы из-за чего расстраиваться. Это хорошо, что ты тянешься к спорту. Да и, кстати, теперь ты знаешь, что в пинг-понг играют на столе, а не на снегу».
Через несколько дней, оправившись от унижения, Вадик обзавелся спарринг-партнером, приналег на тренировки и перестал появляться на танцах. Меня это устраивало. Еще больше это устраивало Пашу, который из-за Вадика чуть не потерял очередную невесту.
Паша привстал с кресла и поднял руку, привлекая к себе внимание.
– Люди! – выкрикнул он. – Мы начинаем. Попрошу соблюдать тишину и предупреждаю: чтоб не так, как в прошлый раз, – заходить за спины игроков во время матча строго воспрещается.
Пашу слушали вполуха. Исход матча ни у кого сомнения не вызывал. Вадик достал из чехла свою чудо-ракетку. Моя лежала на столе. Мы называли ее «деревяшкой». Когда я сжал ее в кулаке, она все еще была теплой и липла от чужого пота.
Перекрикивая гул голосов, Паша в который раз начал объяснять правила.
Иногда посмотреть игру приходила Одинцова. Вместе с вожатой Нюшей она устраивалась у стены всегда за моей спиной (ей Паша замечаний не делал). В такие дни я добровольно возлагал на себя обязанности спортивного комментатора и конферансье, демонстрируя собравшимся известные китайские заманухи и прочие чудеса настольного тенниса. Не знаю, как Одинцовой, но людям нравилось. Я гадал, придет она сегодня или нет. Хорошо бы, пришла.
Неожиданно я услышал за спиной непонятный шум. Я оглянулся. Девчонка в синем платье, перегнувшись через перила, пыталась втащить на веранду кого-то, кто стоял внизу. Я видел только руку, вцепившуюся в ее запястье. Это было странно. Я мог поклясться, что минуту назад никакой девчонки на веранде не было. Я выразительно посмотрел на Пашу. Делать замечания было обязанностью судьи. Но как раз в это время между Пашей и Вадиком разгорелась ссора, начало которой я пропустил.
– Почитай правила международной федерации, – раздраженно выговаривал Вадик.
– Не учи ученого. Какой еще «федерации»? Ты сначала играть научись.
– Это ты сперва научись. Ты хоть раз в турнире участвовал?
– Турнир-сортир, – презрительно отмахнулся Паша.
– Сам ты сортир, – ответил Вадик. Ругаться он не умел. Ему не хватало воображения.
– Так мы играем или как? – спросил я. – Люди ждут.
– «Люди ждут», – по инерции передразнил Вадик. А что сказать дальше, он не знал. Он так бы и простоял до вечера, если бы, на свое счастье, не заметил бедную муху. В ту же секунду его глаза торжествующе вспыхнули.
– Что это у тебя на шее? – с ухмылкой спросил он.
Отчитываться перед Вадиком я не собирался.
– Гляньте, что это у него?! – Вадик теперь обращался к зрителям. Его палец, как дуэльный пистолет, целился мне в грудь. – Ха-ха! Похоже на баночку для анализов!
Паша, которому уже давно не терпелось вмешаться, бросился мне на помощь.
– Какие анализы? Ты, чучело, за собой следи. На твоей шее, извиняюсь сказать, тоже кое-что болтается. Ах да, твоя уродливая голова.
Продолжая следить за перепалкой, я осторожно обернулся. Девчонка по-прежнему была на веранде. Все это время она потихоньку подбиралась к столу и стояла теперь совсем близко. Невозможно не замечать человека, который в упор тебя разглядывает.
– Тебе чего? – спросил я.
– А правда, что это у тебя в бутылочке? – Девчонка вытянула шею. – Оно как будто шевелится. – Выражение осторожного любопытства на ее лице сменилось брезгливостью.
Далась им эта бутылочка. Чтобы скрыть досаду, я решительно прикрикнул на Пашу и Вадика:
– Так мы играем или как?
Мне никто не ответил. Дело, судя по накалу страстей, стремительно шло к драке. Наконец, чуть толкаясь, Паша и Вадик начали спускаться по лестнице. Довольные зрители расступались, пропуская их вперед, готовясь тут же проследовать к месту поединка.
– Ты с нами? – спросил Паша, останавливаясь на последней ступеньке.
– Конечно. Я скоро. Если что, начинайте пока без меня.
На самом деле результат поединка не очень меня волновал. Тоже мне, два оленя! Мне хотелось побыть одному. Я ждал Одинцову. Вдруг она все-таки придет. Вдруг мы заговорим. Вдруг этот разговор превратится в долгую-долгую беседу. Вдруг все переменится, и костер не понадобится. Я опустился в пляжное кресло. Мне хотелось представить, что скажет она и что отвечу я. Но сперва должна уйти эта… Я огляделся по сторонам в поисках синего платья.
К моему удивлению, теперь их было трое. Сбившись в кучку, они стояли у стены и явно что-то замышляли. Заводилой была уже знакомая девчонка. Она с жаром объясняла что-то подружке и другой, с печальным продолговатым лицом. Заметив, что за ней наблюдают, она тут же замолчала. Я поспешно отвел глаза, но было поздно.
– Ты ведь Темников, правильно? – обратилась она ко мне. – Зои Алексеевны сын?
В ответ я что-то промямлил.
– У меня твоя фотография есть. Мы в третьем классе в заводском клубе на елке танцевали.
Она замолчала, давая мне время вспомнить ту самую елку. Я не вспомнил, и она представилась:
– Я Таня Огаркова. Наши мамы вместе работают.
Час от часу не легче. Хуже нет встретить кого-то, кто знает тебя и твоих родителей. Я уже так попадался. Упреков потом не оберешься: не то сказал, не так посмотрел… Я снова что-то пробормотал.
– Ты где так играть научился?
– В секции, – зачем-то соврал я.
– Очень здорово. Я всегда за тебя болею.
От моих спортивных успехов Таня Огаркова плавно вернулась к давнему эпизоду с елкой, потом упомянула, что сама занимается художественной гимнастикой – результаты не ахти, но диета губит фигуру, а заморить себя голодом она не хочет. При этом Таня все время двигалась. Она снимала с веревок одежду, убегала в спальню, возвращалась и ни разу не упустила нить разговора, если, конечно, такая нить была. Она перескакивала с предмета на предмет так ловко, будто носки вязала – без единого шовчика. Я начал уставать. К тому же, отслеживая ее перемещения, мне приходилось постоянно вертеть головой. Я боялся, что меня снова начнет тошнить.
Наконец она вернулась к столу.
– Эта штука у тебя на шее… интересно… Раньше в таких яд носили.
Я пожал плечами.
– Нет, правда, что это?
– Это детеныш шершня.
Я снова зачем-то соврал, но Таня, кажется, поверила.
– А можно посмотреть?
Все это было так не вовремя. Мне хотелось побыть одному, подумать о вечере, может быть, даже вернуться в гараж и хоть глазком взглянуть, что там происходит.
– Смотри. Мне-то что.
Близоруко щурясь, Таня принялась внимательно изучать бутылочку. Ее волосы щекотали мне шею.
– На муху похож, – сказала она наконец. – Девочки, правда на муху похож?
Девочки чинно подошли и встали рядом. Одну из них я, кажется, узнал. Она была вчера на аллее.
– Туда нужно травы постелить, – неожиданно предложила она. – Чтоб он мог гнездо свить.
Она протянула руку и ногтем постучала по стеклу. Муха заметалась, пытаясь взлететь. Подружки взвизгнули сначала от испуга, потом от восторга.
На этом мое терпение лопнуло.
– Ну вот что, невесты, хватит. Прием окончен. Орете, как на базаре. И не надо, не надо ко мне прижиматься.
– Пошли, девочки! – возмутилась Таня Огаркова. – Дуракам закон не писан.
– Именно, – согласилась подружка. – Пусть сначала созреет для взрослого общения.
Третья подружка с печальным лицом не сказала ничего. Она была здесь, как видно, за компанию и права голоса не имела.
Как только они ушли, я услышал шаги. Это была Нюша. Пришло время идти на море.
Глава третья
Свесив ноги, я сидел на подоконнике и наблюдал, как тень от розового куста, постепенно вытягиваясь, пересекает садовую дорожку и, надломившись у земли, медленно ползет вверх по стене, подбираясь к моим пяткам. Заняться чем-то более увлекательным в таком нервном состоянии я не мог. Я ждал вечера, а он все не наступал.
Наконец где-то за деревьями ожил громкоговоритель. Было ровно четыре часа. Валентина Борисовна, обговаривая с нами детали похода, распорядилась ждать ее в пять вечера в беседке у главных ворот. Я спрыгнул на пол и начал одеваться. В комнате было пусто. Паша с группой добровольцев помогал на кухне. Остальные разбрелись собирать хворост для будущего костра. Я надел тренировочные штаны, футболку с длинными рукавами, белую рубаху, не совсем просохшую после стирки, и шерстяные школьные брюки. Я читал где-то, что шерсть горит медленно, без гари и копоти, спекаясь в черный шарик. О костре я всеми силами старался не думать, но в результате думал о нем постоянно, до такой степени, что становился рассеянным. У двери я пригладил волосы, проверил пуговицы и вышел на раскаленную солнцем веранду. Из комнаты девочек доносились приглушенные голоса. Никто меня не окликнул.
Через несколько минут, задыхаясь от жары, я нырнул в зеленый полумрак беседки и, чтобы не привлекать к себе внимание, устроился в самом темном и пыльном углу. Допустим, резина не расплавится, допустим, штаны не сгорят, но что делать с лицом, с руками? А еще волосы… Этим мыслям не было конца. Они сплетались в моей голове, превращаясь в огромный запутанный клубок. Как его распутать, я не знал, поэтому, когда в беседке начали появляться люди, я почти обрадовался.
Из новостей последнего часа самыми обсуждаемыми были две. Обе касались Валентины Борисовны, а значит, и всех нас. Во-первых, Валентина Борисовна потерялась. Во-вторых, вслед за ней пропала вожатая Нюша, которая отправилась на ее поиски. Нужно было решать, что делать дальше: искать их или оставаться на месте. Завязался бестолковый спор, в самый разгар которого в беседке появилась группа добровольцев, работавших на кухне. На них набросились с расспросами. Отвечая кому-то, Паша невпопад заметил, что «ложки и вилки уже в пути». Это была контрольная фраза, о которой мы условились заранее. Она означала, что грузовик выехал за ворота и Паша лично его проводил. Мне очень хотелось узнать подробности, но расспрашивать при всех я побоялся. Из соображений конспирации мы решили держаться подальше друг от друга. Хотя, как я теперь понимал, внимательному наблюдателю такое поведение могло показаться странным. И все же интересно, как все прошло, видел ли он Нюшу, знает ли, куда пропала Валентина Борисовна.
Словно отвечая на мой вопрос, чей-то голос выкрикнул:
– Идут! Вон они!
Действительно, по боковой аллее неторопливым шагом к беседке приближалась Валентина Борисовна. Она была одна.
– Бедные вы мои, – сказала Валентина Борисовна, останавливаясь у входа, – кажется, я опоздала. Мне так жаль. И, господи, как же здесь душно. Как назло, с самого утра голова болит, просто раскалывается.
– Ой, что вы, Валентина Борисовна, – хором запели девочки. – Вы сегодня такая красивая.
– И ваше платье!
– И фасон…
– И прическа…
– И синий цвет! Он вам так идет.
Валентина Борисовна задумчиво расправила юбку:
– Вы думаете, синий? А мне казалось, лазоревый. «Лазурь небесная смеется, ночной омытая грозой…» – Она потерла висок. – Ох, бедная моя головушка. Наверное, к дождю. Ну а сами-то вы как? Дайте-ка я на вас посмотрю. Так… Все нарядные, красивые, глаза блестят.
Голос Валентины Борисовны как будто запнулся, наткнувшись на невидимую преграду.
– А это что такое? Погодите… Что это у вас на шее?
Весь день этот вопрос задавали мне. Моя рука сама собой потянулась к груди. Убедившись, что все пуговицы на месте, я огляделся. Удивительное дело, как это я сразу не заметил? Оказалось, что к походу готовился не один я. Беседка точь-в-точь напоминала выставку «Дары моря». Я нашел глазами Вадика. На его груди красовалась хищно растопыренная крабья клешня, покрытая, судя по зеркальному блеску, толстым слоем лака для ногтей, рядом на той же нитке болтался пустой пузырек из-под лака. Презренный подражатель. Я помахал рукой, пытаясь привлечь его внимание. Он демонстративно уставился в потолок. Глупо было расходовать, возможно, последние минуты моей драгоценной жизни на какого-то Вадика. Но тут дело было в принципе. Я насобирал на полу с десяток мелких камешков и начал швырять их в Вадика, целясь в голову. Наконец, красный от злости, он повернулся ко мне. Я показал ему «козочку». Он покрутил пальцем у виска.
– Ах, значит, крабы! – Валентина Борисовна распекала кого-то в дальнем конце беседки. – И ты действительно думаешь, что это красиво?
Несчастный что-то бормотал.
– Нет, милые, так дело не пойдет. Вы что, хотите нас всех опозорить? Вот вам моя шляпа. Все сокровища бросайте в нее. И не надо делать вид, будто вас убивают. Завтра я все верну, в целости и сохранности.
Бедняга, которому досталась шляпа, комкая ее, двинулся по кругу. Валентина Борисовна следовала за ним по пятам. В шляпу полетели медальоны, бусы, браслеты. Очередь дошла до меня.
– А с тобой что? Ты куда так тепло оделся? Мокрый как мышь.
– Нездоровится, – сказал я и прикрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Но Валентина Борисовна не уходила. Сквозь ресницы я видел неподвижное голубое пятно. «Ищет, к чему бы придраться», – промелькнуло у меня в голове.
– Ну что ж, – голос Валентины Борисовны стал удаляться, – кажется, мы готовы.