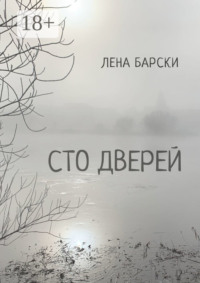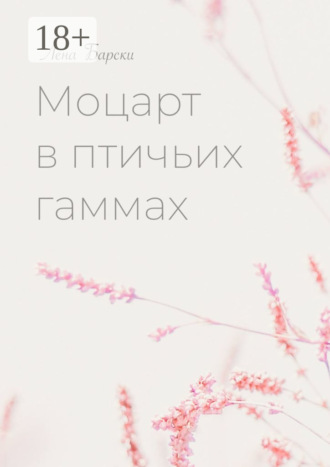
Полная версия
Моцарт в птичьих гаммах
В феврале бушуют бури. Антония, Ксандра, Зейнеп и Иления накрывают Европу одна за другой. И это как-то действует на нервы. Всё несется бегом, в направлении полного уничтожения, бледные, воспалённые глаза, острые локти, обрывки чужого сна. А в Японии в конце февраля зацветает сливовое деревце умэ. «Молись о счастливых днях! На зимнее дерево сливы будь сердцем своим похож» (Мацуо Басё).
В интернете (не в интернате) находим и читаем: «Слива умэ – это дерево высотой 5—7м, иногда кустарник. Его кора зеленовато-серая. Листья яйцевидные с вытянутой ланцетной вершиной, жёсткие, по краям узкие, зубчатые, снизу и иногда и сверху опушенные. Цветки ароматные, сидячие, или почти сидячие, нередко махровые, многочисленные, имеют белую или розовую окраску. Цветы японской сливы зацветают ещё в феврале, опережая сакуру на месяц. Цветы не умирают даже в студёную, морозную погоду. На дворе ещё лежит снег, стоит леденящий холод, а на приземистых деревьях сливы умэ, с их чёрными, узловатыми, перекрученными, точно проволока, ветвями распустились цветы. Кажется парадоксальным – среди снежных хлопьев, подобно вате повисших на ветвях, нежнейшие лепестки слегка розовеющих цветов японской сливы, распустившихся под лучами раннего весеннего солнца».
Легенды о самураях рассказывают о поэте Sugarawa No Michizane, который в десятом веке во время правления кайзера Дайго стал жертвой заговора и был отправлен из Kyoto в изгнание в Kyushu, где и умер в полном одиночестве от разбитого сердца. Позже, после смерти, он вернулся в виде чёрного облака в тогдашнюю столицу Японии и стал злым демоном, который терроризировал весь город и кайзера и не давал им ни минуты покоя. Кроме всего прочего, он написал стихотворение «Ода летающему сливовому деревцу»:
«Когда ветер веет с востока, пришли свой аромат, мой любимый сливовый цвет, своему хозяину (даже если твой хозяин больше не с тобой), не забудь, что уже наступила весна».
По преданию, сливовое деревце услышало это стихотворение и в ту же ночь освободило из земли корни, преодолело земное притяжение и полетело из Kyoto в Kyushu к своему хозяину в изгнании. Не только поэт любил сливовое деревце, но и деревце любило его. Но даже воссоединение с любимым сливовым деревцем не спасло его от отчаяния. Дух поэта после его смерти стал настолько злым, что даже другие несчастные души, которые точно так же бродили по улицам печального города Киото, его боялись. Поговаривали, что с ним лучше всего было разговаривать его собственными стихами. Когда он слышал собственные стихи в чужом исполнении, он начинал вздыхать и плакать и, как только стихотворение заканчивалось, он исчезал в тёмном небе.
Февраль – месяц для слабых духов. Слабых духом и слабых духов. Злых и отчаявшихся духов. Сентиментальных и одиноких одновременно. Огромное небо темнеет и становится мутным, ветер раскачивает деревья, полумёртвые листья медленно падают на поверхность воды. А где-то в Японии зацветает сливовое деревце. Его цветы – сидячие или полусидячие, что бы это ни значило, нередко махровые, многочисленные, имеют белую или розовую окраску и издают головокружительный аромат. «Верь в лучшие дни! Деревце сливы верит: весной зацветёт» (Мацуо Басё).
Вы только себе представьте: где-то ещё лежит снег, на деревьях ещё нет листьев, холодно и морозно, а на сливовом деревце распускаются цветы. Просто с ума можно сойти. И вот уже нет запаха мороси, влаги, мшистости и заплесневения. Нет всего этого земного, убогого и стародевичьего. Вот этого всего. А есть тонкий и изысканный, пьянящий аромат мечты. Обморок конца света плавно переходит в головокружение нового начала и надежды на освобождение. Злые духи дослушивают до конца собственные стихотворения в чужом исполнении, вздыхают, взлетают и исчезают в высоте.
«Когда ветер веет с востока, пришли свой аромат, мой любимый сливовый цвет, своему хозяину (даже если твой хозяин больше не с тобой), не забудь, что уже наступила весна».
«А разве такое возможно?» – спросите вы. Аромат, сливовый цвет, жизнь после смерти, преодоление земного притяжения, чудо возможно? «Стойкая слива сейчас, ещё зимой, хочет явить красоту, которую молчаливо копила в суровом замёрзшем мире. О, этот страстный дух красоты!» (Дзюн Таками).
В том-то и дело, что возможно. Там, где нас нет, всё всегда возможно.
РОДСТВЕННАЯ ДУША
Как то раз я поехала в булочную на машине.
Чтобы оправдать энергозатраты и не загрязнять лишний раз окружающую среду, решила покататься подольше: объехала два раза вокруг центра, проехалась несколько раз по кругу, по главной улице мимо основных достопримечательностей – школы, супермаркета, почты и парикмахерской. Потом подкатила к булочной и попробовала возле неё припарковаться.
С парковкой у меня всегда были сложности. Честно говоря, я могу парковаться только в поле и в бескрайних выжженных степях. Там у меня трудностей вообще не возникает. А перед маленькой булочной, прилепившейся с краю дороги, не могу.
Но в тот момент я этого ещё не знала.
Перед булочной за столом сидел какой-то неприглядный бомж с грязной шевелюрой. Я сдала задним ходом и начала срезать вправо к обочине, промахнулась с первого раза, вывернула и отъехала на пару метров вперёд, потом снова задним ходом по косой и с вывертом. Тык-мык, туда-сюда, методом проб и ошибок, и вот я уже стояла практически поперёк дороги. Плюнула, резко метнулась в сторону и понеслась к соседней школе, где простора было больше и возможностей для парковки соответственно тоже.
Назад в булочную вернулась уже пешком. На каблуках, элегантно, недостижимо, но пешком. Ещё издалека почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Это был тот самый бомж. Он внимательно смотрел на меня и, кажется, узнавал. Я решила проскочить мимо него бочком, незамеченной. Очень надеялась, что он всё-таки меня не узнает и вообще посмотрит в совсем другую сторону. Но не тут-то было. «Знаешь, – донеслось мне вслед, – у тебя бы всё получилось. Места-то было предостаточно. Но не волнуйся. Надо учиться, пробовать, и когда нибудь ты сможешь это сделать. Такое с каждым бывает».
Взгляд, которым он на меня при этом смотрел, был очень сложный. Он буравил, мерил и презирал, и сострадал одновременно.
Я не успела оглянуться, как уже сидела с ним за столом и что-то объясняла. Он кивал головой и продолжал смотреть сложным взглядом со смесью высокомерия, тревоги и сострадания. Потом придвинул ко мне пачку сигарет и дал прикурить. Вместе мы выдохнули сигаретный дым и стали молча смотреть перед собой. И у меня возникло чувство, как в том анекдоте: ползёт один земляной червь под землёй и встречает ещё одного червя. И говорит ему: «О, ты такой красивый. Давай поженимся!» На что червь ему отвечает: «Ты что дурак, что ли? Я же твой другой конец».
Я смотрела в никуда, затягивалась сигаретой и не могла избавиться от чувства, что я когда-то уже об этом читала, у кого-то из великих, где-то видела и только сейчас вспомнила, и смогла наполнить конкретным смыслом: кто-то мне рассказывал, что всякий раз, когда мы встречаем мыслящее существо, которое соответственно встречается с нами, – мужчину, женщину, бомжа или приблудную собаку, друга, врага – мы встречаем свой другой конец. Потому что всё в этом мире взаимосвязано. Только мы этого не знаем.
Так я повстречала свою родственную душу.
ВПЕРЁД, ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!
У нас в деревне две пекарни: «Бертеман» и «Фердинандс». Две пекарни – две соперницы. Одна «сидит» в самом центре, а вторая в двойном исполнении обрамляет деревню по краям на въезде и на выезде. Каждая неустанно днём и ночью трудится над собственным имиджем и обновляет свой неповторимый репертуар. Каждая хочет быть лучше.
Две пекарни делят между собой сферу влияния и распределения капитала на подконтрольной территории нашей деревни. Хотя в целом, положа руку на сердце, – и в обход всяких там маркетинговых стратегий – управляются простым человеческим фактором: кому-то нравятся булочки «бертиз» из «Бертемана», а кому-то «голдиз» из «Фердинандса». И ничего с этим не поделаешь. Против народной любви не попрёшь.
Меня лично с «Бертеманом» связывают особые отношения. Когда-то много лет назад холодным февральским утром я приехала в деревню на собеседование по работе. Поезд высадил меня вроде бы городе, а на самом деле в огороде. Где-то должен был останавливаться автобус, на котором мне надо было ехать дальше. Но автобус не останавливался, и даже чего-то отдалённо похожего на автобусную остановку и в помине не было. Я оглянулась по сторонам и протянула: «Да-а-а, это вам не Париж». (Дальше надо говорить быстро и шёпотом, лучше сразу скороговоркой – ошеломляющий новоприбывших светом и движением, великолепием улиц и проспектов, широких и далёких, протянувшихся на километры, где встречными струями текут машины, трамваи и автобусы, и серный запах вокзала заливает приятная утренняя свежесть, и даже деревья на каждом углу пахнут тонкими духами.) Стоп. Это точно не Париж.
Здесь воздух пахнет навозом (глубокий вдох и выдох), люди, кажется, вымерли (на этом месте лучше перекреститься) а может быть ушли под землю или в подполье. А как же навигация в телефоне? (Её в те годы ещё не было). Несмотря на явное разочарование (надеюсь, вы его почувствовали) я пошла дальше, куда глаза глядят, на ощупь, на нюх, на интуиции, или на голом желании куда-то дойти и всё-таки найти свой Париж, как хотите, так и называйте, через поля, мосты и реки, через приблудные течения, как будто заранее знала куда надо идти и много раз уже ходила этой дорогой. Ноги сами несли, а голова молчала.
Навстречу мне светило солнце, казалось, оно меня ведёт за руку, я наслаждалась неожиданным теплом и всё больше и больше, неожиданно даже для самой себя, чувствовала себя, как в стихотворении Стефана Георга «Entrückung» («Восторг»): «Я чувствую воздух других планет. …растворяюсь в звуках, кружась в плетеньях, и грудь мою переполняет непонятная благодарность и невыразимая хвала, и я отдаюсь без желаний огромному дыханию. …Земля покрывается белым пухом и становится мягкой, как сыворотка, я плыву в море кристального сияния и чувствую, что я всего лишь искра от священного огня и отзвук святого голоса». Совершенно мистическое стихотворение. Которое так и просится на музыку. Но не каждому под силу.
Вот только Арнольд Шёнберг, этот неунывающий новатор, создатель додекафонии (к слову сказать, мало кому понятной), который больше всего в своей жизни стремился к признанию и так мало его получал («Я всего лишь хочу, чтобы меня слушали и понимали. Я не создал ничего в моей жизни, за что мне сейчас было бы стыдно»), почувствовал творческий импульс стихотворения Георга и его стремление быть чем-то другим, а не просто словом, и переложил его на музыку во втором квартете fis Moll ор. 10.
«Я всего лишь хочу чтобы меня слушали и понимали». Да кто же этого не хочет, милый Арнольд Шёнберг, великий новатор, создатель додекафонии. Все хотят. Даже яблонька в русской сказке о диких лебедях и та хочет. «Съешь моего кислого яблочка, я тебе добренькое скажу». Она эти яблочки снесла, с Божьей помощью родила, и всё, что ей нужно, это чтобы кто-то пришел и их съел. Ну съешь, ну попробуй, ну хоть кусочек, ну хоть понюхай, ну хоть в руках подержи, ну пожалуйста. Увидел, прищёлкнул языком, мол, ну ты даёшь, старушка, взял и съел. Понятное дело, что по большому счету никто её не просил нести эти кислые яблочки. Нормальные люди даже сладкие не едят. Им своего г… добра хватает. Кому вообще надо это ваше самовыражение? Put down your vanity, you are but a grain of sand in the desert4. Кто сказал – не знаю.
Так что, уважаемый Арнольд Шёнберг, становитесь в очередь. Не волнуйтесь, и на ваши яблочки найдётся спрос. А если не найдётся, значит, не заслужили. And thou art distant in humanity. А это уже английский поэт Китс обнадёживает всех нас, что пройдут столетия, все умрут, и придёт спрос на ваши кислые яблочки, уважаемый Арнольд Шёнберг, великий новатор и создатель додекафонии (к слову сказать, мало кому понятной). Надо только уметь ждать. Надеяться и ждать.
В тот зимний день я шла по заснеженному полю, мягкому, как сыворотка, кристальный воздух золотился пятнами солнечного света, и чувствовала себя частью огромного зимнего дыхания. Ноги мои, сами того не зная, привели меня к въезду в нашу деревню, а там – пекарня «Бертеман», стоит как яблонька с кислыми яблочками, собственной персоной. Зашла я туда, села в уголочке, заказала себе латте макиато, припорошенное корицей и стружками шоколада, отхлебнула глоточек, тёплая жижа мягко скользнула вниз и заполнила нервный желудок, стрельнула в задубевшие плечи, просветлила заиндевевшие глаза.
Глядь, а на стене плакат с белоснежными сытыми аистами, ровными радужными полями и пузатыми мельницами висит. И на плакате большими буквами написано: «Wunderschönes Petershagen» («Прекрасный Петерсхаген»). Да. «Petershagen, nicht verzagen», – подумала я в рифму, что-то вроде: вперёд, гардемарины, вперёд, в свободном, конечно же, и авторском переводе.
Да и на Париж, если сильно присмотреться, чем-то, действительно, похоже. И не успела я это подумать, как в воздухе сразу же запахло тонкими французскими духами.
БЕЗУМНО ДИВНЫЙ, ЧУДНЫЙ ГОРОД
– Говорят, что на огонь и… (тра-ля-ля, что-то там ещё, не помню) можно смотреть бесконечно. – Пришёл в гости, сел за стол на кухне, такое себе синее пятно, срыхлившийся, заиндивевший, загнувшийся, спортивненький костюм, в общем, бывший горе-любовник, вытянул ногу, помолчал и сказал:
– На огонь можно смотреть бесконечно.
А у меня кухонный стол обтянут клетчатой клеёнкой в стиле «английский завтрак», и яйцо всмятку едят ложкой из яичной рюмки в лучших традициях Букингемского дворца. Лучше бы, конечно, промолчал. А ещё лучше – не вытягивал ногу. Прощай, не поминай лихом. Но дорогу ко мне забудь. Иди, смотри на свой огонь бесконечно где-то в другом месте. Другие придут, и будут смотреть только на меня.
«На огонь можно смотреть бесконечно». Люди так говорят, и наверное, они правы. По прошествии стольких лет. На огонь можно смотреть бесконечно, особенно на огонь в собственном камине, ещё ему можно подбрасывать пищу, чтобы он не умер. Сколько всего у меня в эту топку ушло.
В детстве я жгла свои дневники. Исписывала толстые общие тетрадки мелким ровным почерком, прятала их в шкафу под колготками, холодела от мысли, что найдут – мальчики, девочки, воспитатели, учителя, вся земля и подземелье, а хуже всего собственная мама, нахмурится, что-то заподозрит, что она давно уже знала, и спешно-спешно, слюнявя указательный палец, как будто у неё мало времени, прерывисто дыша, будет перелистывать страницы в поисках моих грехов, доказательств окончательной испорченности, страшных тайн, глубочайших заблуждений, которые необходимо вовремя пресечь и наказать заблудившуюся по всей строгости закона.
«Как ты могла такое написать? – спросит она. – Неужели ты действительно так думаешь?» Мысли мои – тяжёлые, горячие, дрожащие, такие нежные, ненужные, такие неживые. Мысли – все мои. А что скажут люди?
Потом жгла после консерватории. Всё, что написала, тетрадки, листки, сантиметры… хотела написать – километры, подумала: слишком заносчиво, исправила на метры, показалось: слишком круто, оставила сантиметры. Сантиметры буквосочетаний, завитушки тайн, черновики страданий, никто ничего не узнает, никогда, и вообще, к чёрту, нафик, всё сожгла.
Вышла на пустырь рядом с моим новопостроенным домом. Хотела написать «новопреставленным». Но потом решила: зачем же так строго, мы же не душегубы. Ведь он был всего лишь свежим объектом плановой застройки спального района на осушенных болотах, засыпанных песком. Всё с белого листа. Пахнущего извёсткой и пустотой, на территории обновлённого смысла. Ну и начала.
Тетрадки чернели и кукожились на песке. А я стояла и смотрела на огонь. Моя новая жизнь стояла рядом и тоже смотрела.
– Ты всё правильно делаешь. Ни о чём не жалей, – утешала меня она. – Новую жизнь нужно начинать с самого начала.
И я с ней соглашалась. Позже на этом месте построили ещё один дом – дом-корабль, гигант, который встал прямо перед моим балконом и навсегда закрыл горизонт и небо. Просто перекрыл дыхание. Его построили на пустыре, прямо на пепелище моих слов и кладбище мыслей. На том самом месте, где я жгла свои тетрадки.
И я не удивлюсь, если окажется – хотя, как мы можем об этом знать? – что сейчас эти самые мысли и слова, как посеянные семена, продолжают жить дальше и прорастают в снах у тех, кто живёт в квартире прямо над этим местом.
Вот, например, представьте, кто-то мучается, не может спать, вскакивает с криком и испариной на лбу и ищет спасения у специалистов: «Доктор, помогите! Меня мучают кошмары. Я схожу с ума!»
А доктор прописывает массаж, антидепрессанты и припаривания, а пациенту становится всё хуже и хуже, и только ты знаешь, но тебя же никто не спрашивает, во всём этом холодном космосе, во всей безразличной Вселенной, что причина всему – спать на костях чужих мыслей, незаконченных предложений и недописанных текстов. И это, увы, неизлечимо.
И пролетая ночью мимо многоэтажного чудища в спальном районе Киева – а возле них всегда летают какие-нибудь духи или призраки, ты заметишь слабое подрагивание огонька свечи в окне. Заглянешь в окно и увидишь: это он, или она сидит, склонившись над письменным столом, и дописывает твои сожжённые тексты.
«Я богословьем овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всём был и остался дураком», – так резюмирует Фауст Гёте всю свою научную деятельность за десятилетия. Фауст решает начать новую жизнь, с чистого листа, сжигает какие то рукописи, отказывается от прежней жизни. «Ты не достроил на песке безумно дивный чудный город». И соглашается на сделку с Мефистофелем, чтобы получить настоящее знание, познать мир.
В итоге он получает, как мы все прекрасно знаем, и в обмен на что, мы тоже знаем – удивительно, но мы всё знаем! – не только знание, но и власть над людьми, и ключ волшебства, позволяющий ему путешествовать во времени и распоряжаться судьбами человечества и всего мира. Причиняет с лёгкостью добро и зло. Больше, конечно же, зло. Убивает и не испытывает при этом ни малейшего сожаления. И лесные духи дарят ему за это забвение. Что само по себе очень практично. Совершил преступление, а потом ничего не помнишь. И живёшь дальше себе спокойно и с чистой совестью.
Но однажды Фауст всё-таки возвращается в свой старый средневековый мир, что-то его туда влечёт, что-то похожее на угрызения совести, обрывки снов, воспоминаний, и оказывается у окна своей рабочей кельи. Прислоняется к окну кельи лицом, так что оно расплывается в одну большую дышащую лепешку, и видит Вагнера, своего помощника из прошлой жизни. Тот сидит, склонившись над столом, корпит над рукописями и старинными книгами. Точно так же, как это когда-то делал сам Фауст. Те самые книги, которые он в своё время сжёг. Ну или просто выбросил на помойку. Оставил гнить в тёмном углу.
Фауст понимает, вернее, читатель понимает, если он, конечно, способен понять – по аналогии с надписью на надгробном памятнике Шекспиру: «Stay passenger, why goest thou by so fast. Read it if thou kannst»5, что нить жизни Фауста, его судьба не оборвалась и не была сожжена вовсе, а проросла на развалинах всего того, что он построил, и продолжает жить дальше. Потому как – внимание! – судьбу можно поменять, но нить судьбы, её ход, нельзя потерять, и всегда найдётся тот, кто эту судьбу подхватит и продолжит, и изживёт её движение до конца, до последнего биения сердца и до последней капли крови. От судьбы не убежишь – не совсем правильно. Открываю вам великую тайну: от судьбы убежишь, но только если найдётся тот, кто охотно подхватит твою падающую, тебе уже ненужную, но ещё такую живую судьбу и будет вместо тебя нести её дальше.
И усердный педант Вагнер в старой рабочей келье Фауста вдруг почувствует какую-то тревогу, он оторвёт глаза от пыльных пергаментов, посмотрит в окно и ясно увидит в нём лицо учителя. Взгляд его упадет на колбу, в которой плавает и медленно разжимает пальцы, один за другим, искусственный человек – Гомункул. Ещё немного и он оживёт, и разорвёт тесные стены. «Ты же вот сам здесь сказал, страница 145, параграф 3, строчка 16: „прежнее детей прижитье – для нас нелепость, сданная в архив“, – прошепчет как бы в собственное оправдание Вагнер. – Надеюсь, что я тебя правильно понял, учитель. И сделал всё, что мог. Всё, чего от меня потребовал твой проклятый незаконченный опус, вся твоя заброшенная жизнь. Ты ушёл, а я остался. Ты забыл обо мне. А я не могу тебя забыть. И да, я таки достроил твой безумный, дивный, чудный город. Никто меня не просил, но я его достроил. Вернее, он заставил меня его достроить. Он взял меня в плен».
И в этот момент на глазах у изумленного Фауста из колбы рождается Гомункул – искусственный человек. Гомункул раскидывает в стороны руки и запрокидывает лицо к небу. Вернее, к тому, что это небо закрывает, – влажно-чёрному низкому потолку рабочей кельи. Ужасный вой потрясает её до основания. Потом он видит Вагнера, который забился от страха под стол, сгребает его в охапку и сжирает. Срыгивает, хищно оглядывается по сторонам и, рассекая воздух, скрывается в темноте.
Вот уж, действительно, рукописи не горят. А на огонь, да, на огонь можно смотреть бесконечно.
УМИРАТЬ – ЭТО ПРОСТО
Слушали мы с шестым классом гимназии на уроке музыки аудиоисторию о жизни Моцарта, спектакль с музыкальными вставками между текстом. Дошли до заключительной фразы: «Моцарт умер в 35 лет, прямо в середине работы над реквиемом, мессой для мёртвых, который оказался реквиемом для него самого». И тут поднялся лес рук.
– А как это – он умер прямо в середине работы? – поинтересовался мальчик.
– Работал, работал, не успел дописать своё сочинение до конца и умер, – обьясняю я.
– Нет, а как это – прямо в середине?
– Ну не завершил свой реквием, мессу для мёртвых. Это нормально. Не все люди успевают доделывать задуманное до конца.
– То есть как умер, конкретно? – продолжает допытываться мальчик.
– Ну как-как… – перед глазами пробегает картинка из фильма Милоша Формана «Амадеус», сцена кончины Моцарта в горячке в кровати с пером в руке. Отчего он там умер, от сифилиса, что-ли? Художественный вымысел против правды.
– К сожалению, я не могла присутствовать в момент его смерти, поэтому не могу тебе конкретно описать, как он умер, – политкорректно рапортую я. «И отчего он умер, тоже не скажу», – но это уже про себя.
– Можно, я ему объясню? – вмешивается другая девочка, она всё знает, молодец, отличница.
– Можно. – Ловлю себя на том, что вкладываю в слово «можно» слишком много надежды.
– Ну смотри, – начинает рассказывать девочка. – Он сочинял реквием, рядом с кроватью ночной столик у него стоял, а потом он положил реквием на столик, лёг в кровать и умер. Всё очень просто.
– Да, умирать это просто. Sterben ist einfach, – подхватила я.
Поговорили, разжевали, на вопросы ответили, реквием сочинили, на ночной столик положили, легли в кровать и умерли. Что может быть проще?
ФИЛИПП-ДЕМИУРГ
Мой старший сын Филипп в последнее время увлекся информатикой и программированием. Ежеминутно у него какие то достижения.
С каждым достижением у Филиппа растёт уверенность в себе и происходит переживание чуда открываемой Америки. Вместе с ним – потребность в общении и разделения этого переживания с ближним. Приходит ко мне каждые пять минут по моим субъективным ощущениям – по его субъективным вообще не приходит – и рассказывает о том, что только что случилось. В самые худшие из дней тащит за собой в свою комнату и обещает там что-то показать. Мне приходится отвлекаться от очень важных дел, сосредоточенно кивать головой, задавать уточняющие вопросы и делать вид, что всё это меня не только интересует, но я в этом хоть что-то понимаю. Кроме того, хочу всё знать.
– Ну смотри, я тут программу придумал, – показывает на экран с цветными строчками вперемежку с цифрами и знаками препинания, сваленными в кучу. – Вот если ты её тут откроешь, – показывает на красненький кружочек, – она тебе всё закроет. Поэтому её лучше не открывать. А если ты тут откроешь, – показывает на зелёненький кружочек, – это дискорд.
Нажимает на него несколько раз, он не открывается. Потом на экране вдруг выскакивает обезумевшая картинка в тройном увеличении и начинает бешено мигать.
– Вот, если ты на дискорд нажимаешь, то он тебе всё трекает. Вот смотри – это твой трекин рекорд. Поэтому его лучше не открывать. А тут, ну, смотри, смотри. Если ты нажмёшь на текстовый документ… Смотри, что сейчас будет.
Компьютер вздрагивает и сдыхает. Филипп счастливо смеётся.
– Что это было? – переспрашиваю я.
– Ну ты что, не поняла? Ты на текстовый документ нажимаешь, а у тебя компьютер гнётся.