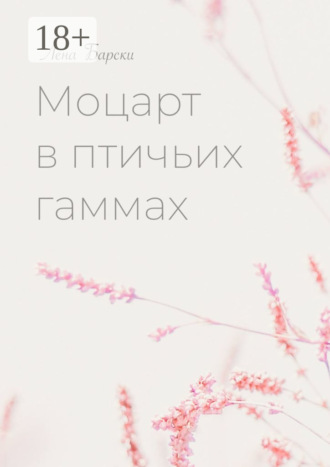
Полная версия
Моцарт в птичьих гаммах

Моцарт в птичьих гаммах
Лена Барски
© Лена Барски, 2022
ISBN 978-5-0059-3709-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ИКС ПЛЮС ИГРЕК
Поколение 1975-х неопределимо. С одной стороны, это последний год поколения Х – 1965/1975, которое жило по принципу: работать, чтобы жить. А с другой стороны, 1975 год – это начало фазы нового поколения Y, 1975/1995, для которого смысл жизни заключался в том, чтобы найти разумный и эффективный баланс между работой и свободным временем.
Трудно представить себе две бóльшие противоположности. Поколение Х отличается независимостью мышления и ярко выраженным индивидуализмом. А поколение Y, наоборот, ставит в центр командную работу, налаживание горизонтальных связей, так называемый нетворкинг и лидерство, то есть доминантное поведение одного индивида по отношению ко всем остальным и культ институализированной власти. Поколение Х мотивируется идеями свободы, доверия и возможностями индивидуального развития. А поколение Y, наоборот, все силы употребляет на увеличение доходов, вовлечённости в общее дело, централизированного контроля и карьерного роста.
Любой составитель гороскопов, которого вы спросите, скажет вам, что последний или смежный год цикла соединяет в себе черты и того, и другого, предыдущего и будущего, являясь в общих чертах переходным, и не имеет в себе никаких законченных черт и устойчивых признаков. 1975 – так кто же мы всё-таки такие: Икс или Игрек?
К какому бы поколению лично я не принадлежала, есть у меня страсть собирать и документировать события, случившиеся в год моего рождения. Из этих событий получился довольно внушительный список.
– Дмитрий Шостакович умер 9 августа и был похоронен 14 августа 1975 года за неделю до моего рождения.
– Милан Кундера эмигрировал во Францию в 1975 году.
– Григорий Соколов сыграл концерт для фортепиано Сен-Санса номер 2 и оставил нам замечательную запись этого концерта в Ленинграде 1975 года.
– Роми Шнайдер снималась в фильме L’important c’est d’aimer («Главное – это любить»), и в процессе съёмок у нее начались отношения с Жаком Дютроном. Позже Жак Дютрон описал начало их отношений как «дуэт двух алкашей в Париже». Однажды Роми пригласила Жака пообедать в ресторане отеля, после чего они вместе поднялись в её номер. Отношения Роми и Жака начались с этого дня и длились до окончания съемок фильма. «Я никогда не видел человека более несчастного. Она нуждалась в том, чтобы ее любили. Я плохо себя вёл. Я позволил себе ввязаться в историю с ней. Притягательность была. Но я её не уважал», – признался Дютрон одному из французских изданий. В последний день съёмок Жак Дютрон разорвал отношения с Роми Шнайдер. 8 июля 1975 года за 48 дней до моего рождения Роми Шнайдер развелась со своим немецким мужем Гарри Майеном, с которым у неё был общий сын.
– В 1975 году Патти Смит выпустила свой, ставший знаменитым альбом The Horses («Лошади»).
– Владимир Марамзин, ленинградский друг Бродского, в 1975 году эмигрировал во Францию. Бродский думал, что тот написал «Школу для дураков», хотя на самом деле, как утверждают некоторые источники, она была написана Сашей Соколовым.
– В 1975 году впервые мумия Рамзеса Великого получила полноценное медицинское освидетельствование. Работа эта была выполнена Кристианой Дерош Ноблекур, выдающейся дамой французской египтологии.
– «Я убежден, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой прогресса. Я убежден, что международное доверие, <…> разоружение и безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, убеждений, гласности <…>. Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны». Эти слова из Нобелевской речи академика Андрея Сахарова прочитала в четверг 11 декабря 1975 года его жена Елена Боннер.
– 30 апреля 1975 года армия Северного Вьетнама заняла дворец президента Южного Вьетнама. В это день закончилась вьетнамская война, длившаяся не одно десятилетие. В 1975 году после окончания вьетнамской войны великий вьетнамский дзен-мастер Nhat Hanh основал движение по спасению так называемых людей в лодках – boat people. «We are in the same boat»1. На своих двух лодках ему удалось спасти больше 800 человек, которые бежали от коммунизма в другие страны.
– В 1975 году родились Штефан Клейнер и Бернд Вильчек, литературные переводчики. В соавторстве они перевели с французского на немецкий последнюю книгу Мишеля Ульбека «Уничтожить» – роман о политике, терроризме, жизни, смерти и о любви, ein Meisterwerk, шедевр во всех отношениях.
И вот ты, такая крошечная, только что из рая, только что пришла в этот мир, а тебя схватили за ногу, измазали зелёнкой, всунули в рот резиновый кляп, история только начинается, а ведь нет. Где-то там жизнь обжигает и рубит на куски, закручивает гайки и ничего не хочет о тебе знать. Точно так же, как и ты о ней ничего не хочешь знать в момент собственного рождения.
Волны интенсивностей накатывают и ослабевают, сталкиваются и разбиваются в мелкую крошку. Но самое главное, что они длятся, длятся. Судьбы, смыслы, чувства и желания. До тебя и после тебя. Параллельно с тобой, рядом и далеко и чаще всего не пересекаясь.
Кто-то пускает свою жизнь под откос, а кто-то в космос, кто в кровь, а кто в слюни, кто-то пьянеет от глупости, а кто-то от нелюбви. Кто-то мучается от полноты. А кто-то от голода. Кто-то не может забыть. А кто-то простить. А кто-то просто идёт дальше, не оглядываясь, по дороге, выбранной кем-то другим. Не думает о лишнем. Жизнь так прекрасна. Жизнь так бессмысленна. Все мы когда нибудь умрем. И надежда – наш самый большой грех.
И кто знает, если бы Ален Делон не бросил Роми Шнайдер, Дмитрий Шостакович не умер и не лежал бы в гробу, улыбаясь странной улыбкой человека, который наконец-то обрел свободу и стал счастливым, Григорий Соколов не записал бы концерт Сен-Санса в Ленинграде, а вот так бы шёл, шёл и остановился бы на полпути, Милан Кундера не эмигрировал бы во Францию, в страну, на языке которой ему было так трудно, физически трудно говорить, и мучительно сложно оставаться самим собой, тем самым человеком, которого он так хорошо знал и с которым даже подружился, и остался бы жить в коммунистической Чехословакии несмотря ни на что, Пати Смит вернулась бы в Чикаго, Иллинойс, в семью разносчика и официантки, не отдала бы своего первого ребёнка на усыновление, а прижала бы его к сердцу, крепко-крепко, и больше бы не отпускала никогда, и не случилось бы самой тебя. Линии не сложились бы в целое, запятые не добавились к точкам. И условия не были бы выполнены.
Сколько ещё будет. Таких, как ты. Нужных и одновременно никому ненужных. Что-то представляющих из себя и одновременно ничего не значащих. Единица и ноль – вечный круговорот природы. Волны, встающие на дыбы и проливающиеся дождем. Мэрилин Монро, подхватывающая платье между ног. Ноты, взлетающие со страниц партитур. И останутся только цифры.
Бесчувственные цифры в год моего рождения – тысяча девятьсот семьдесят пять. По-моему, эта цифра звучит не просто гордо, а плодородно. Как украинский чернозем, который немцы во Вторую мировую вывозили вагонами в Германию, – какая удивительная параллель, не правда ли? Если учесть, что меня судьба тоже вывезла в Германию. Или илистая земля Нила. Хотя Нил тут совсем ни при чём.
Икс и Игрек, верность и измена, любовь и ненависть, встреча и расставание, смерть и возрождение, смерть и спасение, жестокость и милосердие, родина и эмиграция, индивидуальность и команда, оригинал и перевод, гений и злодейство, право и бесправие, я и другие, свои и чужие, правда и неправда, смысл и бессмыслие.
Всего понемножку. Не много, но и не мало.
ЗДЕСЬ БЫЛ ПЕТЯ
Иногда бывает так – сидишь на скамейке, рядом ни души, перед тобой шумит море, ветер неслышно колышет стебли сухой травы, перелистываешь страницы книги, и немного скучаешь, и вдруг внимание твоё привлекают строки: «Я сижу на скамье в двух шагах от обрыва. Перед глазами у меня море. Я смотрю прямо вперед, не поднимаясь и не заглядывая вниз».
И вот уже ты больше не одна. Вы сидите вдвоём на этой скамейке – ты и Юрий Олеша из далёкого 1930 года, почти сто лет назад. И он тебе говорит: «Вообще-то размеры – это вещь условная. Вот смотри – на краю оврага, на самом краю, даже немножко по ту сторону – растёт какое-то зонтичное. Оно чётко стоит на фоне неба». Я всматриваюсь вдаль и действительно вижу что-то, похожее на большой зонтик, который перевернули вверх ногами и поставили на горизонте прямо по центру разливающегося золотом заходящего солнца.
Трудно сказать, что это на самом деле такое – то ли водная пыль, поднятая небесными всадниками, то ли надвигающаяся буря, то ли происки фокусника. «Ведь я не шарлатан немецкий, и не обманщик я людей! Я – скромный фокусник советский, я – современный чародей». Добавляет Юрий Олеша голосом Ивана Бабичева из своего романа «Зависть» и многозначительно подмигивает. И так вот сидим мы дальше на скамейке над обрывом, под ногами цветут какие-то розы, и молчим. Рядом ни души. И кажется, что мы встретились и общаемся чуть ли не по скайпу, место у нас одно – скамейка над обрывом у моря, а время разное – 1930 и 2021 год. А какая, собственно, разница? Если есть скамейка. А под ней плещется море.
Иногда мне кажется, что писатели описывают идеальные территории и оставляют на них свою метку, что-то вроде «Здесь был Петя». Фраза эта, несомненно, самая что ни на есть расхожая, но смысл у неё намного глубже – заявить о себе всем тем, кто придёт после тебя, как бы установить с ними тайную связь без ограничения во времени. «Я сижу на скамье в двух шагах от обрыва. Перед глазами у меня море». Надо же, дорогой друг, какое совпадение! А я тоже в этот самый момент, когда я читаю твои слова, сижу на скамье в двух шагах от обрыва. И перед глазами у меня море. И вот мы уже вместе, вот мы уже знаем друг о друге.
Не знаю, случайно это или нет, но Набоков, например, любил послать привет читателю в будущее и даже время точное называл, когда его послание должно будет, а может быть, сможет быть прочитанным. «Конка исчезла, исчезнет и трамвай, и какой-нибудь берлинский чудак писатель в двадцатых годах двадцать первого века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой техники столетний трамвайный вагон, жёлтый, аляповатый с сиденьями, выгнутыми по старинному».
Я так и вижу, как Набоков осторожно и с опаской пробирается по тёмному узкому тоннелю, который ведёт в будущее, и с собой у него всё самое дорогое: воспоминание о жёлтом трамвайчике, и о всякой мелочи обихода, и о простеньком пиджачке, который он носит изо дня в день, но всё равно любит каждую складку его ткани. А потом, как бы испугавшись дальнейшего пути, немножко даже беспомощно скребёт ногтём на стене тоннеля, который ведёт в будущее, в стиле «Здесь был Петя» (на самом деле, конечно же, Вова). Эй, всем, кто меня слышит! «Какой нибудь берлинский чудак, писатель в двадцатых годах двадцать первого века…»
И таки да, чудаки находятся. Не только в Берлине. Везде находятся. Всё, что пишется, не пропадает. И все эти тайные знаки, послания в бутылках, заклинания будущего когда-нибудь находят своих получателей. И тогда время оживает, расстояния больше не имеют никакого значения, нас становится много, и вот вы уже сидите вместе на скамейке в двух шагах от обрыва и перед глазами у вас плещется море. И не замечаете, как становитесь частью бессмертия.
Здесь был Петя/Юра/Вова/Лена/Алена/Аленушка/Елена/Ленок/Леночка/Олена/Ленка. Она же Ленусик.
Одиночества не бывает.
ИМЯ
– А, это вы, Елена Прекрасная. Ну заходите, заходите. Давно уже ждём. Мужчина средних лет приподнялся из-за канцелярского стола и великодушно развел в стороны руки, как бы предлагая ей в подарок весь мир, а на самом деле тесную комнатку с жёлтыми прокуренными обоями, заваленную по всем углам выцветшими газетами и книгами. Его гладко выбритое лицо растекалось в восторженной улыбке, а глаза лоснились от упоения.
«Лена, Леночка, Ленуся, Ленчик, Ленка, Елена. Теперь вот Елена Прекрасная. Да когда же всё это закончится!» – подумала она и гримаса отвращения прошла по её телу и осела где-то в уголках губ.
Входить или не входить? Проблему надо было решать немедленно.
Всю жизнь, с тех пор как родители умудрились дать ей имя Алёна, её имя подвергалось переиначиванию. Всё началось с того, что в конторе, куда новоиспеченные родители сразу побежали, чтобы зафиксировать факт её рождения, строгая тётенька в больших очках в синей пластиковой оправе авторитетно покачала головой и заявила, что имени такого нет, поэтому запишем девочку Еленой. Родители застыдились и тоже согласно закивали, девочку записали Еленой, но в семье Елена не прижилась, и дочку в тайне от органов продолжали называть Алёной. Позже, когда она пошла в школу, учителя называли её Леной, в этот раз без начальной буквы Е, которая где-то потерялась и никто не знал где.
– Как тебя зовут? – спрашивали они.
– Алёна, – доверчиво отвечала девочка.
– Так вот, Лена, заруби себе на носу, что Алёны бывают только в сказках, а в жизни их вообще нет и быть не может, – следовал жестокий приговор.
С тех пор она чувствовала себя как непонятный летающий объект. У неё хоть и было имя, но у этого имени было множество вариантов. Со временем ей даже начало казаться, что для человека напротив она просто не существовала, или являлась для него смутным пятном непонятного происхождения. И для того, чтобы приобрести законченную форму и устойчивые очертания, собеседник обязан был закрепить за ней определённое имя исключительно по собственному настроению и желанию.
Например, иногда ей говорили: Елена. Это значило, что её уважали. Или, наоборот, хотели пристыдить.
Ленчик – хотели почесать у неё за ушком, чтобы она замурлыкала от счастья и стала ручной.
Ленок – так называла её учительница по фортепиано в детской музыкальной школе, куда она ходила несколько лет подряд. Ленок, ты маленькая, но тебе еще нужно многому научится. Ты чего тела не берешь, Ленок? Женское тело должно быть могучим. А то вырастешь, как дрохля и будешь это тело носить. Давай ещё раз гамму сыграем.
Ленка – любил называть её Вовка из соседнего двора. Он недавно купил себе мотоциклет и настойчиво приглашал кататься.
– Шебутливая ты баба, Ленка. Не ссы, со мной не пропадешь.
Через пару месяцев он на этом мотоциклете врезался в столб. И заливаясь кровью, всё повторял: «Ленка, Ленка».
Олэна.
– Мне твоя личность, Олэна, до одного места! – кричал ей чиновник с засаленными глазами в правительственных органах, когда стало непонятно, на каком языке надо жить. – Ты по паспорту хто? Вот по паспорту твою личность и будем устанавливать. Шо? У нас Лены чемоданы пакуют и валят на родину в дремучий лес. А Олэны машут фуражками та нэньку защищають.
Ленусик. Она улыбалась, глупо и самозабвенно. Дёрнулась, чтобы удрать, но сдержалась, и потупившись, начала расправлять складки на платье в синий горошек. Жалобно косила в сторону, потела и судорожно переводила дыхание. Когда опасность миновала, сразу перестала улыбаться.
И вот, пожалуйста, еще один вариант: Елена Прекрасная! Что же это за черта народная такая, переиначивать имена!
И тут она наконец-то решилась. Набрала полную грудь воздуха и закричала:
– Алёна меня зовут, Алёна, запомните, раз и навсегда, имя из пяти букв!
– Да, да, Леночка, что вы так разволновались, – засуетился мужчина, выскакивая из-за стола и пытаясь кончиками длинных пальцев, похожих на клешни паука, снять несуществующие пылинки с её платья. Твоё имя состоит из четырёх букв. Вот посчитай – Ле-нок, или Ле-нусик или О-лэ-на или как там его, Алёна, но такого имени вообще нет. Всё правильно.
Она развернулась одним резким движением, толкнула дверь, так что та чуть не прибила мужчину с лоснящейся улыбкой, и кубарем скатилась по лестнице. На улице вспомнила Чехова с его неудобопроизносимыми именами. Например, господин Неуважай-Корыто в пиджаке или чёрном сюртуке, который делал в слове «ещё» четыре ошибки. Такое имя никак не переиначишь. Но это же Чехов, на то он и гений.
Взмахнула непокорной головой. И пошла в соответствующие органы менять своё имя на Торбьерн – освободитель насекомых от рабства. Чтобы больше не переиначивали.
«ПОПУТНОГО РЕТРО»
У Иосифа Бродского есть статья под названием «Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро». В ней он описывает жизнь в другой стране, как «состояние, при котором человек остаётся один на один с самим собой и собственным языком и между ними нет никого и ничего».
Писатель в изгнании «подобен собаке, или человеку, которых забросили в открытый космос в капсуле (скорее, собаке, потому что никто не придет, чтобы её забрать). И твоя капсула – это твой язык… И приходит время, когда пассажир, сидящий в капсуле понимает, что она движется не в направлении Земли, а в направлении открытого космоса».
Я, конечно же, не в изгнании, не бреду по пустыне в сторону Сомали в поисках пропитания, и слово «эмиграция» после стольких текстов на эту тему меня сильно напрягает. Но надо признать, что она неисчерпаемая. Потому как в перемещении отдельных людей и целых народностей, в причинах и сменах парадигм есть очарование чего-то вечного и метафизического. Но я сейчас не об этом.
Я о том, что остаётся. Как ни крути, но родной язык-то ведь остаётся, где бы ты ни жила: эмигрируешь ты или не эмигрируешь, находишься в изгнании или только об этом мечтаешь. И если ты не приняла окончательное решение этот родной язык забыть, отречься от него, замуровать его насмерть в несущей стене, то автоматически на новой земле ты оказываешься в капсуле, с автономным менталитетом космического корабля, дрейфующего в открытом космосе. И вокруг ни души.
Ты закрываешь глаза и предаешься воспоминаниям. В них всё течёт, всё меняется, ты неустанно выходишь из берегов. Вокруг тебя то дождь, то ветер, солнце то всходит, то заходит и низко висит на небе целый день, нагло таращась прямо в глаза. Листья падают, сердцебиение учащается, природа дряхлеет и сморщивается прямо на глазах, а у тебя приступы удушья и панические атаки.
И всё время несёшься в пустоту, заполненную призраками, выскакивающими из-за угла: разинутые рты, перекошенные лица, полуразложившаяся плоть, окоченевшие стога на полях, мальчик, играющий с бедренной костью среди заброшенных могил, танцы в обнимку с Угрюмым Жнецом на сельском погосте.
– Hell! I am fucking Shakespeare!2 – как однажды в порыве восторга перед собственным талантом прокричал Стивен Кинг.
Да. Только Стивена Кинга нам здесь не хватало. Kill your darlings, kill your darlings, even when it breaks your egocentric little heart; kill your darlings.3
Конечно же, разобьёт. Как можно убивать то, что любишь!? Даже если рядом никто, абсолютно никто не понимает! И даже если рядом все только тем и занимаются, что отказываются и забывают. Поэтому мы и будем продолжать лететь дальше – я и мой язык. Мой русский язык. Великий русский язык. В капсуле. В изгнании. Или в эмиграции. А проще – в глубоком-преглубоком открытом космосе. Подальше от Стивена Кинга. И от всех, кто убивает, отказывается и забывает. Реально, виртуально и метафорически.
И когда-нибудь в окно твоей капсулы постучит Иосиф Бродский. Помашет рукой и улыбнётся. И тебе сразу станет легче. И ты вздохнёшь и почувствуешь, как сжимается твое маленькое сердце. Уставшее от собственной эгоцентричности. И в этой случайной встрече ты найдёшь свое утешение.
По крайней мере, на сегодняшний день.
БОДИ АТАКА
Спортивная студия в соседнем с нашей деревней городе предлагает курсы фитнеса по самым разнообразным программам. Я решила поднять физический тонус и выбрала самый радикальный курс Bodyattack с дополнительным бонусом сжигания жира. Какая же уважающая себя женщина добровольно откажется от сжигания жира? Особенно, если ей это организовывает кто-то другой. Представила себя в образе Чапаева: с шашкой наголо, из перекошенного рта капает слюна, рядом Петька с пулеметом, много Петек и много пулеметов, скачу на верном скакуне в атаку на собственное тело. Приз – взятие приступом жировых запасов и их публичное сжигание на костре. Легко. И очень весело. Тем более, если ты не одна и к тому же еще действующая спортсменка и перспективная пенсионерка, бегаешь по лесам и полям, и у тебя в целом всё в порядке. Не считая жира.
Тренер Марлен – амазонка, садистка, пакет мускулов, руки, ноги, бицепцы, трицепсы, попа, впереди, сзади, тонус, сила, прямая спина. Музыкальное сопровождение в стиле техно, которое достанет тебя с того света. Вокруг девочки по восемнадцать лет, с длинными ногами, обтянутыми пёстрыми леггинсами. У них все ещё впереди. И настоящий жир тоже.
На мне шорты на три размера больше: люблю, когда болтается и продувает, ветер без спросу заходит и выходит. Футболка такого же рода. Бьётся непокорными складками о разгорячённое тело, как веник в сауне. Бегали, прыгали, поднимали и опускали, хлопали руками, как бабочки крыльями, замирали вприсядку, раздвигали и сдвигали, улетали и возвращались, падали и вставали. Где найти слова, чтобы описать весь масштаб этого безумия? Желудок мой припомнил мне всё, чем я его кормила. Подогнал тяжёлую артиллерию во главе с печенью трески где-то поближе к горлу и устроил нам очную ставку. Мол, делай, старушка, выводы. Два раза развязывался кроссовок, и я была ему за это очень благодарна. Если бы не он, то в конце этого вечера завязывать кроссовок больше было бы некому.
Работали на матах, в основном туда-сюда, пресс, локти, справа налево, замерли, пошли, опять маты, много матов. Очнулась от звонкого голоса Марлен, которая кричала мне в ухо: «Не спать!!!» Стояли на четвереньках, лично мне удалось немного даже поползать и даже пошататься из стороны в сторону для создания обдувательного эффекта. Потом опять куда-то бежали. Бронепоезд прорезал черноту ночи и ускорял ход, техно громко рыдало где-то в углу, а вдоль железнодорожных путей шатались повешенные в пятнистых кальсонах. И никто уже не помнил: что, зачем, какие сложные сплетения обстоятельств привели нас всех в это гиблое место? Ничья память не сохранила их. Все мы оказались в мясорубке человеческих страстей.
Ах да, кажется, опять бежали. Вставали и шли грудью на амбразуру. И вдруг под прицельным огнем противника во мне что-то дрогнуло и оборвалось, и я поймала себя на мысли, похожей на капитуляцию: «Ведь говорил же мне папа: сиди дома, куда тебе в твоём возрасте бежать. В твоём возрасте надо уже с палочкой ходить и шаги считать на спидометре». И был, как всегда, прав.
Уходя, не знала, встретимся ли мы ещё раз. Мне хотелось всех обнять и попрощаться – по отдельности, как с близкими людьми, а не просто с группой в полосатых купальниках. В разгорячённом воздухе висели грусть и сожаление, характерные для расставаний после тяжелых испытаний, пережитых вместе. И на фоне этой мировой печали я точно знала, что мне таки да, почти сорок пять. А им восемнадцать. Они могут, а я не могу. И шорты у меня болтаются. А это по сравнению с восемнадцатилетними девочками в облегающих цветных легинсах очень и очень неоптимально. Почти сорок пять. Могу? Не могу. Ведь на самом деле мне гораздо больше.
Через неделю опять пришла сжигать жир. В цветных облегающих леггинсах. С лицом, на котором чёрным по белому большими печатными буквами было написано: почти восемнадцать. Обратите внимание на эту маленькую деталь, это крошечное «почти». Как говорят немцы, Der Teufel steckt im Detail, дьявол скрывается в деталях И оказываются, черти, как всегда, правы.
Почти восемнадцать. Почти сорок пять. А это значит, что у тебя всё ещё впереди. И настоящая капитуляция тоже.
«…ЯВИТЬ КРАСОТУ ЕЩЁ СЕЙЧАС, КОТОРУЮ СТОЙКО КОПИЛА В ЭТОМ СУРОВОМ ЗАМЕРШЕМ МИРЕ»
Февраль – это, конечно же, месяц для слабых духом. То есть если ты просыпаешься утром, и думаешь: да твою же мать, это ведь февраль, значит, ты слабая духом. Что и требовалось доказать.
Серый, странный день – был, есть и будет, налёт стародевичьей прохлады, как благородно выразились бы классики, если бы имели ввиду совсем другое, например: да уберите же этот запах плесени! Этот мшистый убогий запах смерти и разложения! Прибавьте к нему ещё бури, покорёженные стволы, буквально расчленёнку, разбитую черепицу, размётанные клочья бумаги и остатков пищи, как будто между делом у кого-то разорвались внутренности, раскалённый пульс мигрени, медленно просверливающий в твоей голове дырку, и будет вам полная картинка. Деревья, освобождающие корни из земли. Сливовые деревца, перелетающие с места на место вопреки законам притяжения.
«Девочки! Преодолеваем земное притяжение! Подьем! Подьем!! – так в интернате в семь утра будил нас протяжный голос воспитательницы Галины Ивановны. В большой комнате на двенадцать кроватей с оранжево-зеленым ковром посередине раздавалось жужжание и потрескивание, мертвая чернота оживала и заполнялась ярким ослепительным светом галогенных ламп. Этот свет сначала подрагивал, учился стоять на ногах, но быстро устаканивался и начинал с тупым и безжалостным оптимизмом казнить очевидностью наступления нового дня. Дверь открывалась и в комнату вплывала широкая фигура Галины Ивановны с волосами, туго затянутыми сзади в пучок и с вымазанными чем-то красным губами. Праздник жизни начинался. «Девочки! Преодолеваем земное притяжение!» – нараспев кричала она.


