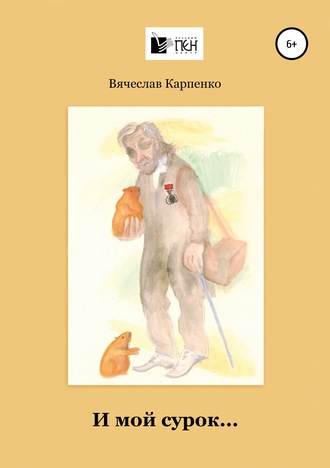
Полная версия
И мой сурок
– Отводит! – подмигнул дед. – Смотри!
В ямке среди камней, почти на голой земле, лежали яички. Я быстро сосчитал – двенадцать. «Не трогай!» – «Да я просто считаю».
– Одиннадцать, – сказал дед.
– Нет – двенадцать!
– А-а, значит, донесла ещё одно. Пойдём дальше…
Подруга-кеклик ещё поспотыкалась перед нами, потом что-то «кудакнула» и скрылась. Мы не прошли и двадцати шагов, как выскочила вторая птица. Эта была крупнее, вся взъерошенная, злая так, что сразу видно – будь большим, обязательно не дал бы этот кеклик нам спуску! Но был он всего-то с большого дедова цыплёнка, только красивее, – откуда у цыплёнка тельняшка! Этот тоже начал вытворять штучки с прискоком и припаданиями, с хромотой и жалобным попискиванием. Он и перья топорщил, словно узнал меня.
– Он самый, Матрос твой. Крестник, – подтвердил дед. – Оставь его, пусть попредставляется!.. Иди сюда.
Дед показывал под камень: там в углублении лежали… ещё яички. Я даже наклонился, не веря. Уж я не такой маленький, чтобы не понимать – петух яйца не несёт.
– Какой же он Матрос, когда яички… Они, выходит, обе «подруги»!.. – протянул я разочарованно.
– Он и есть Матрос! – И дед рассмеялся, довольный моим удивлением. – Я и сам недавно только понял, да вот теперь уверился: оба они птенцов высиживать могут… курочка и петух! То-то стая будет, да?! Два года у нас засуха была, зимы снежные, тяжкие – совсем кекликов мало оставалось. Хорошо, эти выжили. Думаю, этот год хороший будет, они чуют. Потому вот «двойняшек»-то и придумали, мудрецы, – она для Матроса твоего яичек отложила, он теперь высиживает. И поднимут ведь!
И вот сейчас я ничем не мог помочь его, Матроса, стае…
Что там говорить – красивая была эта хитрюга рыжая: с её вытянувшимся огнистым телом, под которым не видно лап, с острой мордой и плотно прижатыми ушами. Она струилась по земле вовсе незаметно для глаза. Если бы не чуть подрагивающий легковесный хвост её да не всё более короткое расстояние меж нею и птенцами, казалась бы лисица совсем неподвижной.
Её охота была бы мне ох как интересна… но сейчас лиса меня бесила до слёз. Потому что показывала моё бессилие! Как чужая выигрывающая команда – ты-то ведь болеешь за другую! И что тебе за дело до красоты игры, если своим ты помочь не можешь… даже криком!
А ведь там, в стае же, безмятежно – так мне виделось в бинокль – что-то клевал и мой Матрос, чуть в стороне и потому в безопасности. Склюнет, поднимет голову, поглядит в сторону лисы, наклонит голову и снова клюнет. Кажется, я даже видел, как он глазом косил! Что же ты, не замечаешь, что ли!!
Не-ет! Он всё же умница: чуял мой Матрос охотницу! Я плотнее прижал бинокль, следя, как полукругом, будто ничего не подозревая и все так же беззаботно склёвывая, самый крупный кеклик приблизился к лисе, вжавшейся в щебенистую осыпь. Их разделял только куст арчи, густой низкий куст, за которым лисица его не угадала.
Рыжая гипнотизировала двух поршков, до которых оставался всего-то хороший прыжок. Хвост лисы задрожал сильнее, я сам ощутил, как она выбирает опору для лап… сейчас прыгнет…
А он, мой маленький горный Матрос, наверное, здорово боялся – закричал даже, я видел его раскрытый клюв, когда… да что же он делает-то!.. – он прыгнул чуть не в самые зубы хищницы!
Вот жалела она потом, что не заметила рядом такой добычи! Я и то вскочил – вовсе не ожидал подобной прыти и такого нахальства от мелкой птахи, от этого кеклика! Птица ведь, из рогатки подобьёшь… а – храбрец какой отчаянный!
Лисица же растерянно клацнула зубами, промахнулась… опешила лишь на секунду… Но этого хватило, чтобы знакомец мой отскочил к пышному лисьему хвосту и… Нет, не полетел ведь! – посеменил от лисы, волоча крыло, спотыкаясь, разыгрывая, как по нотам, весь тот спектакль, который репетировал перед нами с дедом когда-то возле гнезда.
Лисица недолго приходила в себя. Пружинной жёлтой вспышкой метнулась она за бегуще-хромающе-прыгающим кеклом.
Он вспархивал – неумело, неловко, но… неуловимо и непойманно – у самого носа, у самых зубов, как-то боком отлетал на несколько лисьих прыжков прочь и снова испуганно семенил по осыпающимся камушкам… Наверняка он и верещал при этом отчаянно, хотя предупреждения уже не требовалось: стая исчезла!..
Метр… десять… пятнадцать, тридцать метров… ещё кривой вспорх… ещё метры качающейся земли, шуршанье скатывающихся из-под резких лисьих лап камней… А где-то далеко наверху, в острых скалах – даже я услышал! – успокоительно-громкое: «К-ко-кох-ко-их-кек-ли-ик!»
И вот – треск-свист сильных крыльев над головой метнувшейся лисицы. И – плавный полёт, планирование над открывшейся пропастью, над каменистым распадком… не поспеть туда рыжей! К скалистому гребню. Вскоре там, всё дальше, уже шла перекличка: «Ко-один-кво-ко-десять-одиннадцать-кро-ко-двадцать-один…» Все!
– Нет, моего Матроса за так просто не возьмёшь!!! – орал я, махая сконфуженной лисе руками и прыгая на краю своего обрывистого правого берега бурлящей речки.
Колючка
РассказкаВсяк бугорок спотыклив да важен,
да не всяк – по уму…
(поговорка)

У Глаши не было ни брата, ни сестрички, а время детского садика кончилось. И у неё начиналась новая жизнь.
Зато был у маленькой Глаши большой друг. Дядя Володя, художник.
Вообще-то друзей у неё много вокруг, потому что всем она любила помогать.
– Ох, Глашенька, скоро осень, и ты в школу пойдёшь. Кто же мне за хлебом сбегает, – стала даже говорить соседская бабушка Зоя Николавна.
– Ничего, – отвечала девочка. – Мне ещё утром голубей покормить надо, а у кошки Милы скоро котята выведутся. И у Лёшки-терьера лапа больная. Я во вторую смену попрошусь учиться!
Много друзей и забот у Глаши, но самый большой всё же дядя Володя. Потому что он один умел всё-всё рисовать, и к тому же они оба любили зверей и цветы.
У художника в квартире жили: два ежа, старый кот Базиль, который лучше отзывался на имя Васька, лохматый, огромный и добродушный сенбернар Атилла, на нём даже верхом можно было проехаться. И ещё приставучая сорока Зинка.
На окне в круглом аквариуме плавали золотые рыбки и ползали улитки, да и окна почти не было видно – его завивали цветы, которые цвели редко, но поливаться хотели часто. Глашке приходилось об этом напоминать другу.
Подружились они из-за котят, сначала Милиных, а потом и просто чужих.
– Что-то от меня приятели прятаться стали! – смеялся иногда дядя Володя, рассказывая, где поселился очередной их подопечный. Но город большой, а знакомцев у художника много даже и за городом.
И ещё, когда Глаша приходила полить цветы и погладить Атиллу, художник рисовал ей зверей и птиц, и деревья, и стрекоз, и голубое небо, и солнышко на нём или тучи с дождём, а то и туман – это смотря по их настроению. И всё было очень похоже, так что маленькая Глаша могла долго сидеть у его картинок для неё, представлять себя среди зверей, птиц и леса и тихонько разговаривать с ними, совсем тихонько, чтобы не мешать.
Вот из-за такого рисунка всё и началось.
Вернее, началось всё тогда, когда в соседнем дворе Глашка, догоняя выпавшего из гнезда воробьёныша, наткнулась на колючку. И в одной руке принесла к дяде Володе занозу, а в другой – воробыша.
– Сейчас-сейчас, ты только не плачь, – приговаривал дядя Володя, сразу понимая, что произошло, и не сердясь.
– Я и сначала не плакала, это слёзы сами текут, а мама ругаться будет…
– Пойдём, я знаю, где его гнездо, а то вот Базиль уже интересуется! Сейчас покажу, где живёт этот желторотик, а потом мы тебя в момент вылечим и коленки отмоем.
Художник прикрыл полотенцем большую картину, которую он всё рисовал для выставки. «Всё равно не примут… не возьмут», – бормотал он про себя как песенку.
– Почему же не возьмут? Она красивая. – Сказала Глаша. Она уже видела эту тётю на портрете, и Атилла сидел рядом, положив голову к ней на колени. Голова была тяжёлая, а глаза Атиллы были ещё грустнее, чем обычно.
– Потому что потому… не возьмут и всё. Ты где-нибудь видела красных женщин и голубых собак? Вот и пойдём.
Он залез на дерево, где в дупле, оказывается, пряталось гнездо, а не под крышей, как она думала. Художник даже поднял её к себе, чтобы и девочка посмотрела на всех птенцов. Их найдёныш оказался самым взъерошенным и писклявым. На верхних ветках ругательски верещала воробьиха, но Глашка не удержалась и погладила птенцов. Они открыли клювы, запищали, один даже ущипнул за палец. Видно, им всё равно кто здесь, лишь бы накормил.
Дома дядя Володя вытащил из её ладошки большую занозу пинцетом и смазал руку одеколоном.
– Терпи, – говорил он и дул на ранку, а сорока Зинка суетилась рядом на столе. И сенбернар подошёл лизнуть, ободряя, но начал чихать от одеколона.
– А вот и видела! – сказала, чтобы не показать накатывающихся слёз и успокоить Атиллу.
– Что видела-то, птаха-понимаха?
Она понимала, что ему невесело и теперь не до неё. Художник встал, прогнал с плеча сороку и снял полотенце с картины. «Не примут… не возьмут…»
– Голубого Атиллу видела, – настаивала девочка. – Вечером зимой!
– Может, и видела, глазастая фантазёрка! Иди сюда.
Красная тётя на картине была красивой, но её глаза будто не видели голубого сенбернара, а рука с тонкими пальцами не гладила, а будто хотела оттолкнуть голову с колен. А глаза Атиллы грустно смотрели в красивое лицо.
Вот за эту атиллову грусть тётя Глаше и не нравилась. И хотя девочка ничего не сказала, художник снова закрыл картину.
– То-то и оно! – улыбнулся он почти как Атилла. – Не примут голубую собаку, не возьмут – не увидят. И женщина красная… так-то… они лучше знают, как художнику писать. Давай-ка лучше тебе порисуем, школе подаришь. Что изобразим?
– Всё равно она красивая, ваша тётя, – успокоила девочка и подсела к столу.
Художник уже рисовал речку.
Быструю горную речку, вода в ней бурлила, неслась по камням, а берегов у речки не было: вместо берегов над течением поднимались крутые скалы. И никому здесь не могло быть места, на этом рисунке, возле этой куда-то спешащей реки.
– Не нравится?
– К ней ведь никто подойти не сможет, а если олень пить захочет? – схитрила Глаша.
Дядя Володя засмеялся, взял второй лист, приклеил к уже нарисованному.
– Это мы сейчас поправим. Смотри…
С первого листа на другой упал водопад. Вода закипела под падающим потоком, закружилась в небольшом омутке и затихла на излучине у покатого берега, к которому подходила широкая тропа. Потом речка забурлила себе дальше, там снова поднимались скалы, и течению приходилось перепрыгивать через валуны. Но зато вокруг тропы, что подходила к самой воде, выросли густые кусты, поднялись деревья, и дуб отбросил тень на излучину. И появились звери.
Тропа была широкая, удобная и мирная: маленькое – всего-то с блюдце – озерцо-омуток могло всех напоить и примирить на время жажды.
Вот поднял голову с ветвистыми рогами красавец марал, с губ его ещё стекают чистые струи воды, а затуманенные глаза высматривают кого-то на другом берегу. И рядом с ним, скосив взгляд на роющегося в песке медвежонка, чуть замутив передними лапами воду, пьёт коричневая, почти чёрная, медведица.
На тропе уже хрюкает горбатый, с поднятой щетиной, с загнутыми на длинном рыле клыками, кабан. А у небольшого куста присел и насторожил уши заяц.
Кукушка кому-то задумчиво отсчитывает годы, сидя на суку старой ольхи. А выше неё из дупла выглядывает хитрая мордочка белки.
И шмель ровно гудит на красном диком пионе, а на шмеля, смешно склонив глазастую голову, удивлённо и завороженно смотрит косулёнок.
– Такая речка подходит?
– Да-да… подходит, здесь хорошо всем, – отвечает Глаша.
И здесь зазвонил телефон. Художник взял трубку и сразу стал серьёзным.
Под его руками ещё лежала разноцветная картина жизни у реки, в пальцах ещё каталась коричневая палочка пастели, но было видно, что уже забыл он и про водопой, и про зверей возле него. И про Глашку забыл, которую зачаровала мирная жизнь в картине.
Не к месту защипала царапина, напомнив про колючку и занозу. И про голубую собаку с красной тётей вспомнила, потому что дядя Володя говорил в трубку, а посматривал на свою завешенную картину и становился всё озабоченнее. Девочка посмотрела на царапину, на след от занозы, ещё совсем горячий, и подумала, что голубой собаке тоже было бы больно, наткнись она на колючку. А красной тёте?
– А я ту колючку всё-таки вырвала! – сообщила она.
– Колючку? Да-да, это хорошо… – рассеяно ответил художник и снова заговорил с телефоном. – Нет, это не вам, отвлёкся на секунду: у моей соседки занозу вытаскивали, вот она и вспомнила про колючку. Нет, совсем маленькая соседка, но да – красивая. Вот в первый класс с ней собираемся скоро. – Он засмеялся чему-то в трубку и стал медленно, не глядя почти, водить по рисунку у реки коричневой пастелью. – Да, конечно, сейчас принесу…
Положил трубку, потёр себе лоб и бросил пастель на речной рисунок.
– Ты побудь-поиграй, птаха-понимаха, всё равно твоя мама ещё на работе. А я скоро вернусь, тогда и чаю попьём. – Взял свою большую картину и ушёл.
Глаша ставит картинку на опустевший мольберт. Пришлось встать на цыпочки, но всё же установила: теперь сюда хорошо падал свет, и все звери будто сразу ожили. А вода – тоже будто живая – падала с уступа, ровно рокотала и кружилась в небольшом омутке и затихала на излучине у покатого берега.
У самой воды, утонув копытами в золотистом песке, высматривал кого-то на другом берегу марал в золотой короне рогов. Всё так же рылся в песке малыш-медвежонок, и косила на него глазом пьющая из речки медведица.
Глаша уже знала, что у водопада куковала кому-то кукушка, смеялась в дупле белка, и недовольно о чем-то хрюкал на тропе горбатый кабан с пожелтевшими загнутыми бивнями. Поводил ушами заяц под кустом, и гудел на цветке под удивлённым взглядом косулёнка чёрно-жёлто-полосатый шмель.
К солнцу подплывало еле видное облако, а речка, наполнив прозрачной водой озерцо у водопада, снова торопилась куда-то вниз от этой мирной тропы.
Девочка, зачарованная картинкой, поправила один её бок на мольберте. И, опуская руку, вдруг… укололась.
– Непорядок! – раздался скрипучий голос.
Даже Базиль-Васька, дремлющий на диване, поднял голову на этот скрип, а сорока Зинка подпрыгнула на открытой створке форточки и завертела хвостом. Встал с места возле кресла сенбернар Атилла и подошёл к замершей возле картины Глашке.
– Это я, я говорю – не-по-рррядок! – вновь раздражённо проскрипел голос.
И Глаша увидела, как на широкой мирной тропе, что вела к водопою, зашевелила бугристыми ветками-отростками… обыкновенная колючка. Коричневая колючка, в рассеянности посаженная художником на самой середине тропы. Она вроде как шевелила сейчас ветками с острыми шипами и прямо на глазах взрастала, занимая всю тропу. Даже кабан, на что у него толстая шкура, и то удивлённо и тонко взвизгнул, наткнувшись пятачком на колючку. И попятился в испуге.
Перестала куковать кукушка, и заяц задробил лапкой в тревоге, и медвежонок, напуганный, засыпал себе глаза песком, и шмель присел на красном пионе, сразу двумя лапками удивлённо потирая себе затылок.
Озадаченный пёс Атилла тоже сунулся носом к картине, но укололся видно и, по-щенячьи визгнув, отошёл на своё место.
– Вот так-то лучше – и лежи, где положено, нечего собакам разгуливать, где не положено, – скрипнула Колючка. – И маленьким девочкам в лесу нечего делать, глазеешь тут. Сиди в кресле и жди, пока я тебе дела не придумаю…
Глашке ничего не оставалось, как подчиниться: что же делать, если даже такой солидный и храбрый пёс спасовал.
А Колючка, ощутив свою власть, уже вовсю распоряжается на тропе.
– Ты же недавно пил, толстокожий грязнуля, – говорит она кабану, всё ещё нерешительно стоящему рядом. – Иди, занимайся делами.
– Я не грязнуля, – обижается кабан. – И мне надо войти в воду: там для меня камыш вырос.
– Ничего, вода здесь не для того, чтобы кабаны по ней хлюпали без толку. А тебе незачем зря куковать, лучше б полетела да узнала, как растут твои дети, – упрекает Колючка птицу.
– Они хорошо устроены, у них воспитатели очень заботливы, – оправдывается кукушка.
– Надо бы им подсказать, чтобы построже держали птенцов, а то так из кукушат вырастут такие же бездельницы кукушки, – вслух, будто она здесь одна, думает Колючка.
– Но ведь кукушки нужны деревьям, они самых вредных волосатых гусениц поедают, – пробует заступиться Глашка.
– Маленькие не должны возражать взрослым. Старшие всегда лучше знают, кто кому полезнее. Не так они и нужны, эти длиннохвостые, с толку лишь сбивают своим кукованием: я здесь загадала про себя, а она и полраза не гукнула! Вы все теперь должны почитать и слушать меня, раз я здесь поставлена порядок соблюдать.
– Никто вас для этого не ставил, – пробует возражать девочка. – Пока вас не появилось, было тихо и красиво…
– Это зачем же меня посреди самой тропы посадили, сможешь ответить? Вот и помолчи. Ты, как я вижу, недобрая девчонка, и везде мешаешься – недаром моя сестра сегодня проучила.
От такой несправедливости даже кот зашипел и спрыгнул с дивана, однако подойти близко не решается, только успокаивающе трётся о Глашкину ногу: не расстраивайся, мол…
Колючка кота даже вниманием не удостоила.
– Так вот, раз меня здесь поставили, значит, я должна за всеми следить. Здесь был полный непорядок. А вы меня слушайте, если хотите к воде подойти. Очередь установим, – принимается Колючка всеми распоряжаться и, как сказала, руководить. А что поделаешь – и вправду не пустит. Может, так и в самом деле положено. Здесь, на водопое, звери не привыкли спорить и ссориться.
Один красавец-олень постоял-послушал, да и перешёл на другую сторону реки, благо ноги длинные. «И рук-то нет, не то что головы, а туда же…» – бормочет на прощанье.
А Колючка уже совсем разошлась: тому царапину, тому занозу, того скрипом голоса доймёт.
– Не убегай, косой, а то больше сюда не попадёшь вовсе. Скажи-ка, что умеешь, лопоухий?
– Я?.. – Заяц растерянно оглядывается на всех. – Н-не знаю… морковку копать.
– Зато я знаю! Ты не посматривай на того рогатого, он шибко умный, думает. Так никуда ведь не денется, вернётся. А ты, косой, хочешь к воде подойти – окопай-ка вокруг меня тропу – натоптали, понимаешь, а я сиди теперь в такой жёсткой земле!.. Вот так, теперь можешь минут пять у речки побыть, умыться. Да не плещись попусту, знаем вас! – Кажется, что после зайкиных усилий Колючка ещё вширь раздалась.
А зайцу уже не хотелось ничего, и он юркает в кусты.
– Тебе тоже дело придумала, – скрипит Колючка кабану. – Нечего на меня пялиться, мимо не пройдёшь. Во-он от того дерева, где кукушка сидела, на меня тень падает. Подкопай-ка с одной стороны у корней, я медведицу заставлю с другой поднажать.
Колючка между делом колет подошедшего близко медвежонка.
Тот верещит и бросается к матери. Но медведица не решается возражать, только прижимает сына к себе, успокаивая.
– Но здесь мой дом! – прячется и вновь выглядывает встревоженная белочка.
– Ничего страшного, только о себе думаешь, а ты не одна здесь. И скорлупу не расшвыривай!
– Но у неё там бельчата маленькие, – напоминает Глаша.
– Новое дупло найдут, вон дрозд к зиме улетает, пустит пока… Моим родственникам тоже солнце нужно, а вы здесь топчетесь!
И Глаша видит, как увядает красный цветок, на котором сидит шмель. Потому что рядом проклюнулась новая колючка. И ещё несколько, пока ещё не таких значительных, как первая, разбегаются по тропе почти до самого песка у воды. Теперь уже и главная Колючка чувствует себя совсем хозяйкой.
– Хватит на сегодня, – скрипит она. – Мне тоже отдыхать нужно. Расходитесь все. И тебе пора домой, девчонка! А ты, медведиха, не будь дурой, отпихни этого кабана с тропы.
Кабан, который уже готов был подрыть дерево белки, послушно поворачивается уходить, медведица высматривает, как бы ей с медвежонком пройти, не задев колючую семейку. А косулёнок жалобно зовёт маму-косулю.
И кто знает, что ещё натворила бы назавтра Колючка у мирного водопоя.
Но здесь радостно пролаял Атилла, трещит онемевшая было сорока Зинка.
Вернулся художник.
– Вытри ноги, когда входишь в дом! – приказывает ему Колючка.
Художник сначала очень удивился – откуда на картине взялась такая зловредная Колючка? А там, дальше и вокруг неё, ещё новые подрастают… И всё вспомнил: как говорил по телефону, как машинально рисовал на тропе. И всё понял, потому что хорошо знал, как быстро они плодятся.
А на водопое у водопада – он теперь хорошо видит – уже нет спокойствия и гармонии, и красота увядает – всё перекошено оказалось в картине.
– Спасибо за напоминание, – улыбается художник Колючке.
И в самом деле – что толку спорить с глупостью и чванством, их надо бы просто не слушать. Да-а, скажут, а если они – на тропе?
– Вот только у вас здесь ещё одного животного не хватает…
– Вот видите, – Колючка обводит всех торжествующим взглядом, – не я ли говорила, что не зря здесь поставлена и расту!
– Не надо больше никого, дядя Володя! – пугается ещё за одну жертву Глаша. – Она же и его…
– А ты ещё мала, повторяю, чтобы нас судить, – перебивает Колючка.
– Знаю, знаю, – улыбается художник. – Наша вина, нам и спасать мир, не то сплошное лакейство разведётся.
Он берёт пастель, о чём-то думает немножко, прищурив глаз, потом ещё два цвета, вот – коричневый, чёрный и жёлтый – и рисует… не догадались? – Верблюда. Как и положено: буро-коричнево-жёлтого, правда, с одним горбом – дромедара.
Девочка смотрит на руку художника снизу, а Колючка даже вытянулась вся, чтобы разглядеть. Другие звери тоже незаметно посматривают – тесновато становится у речки.
– Нет-нет, его – убери! – приказывает Колючка.
Верблюд задумчиво смотрит куда-то далеко – может быть он видит свою пустыню, где есть простор и свобода? Кажется, ему никакого интереса нет ни до тропы, на которой он оказался, ни до падающих в омут струй, ни до растерянных зверушек возле колючек, ни до главной Колючки.
– А почему он такой грустный? – спрашивает шёпотом девочка.
– Да он просто голодный.
– Нет… Прочь! Я жаловаться буду…
Верблюд же встряхивает горбом и всё так же задумчиво и неторопливо начинает свой обед, или уже ужин, с этой самозванной повелительницы тропы. И остальных её родичей.
– Я думал, она вкуснее – такая-то важная, – бормочет верблюд. – А больше мне здесь и нечего делать, разве что попить на дорогу. – Он оборачивается к дяде Володе, в углу рта ещё торчит последний отросток так напугавшей всех Колючки.
– Пожалуй, ты прав, – соглашается художник. – У каждого свой мир, и не будем этому мешать жить. Удачи тебе там и полных колодцев на пути.
Он берёт мягкий ластик и осторожно, чтобы не нарушить восстановленного покоя, стирает дромадера – ведь этому верблюду надо побывать ещё во многих других местах, где вырастают колючки.
– Уже вечер на водопое, – напоминает Глаша своему другу.
– И ты права, – соглашается художник.
Несколько движений руки с ластиком и пастелями делают картину ещё красивее: солнце катится за гору и прощально шлёт сонные малиново-голубые лучи. И все звери будто меняют окраску, даже чёрно-жёлто-полосатый шмель становится немножко розовым и чуть голубоватым…
– А как же голубая собака? – вспоминает девочка. – Её приняли?
– Может, и приняли бы, – отвечает художник. – А может и нет. Только не донёс я её до выставки – подарил я ту голубую собаку.
У каждого своё море…
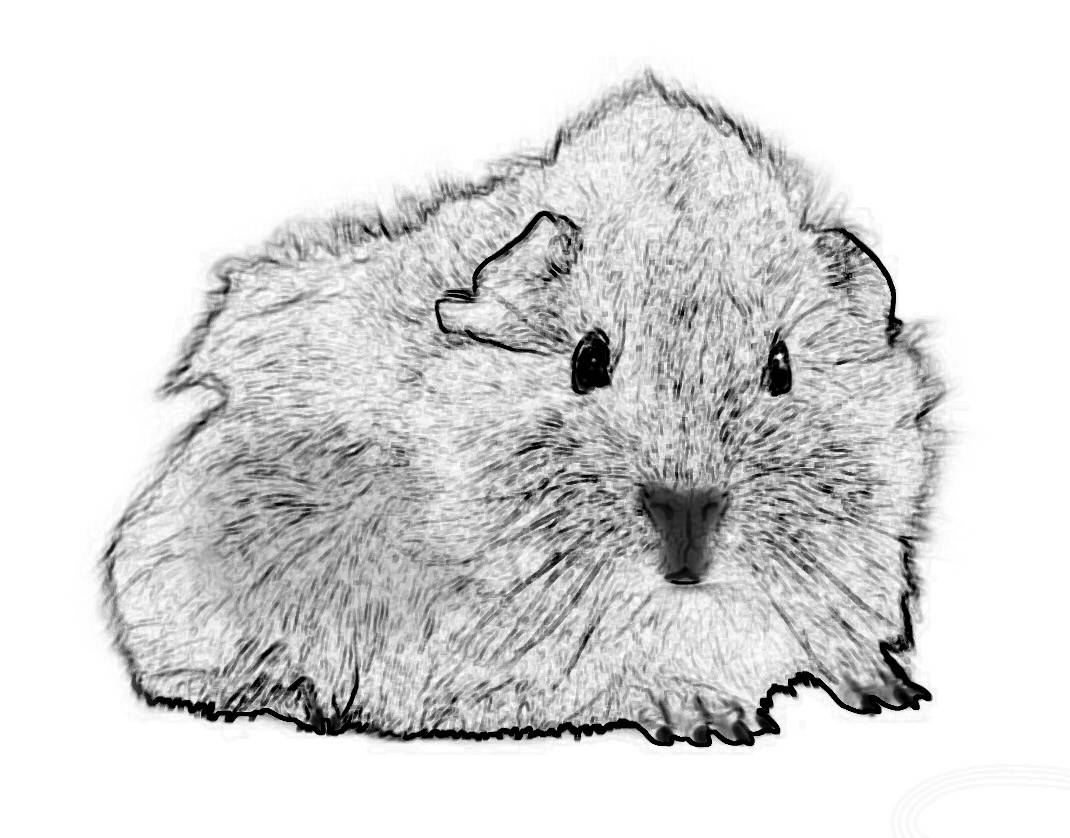
Была да жила морская свинка. В картонной коробке. Хорошо жила: в углу у неё всегда стояла чашка с чистой водой. И блюдце стояло – с разной вкуснятиной: то кусочек яблока, то морковка, а то и печенье окажется. И дно коробки устелено мягкой ватой. В вату можно и вообще закутаться – это если спать хочется.
В общем, тот ящик был её домом. И было свинке там хорошо.
– Это морская свинка, – сказали однажды.
Так её не впервой называли, ничего особенного. Но здесь…
– Ха-ха! Какая же она – «морская»?! Небось, даже и плавать-то не умеет. Да видела она море хоть разок?..
– Лучше бы имя зверушке придумали… То-олстуха!
Здесь уж вовсе обидно стало морской свинке. Она ведь не знала, что предки её во всех морях и океанах побывали. На кораблях, правда. Моряки увидели когда-то добродушных и безобидных зверьков в Южной Америке и стали брать свинок с собой в плавание. Всё веселее, да ещё детям живой подарок привезти можно…
Но наша морская свинка подумала: «В самом деле! „Морская“, а моря я не видела… Интересно, какое оно?..»





