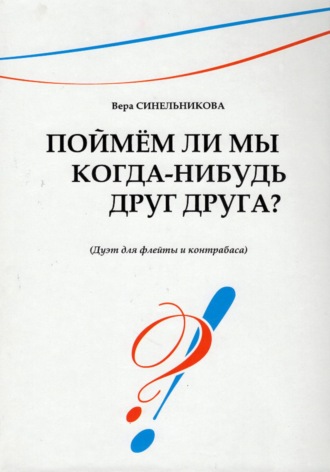 полная версия
полная версияПоймём ли мы когда-нибудь друг друга?
Какое это было время! Может быть, лучше и не бывает?
Всё кончилось в один миг. Антон на моих глазах подорвался на мине в зарослях алычи.
Между прочим, мне запомнилось, что в этот день я не хотела никуда ехать, но Антон уговорил меня, сказал, что я увижу нечто необыкновенное.
Я до сих пор не знаю, как описать, как объяснить, что произошло, с чем сравнить. Может быть с землетрясением, когда почва, незыблемость которой мы воспринимаем, как абсолютную заданность бытия, вдруг разверзается, поглощая всё, с чем связано наше существование.
Я помню, солнце клонилось к горизонту. Его лучи пробивались сквозь ветки, то и дело выхватывая рыжие вихры Антона, беспечно звучал его хрипловатый ломающийся голос… Последнее, что было в той счастливой стране.
Я сразу лишилась всего: прошлого – сознание не справлялось с тем, что действительно был Антон, который вечно надо мной подтрунивал и совершенно не умел без меня обходиться; настоящего – во мне не было иных ощущений, кроме боли; будущего – у меня не было сомнений, что так теперь будет всегда. Всё меня раздражало – жалость родителей, необходимость обедать, ходить в школу. По ночам вместо золотых облаков мне снились развешанные по веткам куски мяса и окровавленные обрывки клетчатой рубахи.
Но я не сошла с ума, как мать Антона. И спас меня, как мне кажется, этот живой недремлющий комочек в моём сердце – мой диктатор, надзиратель и утешитель одновременно.
Мама отвезла меня к тётке на юг – так посоветовали врачи. Там я дни напролёт проводила наедине с морем – у безлюдных скал, к которым разве что аквалангисты изредка подплывали. Море было разным – то разливалось бирюзой, то становилось свинцовым, то бурлило, словно гневалось и на скалы, и на меня, и на хмурое небо, сдавливающее его со всех сторон, то снова успокаивалось и будто виновато лизало берег. Я любила, примостившись на каменном карнизе, смотреть, как дышит море. Я сливалась с ним, забывая обо всём, словно опустошаясь, но это была не пустота, а наполненность морем.
Однажды вечером, уже возвращаясь к тётушкиному дому, я вдруг, совершенно неожиданно услышала голос. Он исходил не от другого человека, не с небес и не из моря, а прямо из меня, из моего сердца, как голос флейты в моих детских снах.
– Почему?– услышала я и остановилась. Я ждала, но больше не было ни звука. Одно только слово. Но оно стало звучать во мне как колокол, и подобно многократному эху возникали «почему?» второй, третьей, четвёртой, н-ной волны. Почему погиб Антон? Почему такое могло случиться? Почему именно со мной? Почему сейчас? Почему? Почему? Почему?
Я словно пробудилась от летаргического сна. Знаешь, что я сделала, вернувшись в дом тётушки? Еду, которую она мне предложила на ужин, я смела в мгновение ока и, к её изумлению, потребовала ещё. С этого дня мои косточки стали обрастать мышцами и жиром к великому удовольствию тётушки, писавшей подробные отчёты в Малгородок по поводу «состояния ребёнка». В доме тётушки я стала приглядываться к тому, на что прежде совсем не обращала внимания. Во-первых, к самой тётушке – она оказалась совсем как мамуля. Во-вторых, я обнаружила уйму книг – настоящую библиотеку, оставшуюся от репрессированного тётушкиного мужа дворянского происхождения. Книги занимали целую комнату и были чётко распределены по сериям: философия, история, справочники и энциклопедии, книги о природе, художественная классика…. В нашем доме тоже есть библиотека, но в ней преимущественно современные издания. Очень много политической литературы, публицистики. Я всегда находила то, что нам полагалось по программе, но чтение не увлекало меня, я больше любила где-нибудь бродить или просто болтаться в гамаке под яблоней и глядеть сквозь ветки в синее небо. У тётушки я набросилась на книги, как голодная акула – на проплывающих мимо рыбёшек.
Почему ко мне вернулась радость? Почему мне снова хотелось жить?
Мне кажется, нет, не кажется, а именно тогда из предчувствия, которое с самого раннего томило меня своей неизвестностью, невыразимостью, вдруг проклюнулся росток ясной мысли и различимой цели. Искать и найти ответ. Все силы мои, прежде сосредоточенные на одной только боли, от которой я даже боялась отвлечься, считая это кощунством, направились в другое русло, туда, где можно и нужно было что-то делать – читать, размышлять, узнавать, и это не было предательством или забвением Антона, а напротив, служило его памяти. И это было интересно. И важно. Отсюда та лёгкость, с которой я перешла из одного состояния в другое, из отрешённости и отчаяния – в окрылённость.
Тётушка моя, конечно, ничего не понимала. Она поглядывала на меня с опаской и не спешила отправлять домой. Родители тоже боялись, что в Малгородке всё повторится сначала. Учебный год был упущен, и было решено, что зиму я проведу на юге. Мои чистые беззаботные мозги, не испытывавшие большого напряжения от школьной программы, подверглись серьёзному испытанию. Винегрет из военно-исторической литературы, Махабхараты, Бунина, Уэллса, Данте, Гомера, Гашека, Толстого, Свифта, Шоу, Тагора и многого другого был слишком тяжёлой пищей для моего по сути детского ума. Из прочитанного я усваивала мизерную толику, если вообще усваивала хоть что-нибудь, но ложное ощущение, что надо спешить, заставляло меня глотать всё подряд, и с той поры у меня выработалась ужасная привычка пробегать страницы по диагонали.
Поверхностное, необузданное, бессистемное чтение привело к тому, что я «объелась» и когда вернулась в Малгородок, почти перестала обращать внимание на книги. Но я стала другой. Не внешне, а внутренне. Вместо неясных детских грёз мне уже виделась совершенно отчётливая линия судьбы. Где-то вдали мерцает маяк, и мне нужно до него доплыть, долететь, доползти. На всё происходящее у меня сформировался особенный взгляд, как если бы он улавливал только то, что хотя бы силуэтом, тенью попадало в луч этого маяка, или я в тёмной комнате отыскивала бы с фонариком предметы, необходимые для путешествия: вот это нужно, это может пригодиться, без этого никак не обойтись, а это даже не заслуживает внимания. У меня появилась уйма записных книжек, которые я до сих пор таскаю за собой, – в них отражались мои наблюдения, размышления, переживания. При этом нужно было сохранять тайну. Не объявлять же во всеуслышание о том, что я вознамерилась найти ответ на вопрос, почему бывают войны и как их можно искоренить. Разве не показалось бы это странным? Хотя никому не казалось странным, что готовится новая война. Газеты пестрили сообщениями о нацеленных на нас ракетах, об огромных запасах биологического и химического оружия. На занятиях ПВО нас учили шить «намордники» и ложиться в простенки между окнами при атомной бомбардировке.
Я не замечала, чтобы кто-нибудь горевал по этому поводу. Все жили как ни в чём ни бывало – занимались своими делами, строили планы на будущее… Мы дурачились на переменах, устраивали маскарады, играли в лапту и в волейбол…. Это было ещё одно «почему?». Агрессивность неискоренимо свойственна нашей природе? Но почему? И где искать конец ариадниной нити? В литературе? В философии? В политике?
Я долго не знала, куда подамся после школы. Помогла мне определиться, ты удивишься, математика.
В девятом классе к нам пришла Эмилия Карловна, и с нами произошла метаморфоза: в предмете, который мы считали самым сухим и неинтересным, нам вдруг стала слышаться музыка, видеться изящество, точность и красота. Пока у нас преподавала директриса, самым занимательным было пересчитывать бородавки на её массивном подбородке и разглядывать непонятно как держащийся на макушке крендель. Она щедро расточала оскорбления, полагая, что мы тупы безнадёжны. На внешность Эмилии Карловны, которая не уставала восхищаться нашей одарённостью, мы не обращали внимания. Как только она входила в класс, мы оказывались в царстве увлекательных игр. Да, именно такое у меня осталось ощущение от этих уроков. Мы играли. Забирались в какие-то лабиринты и потом отчаянно старались найти выход, возводили сооружения, простые или невероятной сложности, которые либо рушились, либо, к нашему восторгу, оставались прочными. Любопытно, что главным мотивом моих сновидений с тех пор стало строительство – я проектирую, переделываю, приобретаю или стремлюсь приобрести дворцы, замки, кварталы или даже целые города.
Я погрузилась в математику настолько, что стала фантазировать о формуле счастья, лаконичной, простой и совершенной, как сама Гармония или может быть, как «тонкий луч», который хотелось найти тебе.
Через год вернулась директриса.
Костёр любви к математике погас. Но уроки Эмилии Карловны остались, как мне кажется, для всего нашего класса самым тёплым и радостным воспоминанием о школе.
Во мне же решение сложных задач, которые я находила в разных немыслимых сборниках, не входивших в программу, воспитало совершенно новое качество, необходимое моей генетической почти беспочвенной вере. Я научилась логически мыслить и чувствовала себя, как пахарь, который неожиданно вместо мотыги получил трактор. Учиться мне стало совсем легко, и проблема выбора профессии не ставила меня в тупик.
Я представила себе зёрнышко Истины, которое собираюсь отыскать, и огромную, как Джомолунгма, гору всего, что было написано, надумано, открыто человечеством за всё время его существования, и сразу вспомнила кота Фикулькевича – персонажа из польской сказки. Он очень любил тишину, а его друг-пёс, имени которого я не помню, обитал этажом ниже и сидя на подоконнике, без конца бренчал на гитаре. Как-то вечером Фикулькевич спустился к приятелю по водосточной трубе и задал ему три вопроса:
– Почему дождь падает не снизу вверх, а сверху вниз?
– Из чего сделаны коровьи хвосты?
– На каком дереве растут перчатки?
Пёс впал в раздумье и забросил гитару.
Я тоже задала себе три вопроса:
– Возможно ли вообще пропустить через мозг, постичь имеющуюся гору знаний?
– Если это даже возможно, способна ли на это именно я?
– Есть ли в горе то зёрнышко, которое я ищу?
Ответив сразу на два первых вопроса «нет», я призадумалась и стала рисовать графики. На одном – рост общего объёма человеческих знаний, на другом – увеличение количества и «качества» оружия на Земле. Интересная получилась картинка! Где-то в записных книжках она наверняка сохранилась. Как раз на пике научно-технического прогресса мы приобретаем… возможность самоуничтожения. Можно, конечно, спорить, что литература и философия и вообще культура не являются частью научно-технического прогресса (сейчас я думаю, что это не так), но тем хуже для литературы и философии. Достигнув точки, где мы в состоянии собственными силами превратить планету в пустыню, мы ведь не останавливаемся, мы упорно и, не снижая темпов, движемся в том же направлении, и оказываемся в зоне, где в каждый данный момент мы можем быть, а можем и не быть.
С колебаниями по поводу профессиональных занятий какой-либо наукой было покончено.
Осторожно я попробовала поговорить с моим отцом, который, конечно же, надеялся, что я пойду по его стопам. «У тебя, хозявка, слог хорош» – говаривал он мне – Ты меня перещеголяешь.» Я не рассчитывала услышать от него истину в последней инстанции – всё-таки он ортодокс. В его голове прочно засела мысль, что наша революция семнадцатого года не просто одна из революций и даже не просто Великая революция, а перелом, смена эпох. До неё – «стихия», «иллюзорные надежды и безумные утопии», «ощущение трагической сущности мира, его абсурдности», «круг таинственных блужданий, смутных предчувствий и обречённых попыток», после неё – «осознанный рывок к цели заветной, светлой, выношенной тысячелетиями». Вся его журналистская деятельность – беспрерывная война с «тупоголовым начальством», «неприкрытыми безобразиями», его лишали наград, выгоняли из партии, снимали с должностей, потом всё восстанавливали, но если бы даже нет, он всё равно говорил бы подобно Мартину Лютеру: «Здесь я стою и не могу иначе».
Ещё он спрашивал меня иногда:
– Вот вы с Антошкой, когда поднимаетесь в горы, вам легко?
Для него путь, по которому мы идём – единственно возможный. Мы – пионеры, первопроходцы, проводники будущих поколений.
Может быть, я поверила бы ему, если бы он не оправдывал войны. В гражданской войне он едва не погиб, но всё же утверждает, что она была необходима.
И когда я пришла к нему с вопросом, наступит ли время без жестоких противостояний, он сказал:
– Когда будет уничтожено всё зло.
– Что же такое зло? – спросила я.
– То, что нам мешает жить! – с восклицательной интонацией отвечал отец.
Но недаром же Эмилия Карловна возилась с нами целый год.
– Значит, если мы мешали Гитлеру жить, для него мы были злом? – спросила я. И если мне кто-то будет мешать, я могу его убить?
Отец снял очки, посмотрел на меня внимательно и крикнул:
– Мать! Поди-ка сюда! Послушай, какие вопросы задаёт наша тихоня!
– Я просто хочу понять, – сказала я маме, – почему люди убивают друг друга.
Она обняла меня, прижала к себе, и столько было в этом жесте понимания, столько памяти об Антоше, которого она очень любила, что я не стала продолжать разговор. Родители сразу переключились на то, как вредно мне сосредоточиваться на сложных проблемах, что мне надо больше гулять и есть витамины…. На том дело и кончилось. А спустя много дней, неожиданно, будто разговор и не прерывался, мама сказала:
– Потому что люди не слышат друг друга.
Моя мамуля! И как ей это удаётся? Может быть, в сибирских деревнях, в одной из которых она выросла в раскулаченной семье, все женщины такие красивые, величавые и мудрые? Отец иногда читает нам вслух материалы для газеты. Как правило, до сих пор я примечаю, главным образом, стилевые погрешности, неуместные словечки, отсутствие связок. Мамуля же, обычно занятая какой-нибудь работой, кажется, едва слушает и никогда не перебивает. Зато в конце, и то не сразу скажет что-нибудь эдакое коротко, будто вскользь, но это считай, приговор публикации. Похвалит мама – отец повеселеет, запоёт «вставай, девки, вставай, бабы, вставай, малые робяты, вставай, стары старики-и, выгоняйте вы скотину на широкую долину, на зелёный на лужо-ок…», то есть творческий успех. Скажет она что-нибудь нелестное, отец вспыхивает, хватает бумаги и удаляется в кабинет, где ещё долго громыхает то и дело отодвигаемым стулом. Наутро, однако, отец привычно целует маму и возносит до небес её кулинарные способности, а это означает, что она была права.
Мамуля поставила точку в моих размышлениях о профессии. Я решила идти туда, куда звало меня моё сердце. А звало оно меня в город, о котором мечтал Антоша. Я как-то успокоилась, что где-то когда-то я всё равно найду ответы на свои вопросы, но буду искать их не в науках, а в людях.
Я опять полюбила дороги, не боялась ездить по тем местам, где мы бывали с Антоном. Особенно меня тянуло в горы. Оставлю велик внизу, в какой-нибудь крестьянской усадьбе, и – айда!
Мне нравились белые тропы, которые взбирались на залитые солнцем пригорки и пропадали за ними. Это было так маняще! Я всходила на пригорки, но за ними видела другие белые тропы. Одни из них лежали бесхитростно и открыто, пересекая луга с аккуратными стожками сена, другие зазывали в лес с косыми тенями смерек. Не в силах устоять перед этой магией, я шла в лес, где поскрипывающие под ветром вершины поигрывали густо развешанными на них красноватыми шишками. Я уходила дальше и дальше, и часто меня останавливали только синие прозрачные сумерки. Возвращалась я всегда нехотя, словно меня не отпускали неразгаданные тайны гор. На крутых склонах, с таким близким и осязаемым горизонтом, что, казалось, с него можно уйти в небо, под круглой вечерней луной паслись, позванивая бубенцами, жёлтые и чёрные барашки. Зажигающиеся снизу огоньки домов казались горстью брошенных с неба звёзд, и предвкушение будущего с новыми дорогами и новыми открытиями охватывало меня.
Закончив школу, я тайком от родителей продала велосипед и купила билет до Славгорода.
Несчастья посыпались на меня, как из рога изобилия. В общежитии в первую же ночь у меня украли золотую медаль, хорошо, что остался аттестат. Потом я подхватила жестокую простуду, из которой выкарабкивалась долго и трудно, благо мне не нужно было сдавать экзамены. Ритмы и шум большого города сводили меня с ума. Родителям я, конечно, писала, что всё прекрасно. На мелиорации – стандартный трудовой семестр – была непривычно тяжёлая, до кровавых мозолей, работа, а комары, клещи, мошкара, для которых явление свеженьких студентов было праздником обжорства, не давали покоя ни днём, ни ночью…
Ощущение, что «всё идёт как надо», «всё правильно» стало приходить ко мне месяца через три, когда я прижилась в общаге, подружилась с ребятами, свыклась с напряженной, выматывающей учёбой, в сравнении с которой школьные программы казались детским лепетом. Зато когда я сдала экзамен на первые трудности, сердечко моё не уставало выстукивать: «так-так, так-так, ты не ошиблась, так держать!»
Может быть, я больше всего любила летние практики. Лишь только приближалась весна, я уже бредила стуком вагонных колёс, шумом дождя по палатке, лесными запахами. Настоящей удачей было попасть после третьего курса в Высокогорный отряд НИИ. Постепенно, шаг за шагом, проделать путь от зелёной пряной тишины долин до головокружительной чистоты заоблачных Белков. Пройти сквозь леса, вначале уютные, кудрявые, приветливые и богатые, потом – мрачные и колючие с медвежьими тропами да кислицей над шумными холодными ручьями. Мчаться верхом по межгорным впадинам, ликуя оттого, что вокруг – половодье таёжной жизни. Блуждать в облаках, ожидая, пока в небе появится дыра, сквозь которую луна нехотя осветит незнакомые горы. Брести десятки километров под проливным дождём, а потом чудом добывать пламя и переодеваться прямо у костра. Пить чай вприкуску с острыми шутками и засыпать мертвецким сном прямо под неожиданно поднявшимся чистым открытым небом. Говорить с лошадьми, гладить их тёмные бока, целовать в умные, совсем не звериные морды, кормить хлебом из рук… Продираться сквозь буйные заросли альпийских лугов. Видеть, как в сотне метров от тебя молния разрушает скалу, и слышать при этом гром молнии. Миновать болота, окружённые клыкастыми скалами в лохмотьях тумана. И выйти к вершинам, над которыми – только орлы…
Но интереснее всего мне было то, как складывались отношения в нашем маленьком отряде, как в экстремальных условиях характеры вдруг раскрывались совершенно с неожиданной стороны. Я вела себя, как настоящая шпионка – приглядывалась, прислушивалась и в свои записные книжки заносила чаще всего не то, что требовалось от практикантки. Признаюсь, это было нечестно, однако, натуру свою переломить я не могла.
На первом месте у меня долго оставался Борода – наш начальник. Он читал наизусть Багрицкого, быстро седлал и вьючил лошадей, по утрам делал гимнастику и был серьёзно озабочен работой – собирал материалы для кандидатской диссертации. На последнем был геолог Маэстро, который спал в свитере, вставал позже всех, по полчаса хлюпался у ручья, горланя песни, доводя Бороду до белого каления, и в довершение всего, несмотря на свою ответственную должность, таскал с собой неразлучный баян. Окончательно я в нём разочаровалась после того, как однажды на пасеке он напился до потери пульса медовухой. Между этими двумя антиподами в моей картотеке располагались я, оруженосец Маэстро Боб, беспредельно преданный своему шефу, и наш конюх Стёпка по прозвищу Светошек – так он говорил: сентр, селый, сентнер. Стёпка держался со всеми на равных, был неизменно добродушен и имел привычку всё одушевлять. «Вода-то в речке уже спит», – говорил он вечером. А перед маршрутом: «Небо сердится, сегодня толку от работы не будет, лучше в лагере побыть…» А вот о гранитных останцах: «Скала-то она свою силу знает, и богатство своё знает…»
Однажды мы вышли к гостеприимному лесному хутору. Истосковавшись по молоку, припали кто к банке, кто к кружке, а кто прямо к ведру. Один Борода сидел в сторонке.
– Почему вы не пьёте? – спросила я.
– Да тут коровы сплошь бруцеллезные, – невозмутимо отвечал наш насквозь добродетельный начальник
Чуть не подавившись от такого сообщения, я поспешила поделиться новостью с остальными.
– А я-то думаю, почему молоко такое вкусное, – сказал Маэстро, спокойно осушая какую-то бадейку. – Ну-ка, ребята, помогите мне, сейчас мы угостим нашего командира.
Подхватив ведро, он двинулся к Бороде.
– Ты что, с ума сошёл? – закричал Борода и пустился наутёк напролом через кустарник, только замелькала его полотняная белая шляпа.
Мы хохотали до упаду, и после этой истории я уже не могла воспринимать всерьёз ни Бороду, ни свои попытки составлять номенклатуры.
Практики всё больше убеждали меня в правильности моего выбора, и всё больше я понимала, что моё место не в лаборатории.
Рене, который служил на Севере и влюбился в него, как он говорит, «навеки», не пришлось меня агитировать. Его странные, казалось, алогичные стихи
(Разъедутся на зиму люди,
Машины уйдут по лыжне,
И мысль о несбывшемся чуде
Опять возвратится ко мне…),
Его убеждённость, что мегаполисы, оторванные от природы, иссушают и деформируют душу.
(Города – это раны на теле Земли,
И надеюсь, их время залечит),
Его рассказы о том, как на краю Земли очищается и наполняется жизнь, падали на взрыхлённую, подготовленную почву и делали моё решение бесповоротным. И хоть на практики меня не брали (требовались только парни), заявку на распределение я подала в Северогорск.
Теперь скажи, что мне делать? Могу ли я сдать билет и распаковать багаж? Буду ли я в этом случае та Данусь, которую ты знаешь? Мне кажется, это будет, как если бы из резиновой надувной игрушки выпустили воздух, и она стала бы плоской, невыразительной, никому не нужной.
Я люблю тебя! Я хочу быть с тобой, хочу обнимать тебя, вечером ждать твоего прихода, но в сердце моём нет двух ответов. Оно зовёт меня туда, на край света. Может быть потому, что ты всё равно всегда со мной, где бы я ни была. Прости меня! Не сердись! Будет отпуск, я приеду, мы будем бродить с тобой по берегам Вольной реки, пить чай в пригородном доме и лопать пирожки с брусникой, испечённые Софьей Алексеевной, по-домашнему, без шума, сыграем свадьбу.
Завтра, то есть уже сегодня – я писала тебе почти всю ночь-. сборы будут полностью завершены. Расставание будет нелёгким. Отец станет сокрушаться: и куда она едет с таким ветром в голове? Представляешь, это у меня в голове – ветер! Как много в мире несправедливых суждений! Вообще, знаешь, всё же мои родители, которых я обожаю, не знают ничегошеньки о том, чем я живу. Дай им волю, они оставили бы меня здесь навсегда. О нет! Понимаешь, городок наш чудесный: дома – как маленькие замки, с шероховатыми стенами, увитыми плющом, тихие улицы, роскошные парки, но теперь мне кажется, что сюда хорошо только приезжать на недельку-другую – посмотреть на синие горы, насладиться красотой, покоем. Задерживаться здесь надолго мне уже совсем неохота. Само время здесь какое-то странное – тягучее, расплывчатое, подобное летнему зною. Кажется, отдайся ему –утонешь, растворишься, и останутся тебе неведомыми земные и неземные просторы. Если бы я слетала на Марс, то, вернувшись, наверное, застала бы те же красные черепичные крыши и тех же любопытных соседей, которые лишь чуточку раздались бы в ширину и поблекли, но с таким же энтузиазмом, с каким сейчас расспрашивают о ценах на мясо в Славгороде, разузнавали бы, сколько стоят фрукты на дальних планетах. Мне жаль их, но если бы они услышали об этом, они бы сильно удивились, потому что сами бесконечно жалеют меня. Ещё бы – ведь я еду на Север!
Я еду на Север! Пожелай мне счастливого пути! И помни: всё ещё будет!
Напиши мне в Северогорск до востребования. Пока я доберусь туда на перекладных, письмишко уже будет там.
Чао!
Твоя
_ _ _
21.09.1963г.
Михаил
Пригород
Данусь! Дорогой мой крылатый человек.
Мне нет оправданий. И не потому, что я не угадал твоего желания. Во всяком случае, не только потому. Я лгал тебе. Что обнаружил, впрочем, лишь тогда, когда прочитал твоё письмо. Я понял это по захлестнувшему меня жгучему чувству стыда. У тебя не бывает так? Говоришь или пишешь с твёрдой уверенностью, что всё сказанное – чистая правда, а потом оказывается, что под покровом этой внешней правды таилась ещё одна, которую ты вольно или невольно не замечал. Когда до меня дошло, что ты уже в дороге, и мы не увидимся, тут-то я уразумел, чего стоили мои уверения о пренебрежении к штампам в паспорте и о том, что мне, мол, страсти обуздать – раз плюнуть. Ох, Данусь! Может быть, всё дело в том, что за каких-нибудь пару недель я успел привыкнуть к мысли о близости рая. Я слишком долго сдерживал себя, и стоило мне получить от жизни туманный намёк на то, что мы можем быть вместе, как воображение моё разыгралось. Я потерял голову. Я затеял с жизнью гнусную торговлю. Вместо того чтобы бросить всё и мчаться к тебе хоть на «пару дней, на пару часов», я стал выклянчивать у судьбы всё разом. И получил по заслугам. Я даже не обнял тебя, Данусь.




