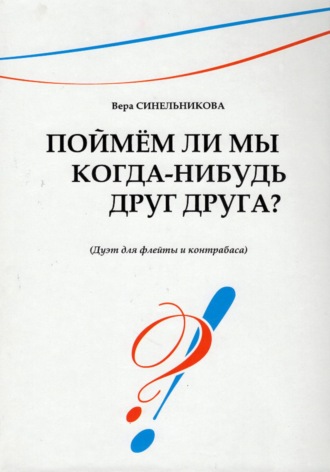 полная версия
полная версияПоймём ли мы когда-нибудь друг друга?
Он принёс оранжевую мясистую курагу, изюм, чищенные лесные орехи, мёд и большой хрустальный кувшин с водой, поставил всё так, чтобы мне было удобно доставать, и уселся напротив. В его спокойной расслабленной позе угадывались уверенность в себе и давняя привычка к роскоши.
– Вернёмся к нашим баранам! – попросила я.
– Прекрасно, – улыбнулся Олег. – Ты сама очень точно подобрала определение для своих коллег.
– Ну, начинается! – вспыхнула я. – Давай лучше оставим этот разговор.
Я сделала попытку встать, но Олег опередил меня, крепко придержав за плечи.
– Нервишки-то пошаливают, – констатировал он. – А я, между прочим, ничего обидного не сказал. Или ты не согласна, что полезно смотреть на вещи с разных точек зрения? Недавно в «Литературке» обсуждался вопрос, надо ли стремиться к установлению контактов с внеземными цивилизациями. Один из аргументов против таких попыток заключался в том, что пришельцы могут использовать нас в гастрономических интересах. Неожиданно, да? Но справедливо! Неужели тебе не хочется посмотреть на всё, что тебя так занимает, из несколько иной плоскости? Может, драма не в событиях, а в восприятии, в эмоциях?
Поскольку нервишки у меня действительно пошаливали, я решила, что буду больше слушать, чем говорить, и усиленно принялась за курагу.
– Знаешь что? – совсем не ехидно, а вполне дружелюбно улыбнулся Олег. – Давай попробуем отпрепарировать твоих коллег.
– Под микроскопом? – спросила я.
– Для начала под лупой, – в тон мне отвечал Олег. – Подробности оставим для менее впечатлительных натур. Ну-с, приступим? – Олег потёр руки. – Для вина ещё рановато, а клюквенного морса выпить пора.
Он быстро и ловко приготовил напиток и разлил в бокалы.
– Итак, начнём с безукоризненного Круглова. Могу биться об заклад, что по воскресениям, торжественно неся свои классические пшеничные усы, он шествует со своей половиной в кино, независимо от того, что показывают. После работы он аккуратно прочитывает от корки до корки многочисленную периодику и ежемесячно из зарплаты переводит кругленькую сумму на кооператив, которым, кстати сказать, вряд ли воспользуется. Скорее всего, он застрянет на Севере, а когда придёт пора, нейтралитет не спасёт его от инфаркта.
Несколько раз я и правда видела в воскресные дни Круглова и Тоню, шедших рука об руку по направлению к дому культуры. Что они строят кооперативное жильё где-то на материке, знает вся экспедиция, равно как и об огромном количестве выписываемых ими журналов.
– Что же плохого в том, что человек много читает? – спросила я.
– Я и не говорю, что это плохо, – усмехнулся Олег. – Это глупо. Газеты надо просматривать раз в месяц, а лучше – в полугодие, чтобы уловить тенденцию. Впрочем, и это лишнее. Здесь тенденция ясна на многие годы вперёд.
– И что же нас ждёт?
– Вырождение. Деградация. Ты обращала внимание на форму черепа и количество жировых отложений тех, кто нами руководит? Как ты думаешь, можно при таких данных не то, чтобы мыслить разумно, а просто мыслить? Ну ладно, ладно, не будем заглядывать так высоко. Но возьмём на заметку одно соображение: что могут сделать пассажиры поезда, если машинист сумасшедший или маразматик, а доступа к нему нет? Впрочем, если говорить о нашем вагоне, вряд ли кто-нибудь понимает, что мы мчимся в Тартар. Кроме Ирины, но у неё как бы не шизофрения на почве бессистемной перегрузки мозга и хронического дефицита мужских половых гормонов. Об Углове можно не говорить. Он из породы героев труда, тех, кто отливает рекордное количество болванок, прокладывает самые длинные железные дороги, поднимает целину, поворачивает вспять реки и добуривается до центра Земли. Он слишком сосредоточен на предмете своей деятельности, чтобы попытаться заглянуть в корень. Сутин, вероятно, смотрит немного шире, но что за нелепая избыточность эмоций! Инфаркт в тридцать пять лет?! Нет, у него смелости не хватит посмотреть в перспективу. В одной Русановой, возможно, есть некая незаурядность, но она тоже зациклена на одной идее, и это её погубит. Нетрудно предсказать её достижения. К концу жизни – труды, напечатанные в академическом вестнике, бесплатно, разумеется; докторская степень; квартира на пятом этаже с совмещённым санузлом и отяжелевший муж с комплексом неполноценности. Да, есть у нас ещё секс-гигант Удальцов, но у него лоб наверняка не больше трёх сантиметров, он хорош в борцовой стойке и в постели. Кажется, всё? Ну, на ком тут можно задержать взгляд, на кого можно возлагать надежды?
– Ты случайно не сдаёшь яд в аптеку?
– Да брось ты, – добродушно отозвался Олег. – Это обычный профессиональный взгляд на своих пациентов. Благоговейный трепет со скальпелем и психоанализом несовместим. К тому же они заслужили моё презрение. Я ведь хотел им помочь. Я был близок к открытию средства против рака. Три года жил в чудовищном ритме: лаборатория, операции, лекции в институте, библиотека, анатомичка, переписка с зарубежными коллегами, тренировки, между всем этим – напряжённая работа мысли… И как ты думаешь, кто меня остановил? Те, кто больше всего нуждался в этом открытии – потенциальные онкобольные, ходоки на тот свет с запущенной печенью, дряблым кишечником и разжиженной алкоголем кровью. Когда я бросил науку и стал решать их проблемы только на операционном столе, они превратили меня в шейха – я не знал, куда складывать деньги, золото, бриллианты, вещи, продукты. Я перестал ориентироваться в ценах. Но это не сделало меня гуманистом. Если бы не только Север, а весь этот континент рухнул в океан, я бы не увидел в этом особой трагедии.
– А как же ты сам? – удивилась я.
Олег посмотрел на меня хитро и многозначительно.
– Не проболтаешься?
– Могила, – заверила я его.
Он ещё помолчал, как бы взвешивая, стою ли я его откровенности, потом спросил:
– Похож я на дурака?
– Никак нет, господин шейх.
– Тогда почему я здесь?
Я наморщила лоб, делая вид, что тщетно напрягаюсь в поисках ответа.
– А ведь это так просто. Здесь самое короткое расстояние между Востоком и Западом. Мои друзья уже готовят персональный запрос на проведение сложнейшей операции, и скоро дядя сделает тебе ручкой.
Я посмотрела на Олега, будто увидела его впервые, так бывает в кино, когда ближний план внезапно сменяется очень дальним. Я вдруг поняла, что мысленно он давно уже там и увидела, что он гораздо меньше, чем казался, может быть, даже меньше меня. Это открытие мгновенно расслабило и развеселило меня. Олег, уловив смену моего настроения, принёс бутылку красного марочного вина. Ничуть не смущаясь и ничего не страшась, я выпила два бокала. Вино было необыкновенно вкусное, а тонкие ломтики какого-то пряного сыра таяли во рту. Распахнув дверь в соседнюю комнату, Олег включил там музыку.
Мы танцевали. Олег, видно, был рад, что закончились серьёзные разговоры.
– Наконец-то я вижу, – ворковал он над самым моим ухом, – как начинает распускаться этот нежный бутон. Ты сама не знаешь, какая ты женщина, как могущественно в тебе женское начало. Не таись от себя! Не будь скованной! Выбрось эти дурацкие свитера, скрывающие божественные линии. Откажись от довлеющей над тобой идеи, будто есть нечто более важное, чем твоя женская суть. Самое важное в жизни женщины – мужчина …
– Любимый мужчина, – подсказала я.
– Ну, причём здесь любовь? – горячо возразил Олег. – Сентиментальные выдумки только мешают наслаждению, в котором нужно забыться, раствориться полностью …
Он прижал меня к себе так, что я чуть не задохнулась, и поцеловал.
Я протрезвела мгновенно. Выскользнув из его рук, я схватила кувшин и вылила на Олега всю оставшуюся воду.
– Дура! – взревел он, вмиг утратив свою галантность, и мне стало страшно.
Пока он бегал за полотенцем, я быстренько переобулась, схватила свою шубейку и крикнув напоследок, что Лёшка был всё-таки прав, выскочила на площадку.
От дома Олега до нашего общежития ходу минут двадцать, но я была дома через пять минут. Ни слова не говоря, я разделась и нырнула в постель. Уснула быстро – всё-таки я непривычна к алкоголю. Утром я не чувствовала себя отдохнувшей – что-то притягивало меня к постели, не хотелось открывать глаза. Но я заставила себя встать и пойти на работу. Мысли и тревоги, изнурявшие меня ещё накануне, отодвинулись – на них у меня не было сил. Может быть, по этой причине я совершенно не злилась на Олега и встретив его по пути в столовую, даже улыбнулась ему и махнула рукой – мне хотелось загладить возникшую между нами неловкость и больше не вспоминать об этом. Но, встретившись со мной взглядом, Олег сразу отвёл глаза. Вот дурак, подумала я. Он обижается! Мы не оправдали ожиданий друг друга – вот и всё. Нужно ли это возводить … Вот тут я споткнулась. Возводить во что? Что я увидела в глазах Олега? Я никак не могла подобрать определения. Всё, что приходило в голову, было не то. Я опять зациклилась на своих мыслях, стала рассеянной, невпопад отвечала на вопросы. А ночью меня разбудила странная мысль, самая странная из всего, что я передумала за последнее время. Я поняла, что было в глазах Олега в тот короткий миг, когда он посмотрел в мою сторону. Ненависть. Я села в кровати и заплакала. «Мамуля, моя родная мамуля, – причитала я сквозь рыдания. – Ты видишь, что получается? Разве этого я хотела? Разве это я искала?» Вскочила ничего не понимающая Дарья, обняла меня, начала утешать. Вначале эффект был противоположный – я заревела ещё громче, но постепенно успокоилась. Дарья заварила мелиссовый чай, накрыла меня ещё одним одеялом. Я уснула и проснулась уже днём, когда в общежитии была тишина – все ушли на работу. Я выпила чаю с мёдом и снова уснула. Так было четыре дня. Сегодня у меня какое-то удивительное состояние. Мёрзну, в ногах слабость, но голова ясная-ясная. Плакать совсем не хочется, но думать не хочется тоже. Очень хотелось бы увидеть тебя. Чтобы ты пожалел меня или выругал, или то и другое вместе. Обнимаю тебя.
Твоя Дана.
_ _ _
28.02.1964 года
Михаил
Пригород
Родная моя Данусь!
Представляю, каким диссонансом прозвучал мой восторженный ослиный рёв из Сосногорска. Но и сейчас, по прочтении твоих минорных писем, прослезившись над ними, я с горечью подумал о том, на какой трухлявый пенёк падают твои ожидания. Что ты хочешь услышать от меня, Данусь? Я люблю тебя, я испытываю такую боль в сердце, как будто сам прохожу через эти муки. Но неужели ты до сих пор не поняла, что я не знаю ответов на твои вопросы?
Я не знаю, стоит ли отчаиваться по поводу ситуации с быстрореченской толщей, если мир абсурден сам по себе? Я не знаю, можно ли найти спасение в интеллекте и можно ли найти спасение без него. Я не знаю, что предпочтительнее в поисках формулы надежды – изнурительная борьба с неизвестным результатом или тактика Дарьи? Я не знаю, так ли уж необходимо найти на Севере много золота или лучше не находить его там вовсе. Я не знаю, почему и в какой момент рождается ненависть и что с этим делать. Я не знаю, Данусь, так много, а знаю, в сущности, только одно: сей цветы, сажай деревья, не обижай слабого и не пресмыкайся перед сильным – вот простое правило, которое может послужить оправданием перед собой и утешением в трудную минуту, которое помогает не утонуть в смуте повседневных мелких драм. Иногда мне кажется, что тебя уже затягивает этот омут. За ворохом проблем и описаний я теряю тебя, перестаю тебя чувствовать, и это огорчает меня безмерно. Поскорее бы прошла эта полоса сверхнапряжения, чтобы я снова увидел свою живую, весёлую, неугомонную Данусь. Я не могу поддержать тебя, Данусь, готовыми рецептами, но я люблю тебя, люблю бесконечно и разделяю твою боль.
Не теряйся!
Не умолкай!
Всегда твой
_ _ _
14.03.1964 года
Дана
пос. Дальний
Я так ждала твоего письма! И вот оно передо мной. Но радости нет. Всего один листок. Что же в нём? Читаю, перечитываю, недоумеваю. «Мир абсурден сам по себе», но «сей цветы, сажай деревья». Ты не знаешь, как жить, не знаешь, откуда берётся ненависть и «что с этим делать», но хочешь видеть меня «живой, весёлой, неугомонной». Ты перестаёшь чувствовать меня, но просишь не умолкать. Сплошные противоречия. Что происходит с тобой? Такого невнимания к моим письмам ещё никогда не было. Может быть, дело в Галине? В этом последнем письме о ней нет ни слова, но не испарилась же она! Сердце моё подсказывает, что она в тебя влюблена, так напиши мне об этом! Неужели я и правда ревную? Это же так глупо! Но всё же мне было бы легче, если бы я получила полный отчёт о ваших отношениях.
В заполярной драме – антракт. Погашены люстры. Приглушен звук. Идёт замена декораций, персонажей, пересматривается сюжет. Тихо перевели в Рудную экспедицию Ваню Дятлова. Он согласился, потому что ему дали там двухкомнатную квартиру с удобствами – здесь у него была комната в бараке, а у него недавно родился ребёнок. Тихо убрали Углова. Однажды ранним утром, до прихода Углова, в его рабочем столе мама Клава обнаружила секретные карты. Она пригласила понятых – как раз в это время в экспедиции случайно оказались Аскольд, Чуня и Горилла. Заметь, ни одного геолога. Был составлен акт, что материалы не спрятаны в сейф. Углов, наивная душа, единственное, что нашёл сказать в своё оправдание – что он поступал подобным образом сотни раз и спросил маму Клаву, куда она смотрела раньше. Мама Клава за недосмотр получила предупреждение. Углова отстранили от работы с секретными материалами, что равносильно увольнению. Операция проведена успешно, сострил Юра Ничипоренко, только вместо аппендицита удалили сердце. Углов готовится к переезду в Славгород – это его родина. Его место должен занять Удальцов – кандидатура Круглова не прошла по причине его беспартийности. Однако временно обязанности Главного исполняет всё-таки Круглов, поскольку Удальцов занят сдачей дятловского, то есть своего листа. У него-то с картой будет всё о'кэй. Он весь такой озабоченный, замотанный, неприступный. Встретившись со мной в коридоре, он выразительно разводит руками – дескать, что поделаешь, се ля ви. На заседании комсомольского бюро ребята решили написать статью в центральную газету, но прослышавший об этой затее Углов запротестовал категорически. Он сказал, что к начальственной должности плохо приспособлен, страшно устал от дрязг и единственное, о чём мечтает – это поскорее уехать. Я как за соломинку хватаюсь за формулировку Ольги «истина в пути». С геофизикой пока ничего не вышло, но Сутин сказал «ещё не вечер», а ему можно верить. Ольга и Ирина собираются проанализировать все имеющиеся данные по быстрореченской толще, используя свою пока секретную методику. Я пообещала Углову пройти по дятловскому листу пару сверхплановых маршрутов – выяснилось, что я летом буду работать в долине реки Быстрой. Я в отряде начальника, которого Удальцов выкидывал в снег. Росточек у него маленький, глазки маленькие – не поймёшь, озорные или хитрые, маленькие ушки оттопыриваются в стороны, и только борода большая, окладистая, и он её всё время поглаживает. Он уже несколько раз приходил в лабораторию, в которую я наконец снова допущена, солидно откашливался и расспрашивал, чем я занимаюсь. Дарья и Реня поедут с Кругловым. Говорят, Круглов никогда не брал в поле женщин, почему-то для Дарьи сделал исключение.
В кабачок я не хожу. Лёшка с февраля в отпуске. Реня занят. Много читаю. Вяжу. В общем, у меня что-то вроде великого поста. Самым главным в моей жизни стало ожидание твоего приезда. Я немножко на тебя сержусь, но очень люблю, и хотела бы, чтобы ты меня приласкал своей мохнатой лапой.
Не мешкай, отвечай мне сразу, договорились? Пока.
_ _ _
05.04.1964 года
Михаил
Славгород
Данусь!
С самого начала я знал, что тебе не повезло со мной. И предупреждал тебя об этом. Но, как видно, предупреждал недостаточно серьёзно и, кажется, пришло время расплаты.
Ты не заметила, Данусь, как менялись мои письма? В последних под маской бравады и оптимизма проглядывал фигляр.
Наверное, гранью, у которой мне следовало остановиться, было твоё первое письмо. Оно принесло с собой радость, граничащую с ощущением невозможности происходящего. Признаюсь, я не верил. И может быть, этим был силён. Я знал, что это непростые, единственные мгновения моей жизни и был торжественен, спокоен и серьёзен. С мужеством, которому я сейчас завидую, я спешил раскрыть перед тобой собственную несостоятельность. Но ты не оттолкнула меня. И вот тогда меня одолела проклятая слабость. Я начал суетиться, наскоро прикрывать свою наготу фиговым листком своей «философии», своих увлечений. Из чувства стыда, из страха потерять тебя, я избегал признания, что я, в сущности, живой труп, что во мне – только боль и клубок сплошных противоречий, что все мои разглагольствования, все мои наставления – дохлая кляча, на которой не доедешь до ближайшего поворота. Не имея цели в жизни, не веря в её высокий смысл, я не знаю, чего от неё хочу, и что могу ей дать, я невольно стал подделываться под твой стиль, под твой оптимизм, а ты упорно ставила вопросы, потому что жизнь ставила вопросы перед тобой. Я ловчил и изворачивался, хотя, конечно, не мог не чувствовать и не понимать, чего всё это стоит.
На что я надеялся, Данусь? На нашу встречу. На разговор, когда глаза в глаза, и слова уже не имеют той решающей силы, как в письмах. На твоё сострадание. На то, что мы уже научились немного чувствовать друг друга. На моё медленное возрождение, наконец.
До тебя мысль о возрождении не приходила мне в голову. Для чего было возрождаться? Для новых страданий? Но вот пришла ты. И принесла с собой надежду. Надежда – ещё не возрождение. За него предстоит борьба. Борьба, в которой никто и ничто помочь не в силах. Ты сам и только ты сам должен проделать этот путь. Я уже начал вставать из праха и пепла. Почувствовал, как трещит, вскрываясь, душевная броня. Раньше я не мог ходить один по лесам и лугам, смотреть в небо. Не мог слушать музыку – она вызывала во мне такие муки! А теперь – могу. Я усталый, но у меня есть силы, чтобы любить тебя. Об одном прошу: не торопи меня! Не заставляй выжимать сок из высохшей лимонной корки. Не изобличай в противоречиях! Я ещё не окончательно утратил чутьё – многое вижу и понимаю. Понимаю, что у меня есть кое-какие элементы жизненной теории, элементы, в сущности, верные, но самой теории нет. И она не могла возникнуть так быстро. За короткий срок всё, чем я жил до сих пор, всё, о чём когда-либо передумал, было перевёрнуто вверх дном, потрясено до основания. Я ощущал и сейчас в себе ощущаю могучее движение, в котором, однако, порядка нет, и навести его я пока не могу. Чтобы понять значение этих признаний, нужно вырядиться в мою шкуру, пережить в полнейшем одиночестве веру в любовь, дружбу, доброту человеческую, в самого человека даже …. Вот почему, когда я говорю, что ты – моя жизнь, это вовсе не пафос.
Твоё сомнение мне непонятно. Галка Пешкова – и ты! Я никогда не пытался ставить вас рядом. И не писал о ней потому, что не считал это важным. Галка – как Галка. Сорвиголова. Не верит ни в сатану, ни в архангелов, ни в прошлое, ни в будущее, залпом выпивает стакан водки, владеет приёмами самбо, любит Сартра, Кафку, джаз. Одним словом, если бы можно было вылепить создание, полностью тебе противоположное, получилась бы как раз Галка – дитя свободы, жизнь которого не подчинена никакому смыслу и в голове которого есть место для всего, кроме мировых проблем. Поскольку слалом исчез из моей жизни так же быстро, как и появился – нет снаряжения, нет время, ведь я сдаю экстерном уйму экзаменов и зачётов – видимся мы с моим бывшим инструктором очень редко. Отношения наши вполне приятельские. Однажды она приезжала в Пригород. Привезла, между прочим, прекрасный бюст Шаляпина. Думаю, что повторный визит вряд ли состоится, так как мать встала на дыбы – кроме тебя, в нашем доме она никого видеть не хочет.
И не надо больше об этом, Данусь! Жизнь моя принадлежит тебе безраздельно. Неужели это так мало? И всё, что я хочу получить от жизни – это ты. Неужели это так много, Данусь?!
_ _ _
19.04.1964 года
Дана
пос. Дальний
Любимый!
Прости мне мой максимализм-экстремизм, как выразился недавно Реня. Прости мне мои подозрения, сомнения, моё нетерпение. Знай, я по-прежнему верю: всё ещё будет! Будет встреча и будет возрождение. Будет долгая совместная жизнь и будет праздник, когда мы всё-таки найдём то, что искали.
Полоса сверхчувств и сверхнапряжений – позади. Я снова рада ходить по земле, кувыркаться в весенних искристых сугробах, глядеть, задирая голову, в бирюзу весеннего северного неба.
Меня обуяла жажда не философствовать, а жить. Ты прав, сто тысяч раз прав. Не будем торопиться. Отдадим себя во власть Времени.
Ты спросишь, что со мной случилось. И я отвечу: это он, Север. Он печалит, он и радует. Сейчас с ним происходит нечто, действующее на меня, как волшебное зелье. Голубые утра, похожие на белые ночи. Светлые ночи, напоминающие дремоту дня. Нежные, разведённые полярной лазурью и белизной перламутровые краски не то заката, не то восхода. Паруса заснеженных скал над морем. Розовые облака над дальними горами. Чудеса…
Сугробы ещё лежат, и стоит уставшему за долгий день солнцу склониться к горизонту, над тундрой начинают воровато колдовать морозцы – поспешно затягивают льдом оттаявшие озерки, покрывают снег блестящей корочкой наста, пробиваются в щели домов. Но солнце недолго дремлет за сопками – надо спешить. Сколько предстоит растопить снега и льдов, как много отдать тепла, чтобы обнажить и обогреть иззябшую за долгую полярную ночь тундру, заглянуть в каждую ложбинку, в каждое окно. Едва передохнув, с весёлой улыбкой оно вновь принимается за работу. И опять оттаивают снега. Сугробы становятся рыхлыми, проседают, истончаются. В проталинах проглядывают серенькие кочки с прошлогодней брусникой, тонкими стеблями травы, редкими ветками стланика. Проталины подсыхают и начинают источать неповторимый, будоражащий душу запах весны…
В воскресенье мы катались на лыжах. Упадёшь в сугроб, льётся на тебя из голубой опрокинутой чаши невесомое тёплое золото лучей, и не хочется вставать, и кажется, что ничего не бывает лучше, чем этот весенний день в заполярье. Придя домой, я перечитывала твоё сосногорское письмо совсем с иным чувством, чем два месяца назад. Мне так понятны теперь твои горнолыжные восторги.
А вечером мы собрались в нашем порядком подзабытом пристанище. Плясали, дурачились, слушали песни вернувшегося блудного сына Лёшки, который сбежал с «материка», не отбыв и трёх месяцев отпуска вместо положенных шести.
В посёлке свирепствует вирус любви. Людмила Меньшикова вышла-таки замуж за Брезгунова, который держит теперь грудь колесом и носит туфли на каблуках, чтобы казаться выше ростом. Агнесса, красневшая прежде от одних разговоров о любви, крутит напропалую роман, как ты думаешь, с кем? С самим ловеласом Удальцовым и поразительно, он ведёт себя, как рыцарь, забыв о многочисленных «девочках». Реня разразился книжкой «Полуостров любви». Одним словом, эпидемия.
А у геологов глаза блестят оттого, что скоро – поле. Все лихорадочно готовятся к заброске первых грузов. Готовится и наша партия. Мои непосредственные начальники немного смущают меня. У Лёвы уже сейчас прорезаются диктаторские наклонности. Он не терпит возражений, и сделал мне выговор за то, что я называю его по имени.
– Зовут меня Лев Евгеньевич, запомните это, пожалуйста, – сказал он очень строго.
Но что я могу поделать, если язык сам выговаривает: Лёва.
Геолог Стас производит впечатление немого. Я ещё не слышала его голоса. Он высокий, худой, болезненно бледный. Часто дымит в коридоре с ребятами, но всегда молчит.
До вылета меньше месяца. Когда уезжаете вы? Почему ты не писал об этом? Не забудь сообщить мне твой полевой адрес. Обязательно напиши мне до нашей заброски. Жду. Обнимаю тебя.
Твоя.
_ _ _
17.05.1964 года
Дана
пос. Дальний
Почему ты молчишь?
Это так непривычно, непонятно и тревожно. Думаю только об этом. Стас и ещё один наш кадр – промывальщик Костя уже в поле. Вместе с рабочими они готовят базу. Каюр Яша, который помогал здесь с оформлением последних грузов, вылетел тоже.
Мы остались здесь втроём – Лёва, я и Саша Изверов – один из приехавших в экспедицию на практику столичных студентов. Фамилия Изверов вызвала во мне вначале очень острую неприязненную реакцию, что мгновенно отразилось на отношении к ничего не подозревавшему Сашке. Как потом он мне признался, я была похожа на фугаску, которая фырчит и готова вот-вот взорваться. Но свою неправоту я осознала довольно быстро. Сашка – действительно родственник Олега, и внешне чем-то похожи – оба рослые, светловолосые, высоколобые, в обоих чувствуется порода. Но в Сашке нет и тени той спеси и того желания покуражиться над другими, которые хоть и прикрыты благовоспитанностью, но всё же обозначаются в натуре Олега очень явственно. Сашка приветлив, улыбчив, общителен. Как все студенты, немножко шалопай. Знает сто тысяч рецептов, как отлынивать от работы и при этом создавать полное впечатление страшной занятости и крайней заинтересованности в деле. В его походке, манере говорить, в его фирменных джинсах с бахромой и бесчисленными заклёпками, вылинявшей рубахе и сдвинутой набок широкополой шляпе смешано пижонство и призрение к шику, подтянутость и небрежность, серьёзность и легкомыслие, и совершенно невозможно понять, чего же в нём больше, потому что в каждый данный момент он каким-то сверхчутьём находит нужное соотношение. С ним легко, он не относится к пожирателям энергетического типа своего родственничка. Можно только радоваться явлению этого симпатичного разгильдяя на фоне бессловесного Стаса и зануды Лёвы.




