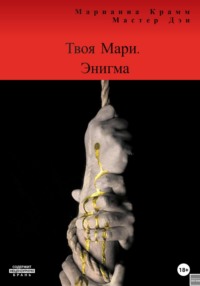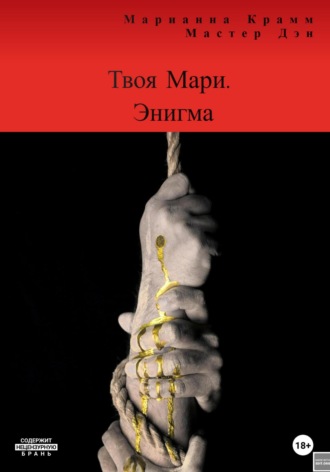
Полная версия
Твоя Мари. Энигма

Мастер Дэн, Марианна Крамм
Твоя Мари. Энигма
Марианна Крамм, Мастер Дэн
Твоя Мари. Энигма.
Авторы не пропагандируют, не стараются сделать БДСМ популярным, не предлагают пробовать на себе.
Наверное, теперь никто лучше меня не расскажет, как все было. Вернее, как все закончилось. Я тоже не хотел. Но что-то толкает внутри, бьется о ребра, не дает забыть. Я должен, потому что больше, наверное, никто не сможет. А еще я должен Мари – слишком много должен, чтобы не закончить. Я не стал изменять имен, сделал все, как сделала бы она. Это очень странно – говорить в прошедшем времени о человеке, долгое время бывшем практически смыслом твоей жизни, и я никак не могу к этому привыкнуть. Пока не могу. Но я постарался передать все то, что испытывал к этой женщине все годы, что знал ее, и о чем не успел или просто не смог ей сказать.
Сибирь.
Энигма, «Амэн». Она всегда ненавидела эту песню. Ненавидела, плакала – почему-то всегда плакала, едва услышав первые аккорды. Сейчас, стоя на кладбище под пронизывающим ветром, я ловлю себя на том, что в наушниках плеера – именно эта песня. Амэн, Мари… для тебя все закончилось, моя зайка.
Я не был на похоронах. Не смог. Пережив до этого смерть матери, а потом и отца, больше не могу терять, прощаться. Да и некого мне больше терять. Вот есть свежий холм – а Мари больше нет. Машки нет, Машули, зайки моей. Амэн…
Я приезжаю сюда один, так легче. И то, что не видел ее мертвой, тоже помогает. Для меня она все еще жива, все еще где-то здесь, просто не рядом. Но она и не была уже рядом, уже не была моей. Хотя внутри она все равно моя. Вот этот тонкий белый шрам на предплечье – это она, моя Мари. И такой же шрам внутри. Наверное, когда я умру, патологоанатом очень удивится, вскрывая мое сердце, потому что там проступят белые буквы – «Мари». Хотя она выбрала бы черный шрифт.
Мари… Она была права, когда говорила, что я зову ее тем именем, что не я ей дал. Но оно так подходило ей, что с этим как-то безоговорочно согласились все, кто ее знал. В тусовке никто не звал ее иначе – только Мари. Так, как назвал ее Олег.
Я давно не был у него – не могу найти в себе сил нажать кнопку звонка и переступить порог квартиры, где все напоминает о ней. Я знаю, Олег сильный, он вывозит это в одиночку – он как Мари, та тоже была такая. А я не могу смотреть ему в глаза и видеть, как внутри он весь сгорел от этой боли. Уж если корчусь я – то каково ему…
Слайды из черно-белых фотографий, во всю стену – вместо экрана. Фотографии, фотографии – руки, спина, ноги, опять спина, снова… и – чертова «Энигма» со своим «Амэн», который как нельзя лучше отражает все, что я сейчас чувствую, глядя на эти снимки, сделанные мной в разное время. Моя Мари…
Я сижу на полу у дивана, в руке бокал с вином – красным, сигарета в пепельнице на полу истлела почти до фильтра. Мари возникает на стене – то в наручниках, то на коленях, то в обвязке. Никогда – лицом в кадр, только спиной, как будто я и знал-то ее исключительно со спины. Да… что-что, а эту спину я могу нарисовать по памяти в любой момент, каждый изгиб, каждый позвонок, каждую родинку. Эту спину я раздирал плетью – и целовал потом, едва прикасаясь губами. Я закрываю глаза и даже тогда вижу эту спину. Мари бесшумно возникает на стене мой квартиры – так, словно она и не уходила никуда. Словно она опять со мной.
Телефонный звонок, беру трубку – Север. Дружбан.
– Ты где пропал-то, Дэн?
– Дома я. В отпуске.
– А-а… ты там как вообще? – вопрос осторожный, словно Север боится меня обидеть.
– Я – никак.
– Диня… ну, хватит, может? Надо ведь как-то дальше…
– Что?
– В каком смысле – что?
– Дальше – что?
– Ну, не знаю – жить, наверное, нет?
– Скажи, как именно, я попробую.
– Перестань, Дэн, ну, это уже ненормально. Ее нет больше. И твоей она все равно не была.
– И теперь мне забыть? Нет, Север, не могу.
– Ей бы не понравилось, Дэн, – тихо произносит Север.
– Ты не можешь этого знать.
– Я так думаю. Мари бы не хотела этого. Как не хотела бы, чтобы Олег…
– Не тронь Олега! – это вырывается у меня примерно с той же яростью, как могла бы рявкнуть Мари. Она в последние месяцы говорила эту фразу часто…
– Вы с ума оба посходили, – злится Север. – Нет, я понимаю – это горе, это, бля, трагедия, как ни крути, мне тоже до сих пор не верится. Но, Диня…
– Все, Север, оставь это. Ты не поймешь.
– Да – я не понимаю! Вы же не можете лечь рядом с ней – или лечь вместо нее, ну, так уж случилось. Она – там, а вы – тут, живые. И надо продолжать жить, даже если тебе кажется, что не можешь! Давай я в субботу девах каких-нибудь привезу. Хочешь – Олега позовем…
– Сказал же – не тронь Олега! И я тоже никаких девах не хочу.
– Ну, Лерку возьмем, – не сдается Север. Всегда был упертый, ничем не прошибешь.
Какие девахи, какая Лерка? Мари на кладбище. И я там, с ней, и Олег. Нет нас больше – всех троих.
Наверное, этот разговор и толкнул меня за ноутбук. Я никогда ничего не писал – кроме историй болезни, и как это делается, тоже не знал. А оказалось, что Мари писала. О нас. О себе. Я нашел ее дневники случайно, в собственных антресолях, видимо сам туда и сунул, когда привез с дачи, открыл и с первых строк понял – не могу оторваться, пока не прочту все. Мне казалось, я даже слышу ее нежный голос, которого она сама, кстати, очень стеснялась. Ей всегда казалось, что при ее характере разговаривать как розовая феечка – верх несоответствия. А я любил ее голос, и сейчас, погружаясь в чтение, слышал его все отчетливее, словно Мари читала мне вслух.
Так странно видеть себя через призму чужого восприятия, даже не думал. Жаль, что она не показывала мне этого раньше, возможно, прочти я это тогда, все могло бы быть иначе. У нас мог быть шанс – если бы я потрудился увидеть себя ее глазами. Сослагательное наклонение… если бы… сама же Мари говорила – «было бы, но не было». Не было. Не могло. Не случилось.
Я читал запоем несколько дней, отрывался только сварить кофе и закинуть что-то в рот, даже не понимая вкуса еды. Наша жизнь – такая, казалось, обычная, вдруг стала казаться мне чем-то иным. И не мы это вовсе, а просто книга о чьей-то чужой жизни, и эти люди на моих глазах любят, уничтожают, собирают по кускам… Как же, оказывается, страшно выглядят наши отношения со стороны…
Я заболел после прочтения последней страницы. Натурально заболел, с температурой и всеми простудными радостями. Валялся в кровати, слабый и мокрый от пота, не в силах даже чай себе сделать. Нет, можно было набрать Лерке, она бы примчалась, нижняя ведь… какая-никакая… Да, вот именно – никакая. И мне больше не нужна, и Мари права – надо ее отпустить уже, раз выгнал. Зачем давать надежду и продлевать то, что обоим только в тягость.
Я помню, как она встретила меня, когда я привез Мари из Москвы в октябре. Истерика, сопли, вопли – ненавижу баб, которые ведут себя так. Я от этого чувствую себя не виноватым, а злым и готовым убивать. Кто ты такая, чтобы я давал тебе отчет, где, с кем и как я был?! Нижняя? Вот и припухай снизу, Верхний тебе ничего объяснять не должен.
Мари лежала дома пластом, совершенно одна, а я вынужден был выслушивать вот это – ради чего? Я вспылил и выставил Лерку за дверь. Она молотила в нее кулаками и орала, а я, стоя в квартире и подпирая дверь спиной, все думал – осмелится произнести фразу, которую они втроем, с Иркой и Ленкой, повторяют всякий раз, едва им покажется, что Мари их где-то опять опустила? Лучше бы не осмелилась, потому что тогда я выйду на площадку и сломаю ей нос. Делать этого мне совершенно не хочется, но, если только сейчас Лера произнесет «да когда уже она сдохнет наконец», клянусь, я это сделаю. Но она каким-то чудом удерживается, потому уезжает к матери с целым носом и даже без синяков. А я иду к Мари…
Нет, надо все по порядку, раз уж я взял на себя обязанность рассказать, как все закончилось.
Сибирь, осень.
Мари улетала в Москву утром, но не в собачью рань, как всегда, а в десятом часу – Олег взял такие билеты. Лететь она не хотела, устроила мне скандал, топала ногами, орала – все, как я не люблю. Но ее я понимал и не злился. Моральное состояние в этот момент у нее было так себе, Олег подливал масла в огонь своим упрямством, а я разрывался между ними – лечил его и пытался не дать сорваться ей.
С Олегом выходило легче, там я хотя бы точно знал, что и как мне делать, чтобы восстановить его после травмы, это моя работа, в конце концов, я это умею.
С Мари было куда сложнее… И так-то не подарочный характер в комплекте с собственной болезнью и травмой, полученной Олегом, сделали из Мари нечто неуправляемое. Она то плакала, лежа лицом в подушку, то носилась по городу, как умалишенная, пытаясь сделать сотню дел одновременно. Пару раз я видел ее в центре с высоким полицейским чином – они прогуливались по набережной, и Мари чему-то смеялась, держа в руке пластиковый стаканчик с кофе, а генерал смотрел на нее сверху вниз с нескрываемым обожанием. Я не беспокоился – он ванильный, они просто друзья, Олег в курсе. Да, неприятно видеть, как на женщину, которую ты любишь с семнадцати лет, с таким трепетом смотрит кто-то чужой, даже не Олег. Но я понимал, что не могу сейчас лезть с этими предъявами к Мари – ей и так выше крыши, она старается не дать себе сорваться, и в этом мы оба заинтересованы, так что пусть развлекается, если этот генерал заставляет ее вот так беззаботно смеяться. Олегу я об этом, кстати, не рассказал.
Когда Олег напомнил, что ей пора в Москву на очередной курс «химии», купил билеты и забронировал квартиру, Мари взбесилась окончательно. Вылила она все свое недовольство, конечно, на меня – ну, а на кого еще… Дэн у них вместо куклы вуду, его можно булавками тыкать, когда хочется…
Я выслушал, но, помня, о чем просил меня Олег, как мог, жестко сказал:
– Нет. Ты полетишь и будешь лечиться, потому что я не позволю тебе трепать ему нервы, это ясно? Я вкладываю в него столько физических сил, что просто не позволю твоим капризам все похерить, поняла?
Она захлопала ресницами и даже рот приоткрыла, но потом, закурив, успокоилась и задумалась. Мари всегда была разумной, она не поставила бы под угрозу здоровье Олега, раз уж я сказал, что это важно. Потому и полетела.
Я приехал в аэропорт в тот момент, когда она еще стояла в очереди на стойке регистрации – дежурил, долго сдавал смену, пришлось еще посмертный эпикриз писать, в общем, отвезти ее не успел.
Увидев меня, она покачала головой:
– Ну, и зачем ты ехал? Я отлично добралась на такси.
– Прости, Мари, закрутился… ночь дурная какая-то была, и пациент умер… – я осторожно поправил ярко-оранжевый шелковый шарф на ее шее, готовый соскользнуть к ногам, обутым в белоснежные кожаные кроссовки. – Потеряешь, – и вдруг вспомнил, что нечто подобное видел утром, зайдя к Олегу – у него на левом запястье повязано что-то вроде браслета из оранжевой шелковой ткани. Только теперь я понял, что это тоже платок Мари, он сам привозил ей этот комплект из Японии – два платка, побольше и поменьше… И появился этот странный для байкера аксессуар примерно в то время, что Мари зашла к нему в последний раз. Господи, ведь это был последний раз, надо же… Последний раз, когда она видела его на больничной койке – потому что к ее приезду я уже поставлю его на ноги окончательно, как и обещал.
Очередь двигалась медленно, я смотрел на Мари – она выглядела очень уставшей и в этот раз действительно больной, несмотря на все попытки скрыть это при помощи косметики.
– Может, ты посидишь пока? – я кивнул в сторону диванов. – А к стойке подойдешь, когда очередь…
Она мотнула головой:
– Нет… насижусь еще и в самолете, и в аэроэкспрессе потом…
– Тебя там хоть встретят?
Опять неопределенный жест головой:
– Да… наверное.
– Мари…
– Ну, ты-то хоть не доставай меня, – цедит сквозь зубы, и я понимаю, что ей совсем плохо, как она вообще полетит в таком состоянии…
Если бы я мог все бросить, то прямо тут купил бы билет и полетел с ней, но… работа, будь она неладна, и Олег.
– Долечу, не в первый раз, – оказывается, я стал громко думать, совсем как она.
– Ты мне хоть что-нибудь напиши.
– Ну, хоть что-нибудь напишу, наверное.
– Мари…
– Что ты заладил – «Мари, Мари»? Ничего не случится, я это сто раз проходила. Лучше бы не приезжал, честное слово…
Я поднимаю вверх руки, признавая поражение, и умолкаю до того момента, как ее маленький чемодан пополз по ленте в багажный отсек, а сама Мари с посадочным талоном в руке поправила на плече ремень саквояжа:
– Все, я пошла в накопитель.
– Пойдем, провожу, тут ведь можно.
Это просто способ продлить возможность видеть ее еще на пять минут – пока будем подниматься на двух эскалаторах и стоять у стойки на вход в накопитель. Она пожимает плечами:
– Ты спать вообще когда-то собираешься? Дежурил ведь.
– Мне сегодня только в реабилитацию к четырем, успею поспать.
Стою на эскалаторе позади нее, осторожно принюхиваюсь – духи… Эти ее сумасшедшие духи, от которых во мне все переворачивается. Второй эскалатор, та же манипуляция – словно хочу надышаться ею, сохранить подольше…
Мари шлепает на стойку перед сотрудницей паспорт и посадочный, поднимает голову и смотрит той в лицо. На фото в паспорте она сейчас похожа мало, я тоже это вижу – тетка зависла, водя глазами с портрета на оригинал. Мари никак не комментирует это, терпеливо ждет. В паспорте она рыжая, с волосами до плеч. Сейчас у нее максимально возможно короткое каре с густой челкой, волосы – как воронье крыло.
– Проходите, – решается, наконец, тетка, возвращая Мари паспорт и талон со штампом.
Мари оборачивается ко мне, я беру ее за руку, которую она, к моему удивлению, не выдергивает, как сделала бы обычно:
– Я напишу тебе, когда доберусь.
И я понимаю, что это не для меня, а для Олега, которому я, разумеется, тут же перешлю ее сообщение. Потому и говорит – не позвоню, а напишу.
Я быстро прижимаю к губам ее запястье, успев почувствовать, как частит пульс:
– Будь умницей, Машуля, ладно?
Она окидывает меня насмешливым взглядом, но ничего не говорит, а уходит в распахнувшиеся перед ней стеклянные двери. Я еще стою перед ними, видя, как силуэт Мари перемещается к сканеру, а потом исчезает за ним в накопителе.
Мари написала мне, как и обещала – четыре слова: «Я долетела, все нормально». Я переслал сообщение Олегу, тот не ответил. Но я и не ждал, мне важно было донести до него, что Мари на месте, что с ней все в порядке. И без того не слишком разговорчивый Олег после травмы совсем замкнулся, ушел куда-то в одному ему понятные материи. Я постоянно заставал его то в наушниках, откуда лилась заунывная японская музыка – барабаны или флейта, от звуков которой я лично всегда хотел выброситься в окно, то с толстой потрепанной книгой на японском – какой-то старый эпос, это я знал от Мари. Книгу ему тоже передала она, когда мы с ней собирали вещи в его квартире.
Мне никогда не была понятна его любовь к Японии, ко всем этим традициям, каким-то ритуалам, а еще больше удивляло, что Мари, уйдя к нему, вдруг начала разделять это. Ну, как – начала…
Она и до этого увлекалась странными японскими стихами из пяти строк и любила всякие японские примочки типа кухни, живописи и литературы, но с Олегом это все прямо заиграло другими оттенками. Она начала носить кимоно, находясь в его квартире, научилась заваривать чай по всем правилам и даже освоила чайную церемонию – почти по всем канонам.
Я знал, что они часто это с Олегом практикуют, и Мари, совершенно неуправляемая и не склонная ни к какому подчинению, вдруг делается в такие моменты абсолютно другой. Сидит возле него на коленях, сложив руки и склонив голову, молча подливает чай в чашку и выглядит не как Мари, а как гейша.
Я однажды зашел к ним во время таких игрищ и всю дорогу еле сдерживался, чтобы не заржать. Однако в тот же момент мне было так обидно и так завидно, что хотелось пинком перевернуть низкий столик, за которым на циновке сидел Олег. Меня физически разрывало от его вида – уверенный, спокойный, ни единого лишнего движения. И – Мари рядом на коленях. Моя Мари, мать твою…
Моя Мари, которую я сам ему и отдал. Даже в голову мне тогда не пришло, что она никогда больше не вернется, а вот поди ж ты…
Когда-то давно.
Олег старше меня на три года, я знаю его сто лет – кажется, он всегда был в моей жизни, наши родители дружили до того момента, пока его семья не переехала, и даже позже, когда умер его отец, мать Олега иногда приезжала к нам в гости вместе с Олегом и Галкой, его сестрой.
Мать Олега – это отдельная песня. Авторитарная, властная, не признающая ни за кем права на собственное мнение. Она училась с моей матерью, они дружили еще со студенчества. Моя мать была терапевтом, мать Олега – гинекологом, и требовала, чтобы он непременно шел в медицинский. Собственно, мои родители тоже хотели видеть меня врачом, но как-то менее агрессивно на этом настаивали. Олег всю школу зубрил с репетиторами химию, биологию и физику, и его мать была уверена в том, что выбор профессии состоялся.
Но в семнадцать Олег вырвался – год работал грузчиком, потом ушел в армию, отслужил, поступил в университет на Дальнем Востоке, на факультет востоковедения, подрабатывал на мясокомбинате. Закончил, остался там – не хотел жить с матерью и сестрой, хотя помогал им материально. Он всегда умел довольствоваться совсем небольшими деньгами, отсылал матери почти все, что зарабатывал. Она общалась с моими родителями, потому я и знал это. Сам Олег мне этого не говорил, хотя я ездил к нему в гости, мы по-прежнему дружили. Это у него в съемной квартире, приехав на каникулы после первого семестра в институте, я впервые увидел хлыст, плеть и наручники…
Вертел, помню, в руках, рассматривал с интересом:
– Это для чего тебе?
– Для дела, – коротко бросил Олег.
– Для какого? – не отлипал я, и тогда он, вздохнув, взял плеть и крест-накрест вытянул себя через плечи по спине – я аж присел от свиста хвостов:
– Ни фига…
– Только делаю я это с женщинами, – спокойно сказал Олег, бросая плеть на диван. – Если интересно, могу показать.
Я даже не понял, как это произошло, но мы оказались с ним вечером в каком-то клубе, куда не так просто было попасть – требовались приглашения и рекомендации, но Олега без проблем впустили, а меня – как его гостя. И вот там я и понял, чего, оказывается, не хватало в моей жизни. Вернее, я давно понимал это, но никак не мог выразить и, тем более, реализовать.
Я смотрел на то, как на сцене мужик полосует плетью привязанную к спускавшейся с потолка распорке девушку в микроскопических трусиках, и чувствовал, как внутри все горит огнем – я хотел на его место. Олег, кстати, был там со своей девушкой – миниатюрной японкой Мидори. Она все время молчала, оживая только в момент, когда Олег поворачивал к ней лицо. Он бросал какую-то фразу на японском, и девушка мгновенно выполняла его приказания. У нее на шее я заметил кожаный ошейник с металлической пластиной, на которой иероглифами было выгравировано имя Олега.
– Мы живем в лайф-стайле, – объяснил мне Олег потом. – Это значит, что наша Тема не прекращается ни на секунду двадцать четыре часа семь дней в неделю. Она не принадлежит себе и делает что-то только с моего одобрения. Я всегда знаю, где она, с кем, что делает. Она не может принимать решений сама, а я могу требовать от нее все, чего захочу, и не получу отказа.
– То есть, если я сейчас попрошу разрешения ее трахнуть, и ты разрешишь, то она не откажется? – заржал я и тут же осекся, увидев его глаза – жесткие, чуть прищуренные:
– Все верно.
– Не понял…
– Что именно ты не понял? Если я скажу, она пойдет с тобой и сделает все, что захочешь ты. И не будет выражать протестов или возмущений.
– Охренеть… – выдохнул я. – И это… нормально?
– Для нашего типа отношений – да.
– А бывает иначе?
Тут я получил, наверное, самый длинный монолог от Олега за все годы, что его знал… Он вывалил на меня такую гору странной, пугающей и одновременно возбуждающей информации, что я плохо спал ночью и все думал о его ответе на мой вопрос по поводу его нижней – теперь я знал, как это называется.
Я прожил тогда у него неделю, и за эту неделю Олег научил меня кое-каким финтам с флоггером и «кошкой», попутно рассказывая, что можно, а что нельзя. Оказывается, у него, помимо японки, с которой он жил постоянно, было еще три девушки, приходившие для экшенов – так это называлось. Вот одна из них мне и досталась в качестве «учебного пособия».
– Тебе будет попроще, ты анатомию хорошо знаешь, – говорил Олег, выставляя мне руку на удар. – Представляешь, где какие нервы, где опасные места в теле, по которым ни в коем случае нельзя работать.
Я чувствовал такое возбуждение, что не мог говорить, только головой тряс, как взбесившаяся лошадь. Когда моя рука впервые опустила плеть на обнаженную спину девушки, я почувствовал, что вот теперь все пойдет так, как надо. Как будто я нашел себя.
Вернувшись домой после каникул, я долго чувствовал себя как не в своей тарелке, было ощущение, что я постоянно болен – меня ломало, как при высокой температуре, клонило в сон, руки дрожали. В моей жизни уже тогда была Мари, Машка. Ну, как – была…
Она мне очень нравилась, я помню даже, как впервые увидел ее на подготовительных курсах. Между прочим, кругом было тогда полно симпатичных девчонок, куда более красивых, чем Машка – худая, высокая, в неизменной темно-синей кофточке с маленьким воротничком и длинной джинсовой юбке. У нее тогда были натурального цвета волосы – темно-русые с рыжеватыми прожилками, которые на солнце давали какой-то золотистый отблеск. Я не знаю, чем именно она зацепила меня тогда, но помню, что на всех занятиях всегда садился так, чтобы видеть ее профиль, наблюдать за тем, как она старательно записывает лекцию, чуть прикусив нижнюю губу, как поправляет прядь волос на виске, постоянно выпадавшую из-под большой заколки-ракушки, державшей остальные волосы в закрученном пучке. У нее была удивительно несовременная по тем временам прическа – волосы до плеч она собирала кверху, закалывая их, а не распускала, как делали все девчонки. Но к ее длинной тонкой шейке только такая прическа и подходила. Иногда она делала «хвост» у самого основания шеи и закалывала его заколкой в виде большого шифонового банта – черного, в мелкий белый горох, и этот бант подчеркивал всю хрупкость ее образа и придавал облику Марии какую-то несовременную воздушность. Я смотрел на ее шею и думал, с каким наслаждением гладил бы ее пальцами, прикасался губами, скользил вниз…
Частенько я провожал ее домой, но она никогда не приглашала зайти, редко соглашалась куда-то пойти вместе. Учились мы потом на разных факультетах, изредка виделись на занятиях, а потом вдруг она стала попадаться мне на глаза все чаще, и я, наведя справки, узнал, что она перевелась. Почему-то всегда хотелось думать, что из-за меня…
Я стал понастойчивее, она вроде как не возражала, но и особой радости не выказывала, и это меня задевало – девчонки за мной носились толпами, буквально вешались на шею, проблем с выбором никогда не было, а тут… Наверное, этим она окончательно меня добила, заставила в себе сомневаться. Я все чаще провожал ее домой, водил в кино, в театр – но и только. Дальше она не пускала, и я, проводив ее, ехал в общагу к какой-нибудь однокурснице, чтобы там сбросить накопившееся нереализованное желание.
Сдалась Машка как-то незаметно, я даже не сразу понял, как вышло, что однажды утром первое, что я увидел, проснувшись, было ее спящее лицо. Я приподнялся на локте и долго всматривался в это лицо, в тот момент казавшееся мне идеальным и самым красивым на свете. Я окончил художественную школу, педагоги говорили, что есть талант – мог нарисовать что угодно по памяти, и уж в красоте линий разбирался. А вот это лицо украшало задние страницы всех моих конспектов – иной раз на лекциях я видел профиль Машки и не мог удержаться, рисовал.
Она перевернулась на спину, чуть выгнулась во сне, и я окончательно потерял голову, навалился сверху и взял ее, вот такую сонную и от этого еще более желанную. Она, к моему удивлению, не сопротивлялась, отвечала, и от такого голова моя совсем поехала. Я понял, что хочу быть с ней всегда – и к черту всех телок, что готовы бежать за мной по первому свисту. За Машкой я хотел бежать сам.
Но со временем я вдруг почувствовал, что хочу от нее большего. Это произошло как раз после тех каникул на Дальнем Востоке у Олега. Однажды я отчетливо представил Машку в наручниках, зафиксированную к стене, и себя, опускающего «кошку» на ее спину… Ничего в тот момент я не желал сильнее.