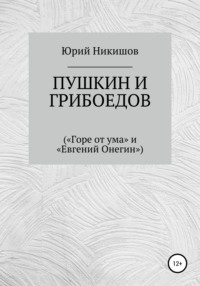полная версия
полная версия«Герой нашего времени»: не роман, а цикл
Как формировался цикл Лермонтова
Начнем с творческой истории лермонтовского произведения. К сожалению, из-за отсутствия многих рукописей и авторских свидетельств вся история создания «Героя нашего времени» известна далеко не полностью. Лакуна заполняется домыслом! Опора – обычные аналогии. Например, такие: «…Произведение было задумано и выполнено как целостный роман, отражающий типичные черты “сына века”, а не смонтировано впоследствии из разрозненных, обособленно возникших повестей»39; «…Роман с самого начала был задуман не как простое сочетание разрозненных частей, а как единое целое, внутренние связи которого определены логикой развития центрального персонажа – аристократа, армейского офицера Печорина»40.
Всякими бывают первые толчки, приводящие к замыслу. Пушкин в одном из поздних своих писем назвал «колыбелью» «Онегина» Крым, где поэт был летом 1820 года. Практическая работа над романом в стихах началась в канун лета 1823 года; стало быть, нужно учитывать три года предыстории, когда формировался первоначальный замысел. Роман складывался из глав, отражавших этапы, а иногда только звенья жизни заглавного героя. Сюжетные дозы глав романа можно излагать весьма лаконично. Первая глава: герой поехал – и приехал (за наследством) в деревню. Правда, в главе есть и внутренний сюжет. Представив читателю героя летящим в пыли на почтовых, поэт погружается в ретроспекцию на всю глубину, вплоть до рождения ребенка на брегах Невы, показаны его воспитание и обучение, успешный дебют в светской жизни и, чему не придается достаточное внимание, неожиданное разочарование в ней. Вторая глава: герой подружился с новым соседом Ленским; поскольку тот влюблен в соседку Ольгу Ларину, рисуется и все семейство Лариных. Третья глава: Онегину захотелось глянуть на невесту приятеля – не понравилась. Но визит не остался без следа: в героя влюбилась ольгина сестра Татьяна и написала ему письмо. И т. д41.
Такое построение не препятствует серьезным изменениям в замысле романа и в изображении персонажей, но все это происходит в рамках единой задачи крупным планом последовательно показать становление заглавного героя. Единой задачи такого типа нет в «Герое нашего времени». Вопреки устоявшемуся мнению можно уверенно утверждать, что как раз работа началась не с замысла того произведения, которое мы видим в итоге.
Публикации «Героя нашего времени» отдельным изданием предшествовала публикация в «Отечественных записках» трех компонентов: «Бэла» (1839, № 3), «Фаталист» (1839, № 11), «Тамань» (1840, № 2). Б. М. Эйхенбаум пробует проверить версию, публиковались ли напечатанные фрагменты в той же последовательности, как были написаны, – и склонен отклонить ее: история написания не соотносится со сроками публикации, не определяет последовательность размещения компонентов в составе целого. Исследователь полагает, что раньше других была написана повесть (новелла) «Тамань», причем именно как отдельное произведение42. Б. Т. Удодов разделяет мнение, что основная работа над «Героем нашего времени» началась по возвращении Лермонтова из ссылки в 1838 году, но тоже, полагает он, «Тамань» – вне этого замысла – была написана раньше, в сентябре – декабре 1837 года43. (Аргументы в подтверждение версии рассмотрим чуть позже).
Надобно добавить, что «Тамань» и сюжетно, и стилистически ближе всего примыкает к наброску «Я в Тифлисе». Этот побочный кавказский (нереализованный) замысел расшифровал И. Л. Андроников: «Сюжет наброска “Я в Тифлисе” с офицером, бросающим в воду по приказанию коварной красавицы труп другого, убитого ею, офицера, с финалом, в котором таинственный преследователь падает с высокого моста в бурную реку, – этот замысел имел больше общего с кавказскими повестями Марлинского и с юношеской прозой самого Лермонтова, чем с будущим журналом Печорина. Работая над “Героем нашего времени”, Лермонтов не только освободил этот первоначальный замысел от густоты романтических красок, но и пересказал это приключение с иронией по адресу романтических повестей»44. Упомянуть об этом захотелось как о знаке настойчивого интереса Лермонтова к поэтической теме Кавказа, воспетого пером Державина и Пушкина; отсюда и разнообразные подходы к теме. Более всего романтических красок как раз в «ранней» «Тамани»45.
Времени создания «Тамани» принципиальное значение (именно для понимания жанра лермонтовской книги) придает Э. Г. Герштейн46, но занимает иную позицию. Исследовательница сжимает дистанцию между написанием и публикацией «Тамани» (она считает, что повесть написана позже сентября 1839 года), но ее мотивировка неубедительна: «Зрелое мастерство и поэтичность “Тамани” стали предметом восхищения знатоков и любителей с первой же ее публикации в журнале. Вплоть до наших дней она остается образцом совершенной прозы. Трудно себе представить, чтобы этот шедевр был написан раньше “Бэлы”» (с. 10). Думаю, еще труднее представить, что творчество художника идет только линейно по восходящей и вслед за шедевром надо обязательно ждать нового, еще более значительного шедевра. А чем не шедевр «Бэла»?
Версию позднего написания «Тамани» Э. Г. Герштейн подкрепляет таким аргументом. В еженедельнике «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”» «Отечественные записки» поместили программу публикаций на конец 1839 и начало 1840 года. Из лермонтовских произведений здесь указана только повесть «Фаталист». В феврале сверх того была опубликована не значившаяся в программе повесть «Тамань». «Вывод напрашивается сам собой: в сентябре 1839 года она не была еще написана» (с. 11). Однако возможна иная версия: в сентябре 1839 года у Лермонтова еще не было намерения публиковать «Тамань» в составе намечавшейся книги.
Исследовательница настаивает: «Трудно придумать причины, заставившие бы Лермонтова в течение двух лет держать в столе законченную рукопись “Тамани”, если бы этот шедевр был уже создан в конце 1837 года» (с. 20). Но не надо «придумывать» причину; достаточно осмыслить особенности повести.
Тут уместно поставить вопрос: что в «Тамани» предстает главным предметом описания? Выбор из двух: внутренний мир героя-рассказчика – или внешний мир, в который он попал? Ответ подсказан заглавием, единственным в книге географическим. Если бы заглавие подстраивалось под заглавие книги и под складывавшуюся традицию, новелле вся стать была называться «Ундиной»; только она писалась тогда, когда традиции называть повести и новеллы именами активных действующих лиц еще не было; поэт свыкся с первоначальным заглавием и заменять его не захотел.
Есть еще одно чрезвычайно любопытное обстоятельство. Если рассматривать «Тамань» как автономное произведение, здесь все на месте, новелла по праву воспринимается лермонтовским шедевром. Если же смотреть на новеллу сквозь призму книги, куда она встроена, обнаруживается масса противоречий и нестыковок.
Кто здесь рассказчик? Что за вопрос? Новелла включена в Журнал Печорина: это ли не категоричный ответ?
Но Б. М. Эйхенбаум фиксировал: фигура рассказчика не отчетлива – это просто офицер, едущий «по казенной надобности». Кроме того в журнальной публикации есть избыточная с точки зрения характеристики Печорина деталь: рассказчик подает свое любопытство как «вещь, свойственную всем путешествующим и записывающим людям». В окончательном тексте эти приметы из «Тамани» переданы рассказчику повести «Бэла».
Б. Т. Удодов поддерживает мнение, что рассказчик «был первоначально очень близкий автору “странствующий и записывающий офицер”»47. Имя Печорина в этой повести не упоминается (допустим, не ему же самому себя рекламировать, а по имени к нему здесь просто некому обращаться). Есть фабульные неувязки. «…Из повести “Княжна Мери” известно, что Печорин сослан на Кавказ за какую-то “историю”… Однако герой “Тамани” не похож на ссыльного, только что едущего из Петербурга. Его сопровождает денщик, “линейный казак”; следовательно, офицер уже служит на Кавказе…» (с. 27).
Еще важнее, что герой психологически не таков, каким явится в других повестях. Умудренный хитросплетениями жизни Печорин не действовал бы так прямолинейно, как рассказчик «Тамани». После приключений первой ночи наутро он пустился в прямой допрос слепого: «Ну-ка, слепой чертенок, – сказал я, взяв его за ухо, – говори, куда ты ночью таскался, с узлом, а?» Результат? «Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал…» Старуха за него вступилась. Ничего рассказчик не вызнал. А на что он рассчитывал? Что слепой выдаст своих друзей? Зато себя (как дознаватель) рассказчик скомпрометировал и тем самым поставил под удар. Этого ему оказалось мало, но не нулевой, а отрицательный результат дал его новый допрос, на этот раз «ундины»: «“Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал”. (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело.) “Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег”. И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее – нимало! Она захохотала во все горло. “Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком”. – “А если б я, например, вздумал донести коменданту?” – и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться». «История с “ундиной” и слепым мальчиком осмысливается Печориным и в ироническом плане, причем ирония направлена на самого героя»48.
Так примитивно поступает знаток женщин, который в «Княжне Мери» написал: «Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами…» Жизнь не раз вынудит Печорина притворяться (перед Грушницким, перед княжной Мери), но всякий раз он хозяин положения. В «Тамани» притворная «очень серьезная, даже строгая мина» ставит рассказчика в комическое положение, до которого главный герой книги в иных повестях не опускается.
Рассказчик поумнел в коротком промежутке между двумя записями в журнале? Нет, весь «базовый» жизненный опыт привезен Печориным из столицы. Ага, значит, в «Тамани» просто вспоминается не то, что нужно, – какой-то взгляд из тех, что в старые годы «самовластно играли… жизнью»? А в «Княжне Мери» при встрече с Верой Печорин рад возвращению в сердце благотворных бурь молодости; это не мешает ему, при смене адресации дум, мыслить хладнокровно.
А. К. Жолковский по поводу сюжетной ситуации «Тамани» пишет: «Здесь, как в капле воды, отражается главная коллизия сюжета, построенного на неправильном “прочтении” героями друг друга. Печорин воспринимает героиню в терминах “донжуанского” кода – как экзотический объект для любовной интриги, а она его в “контрабандистском” коде – как сыщика»49.
О несходстве изображения героя в «Тамани» и в «Княжне Мери» писал А. В. Западов: «если офицер в “Тамани” кое в чем сходен с героем “Княжны Мери”, то во многом от него и отличается. Настоящий Печорин вряд ли стал бы вести допрос приморских нищих, грозить донести коменданту, – он сам бы творил свой суд»50. Исследователь показывает и другие факты психологической неустойчивости героя: «Печорин уже в Тамани действует как опытный кавказский офицер» (с. 115); «этот сердитый офицер не похож на новичка, едва оперившегося прапорщика» (с. 116); «Таманский Печорин понимает толк в бурке и знает о ней то, что недоступно еще столичному офицеру, лишь направляющемуся в Кавказский корпус» (с. 122). И еще весьма серьезная нестыковка: «Никаких связей “Тамани” с остальными частями произведения не обнаружить ни в журнальном тексте… ни в отдельном издании, где связь показана только местоположением текста в “Журнале Печорина”» (с. 145).
Отметим жанровый аспект выделенной ситуации. Инерция ожидаемой последовательности повествования срабатывает здесь, смягчает разницу изображения героя, зачисляя ее, даже если она замечается, на счет естественного накопления опыта героя. Учтем и втягивающий азарт лермонтовского повествования. Напротив, восприятие произведения как цикла, с признанием высокой автономии компонентов, побуждает присматриваться к диалогу стыков; различие изображения предстает более заметным. А сам акт переноса каких-то деталей из одного какого-то фрагмента в другой свидетельствует о том, что произведение создавалось не последовательно (как роман!), а формировалось из автономных заготовок.
«Тамань», якобы извлеченная из тетрадей Печорина, в составе книги открывает его журнал. Только путешествие в Тамань (с намерением далее плыть морем вдоль кавказского побережья до Геленджика) плохо увязывается с биографией героя. Никак не мотивировано его пребывание на кавказской окраине (совсем не вяжущееся с местами его дальнейшего пребывания). И откуда у героя такой опыт? «Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России». Он везде побывал?
Зато эта история хорошо проецируется на судьбу реального автора произведения. Лермонтова за стихи на смерть Пушкина отправили в его первую кавказскую ссылку. В дороге поэт простудился, так что кавказскую жизнь начал с лечения в Пятигорске, потом в Кисловодске. Только осенью он отправился в Тамань (дабы оттуда плыть в Геленджик (!): там находился штаб батальона, к которому прикомандировали Лермонтова). В Геленджик Лермонтов так-таки и не поплыл, в Пятигорск возвратился51. В Тамани с ним приключилась какая-то история, которой художнику хватило на сюжет новеллы52. Автобиографизм произведения преувеличивать не будем.
Если бы «Герой нашего времени» задумывался как его история, пусть построенная как ряд фрагментов его биографии (например, так: «роман создавался как цельное произведение, все части которого объединялись стройным и глубоким замыслом»53), в сознании автора жизнь героя должна бы существовать целостно, и тогда не должно было быть нестыковок вроде уже отмеченной, а она не единственная. Вот первое упоминание о Печорине в повествовании Максима Максимыча («Бэла»); это и наше первое знакомство (при последовательном чтении книги) с героем: «Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. “Вы, верно, – спросил я его, – переведены сюда из России?” – “Точно так, господин штабс-капитан”, – отвечал он». А потом выясняется, что в крепость Печорин переведен не «из России» (центральной России), а из Кисловодска и Пятигорска; позади уже было приключение в Тамани, потом служба в действующем отряде, о чем только бегло упомянуто (ради мотивировки знакомства с Грушницким), лишь после этого Пятигорск и Кисловодск, там произошли (не особенно длительные, но летние) истории с Верой и с княжной Мери; в крепость прибыл из Пятигорска осенью, сопровождая транспорт с провиантом: «беленький» Печорин был бы уже основательно подкопчен кавказским солнышком. Объяснить такое противоречие может предположение: когда писалась «Бэла», журнала Печорина еще не существовало, даже и в замысле.
Подобное предположение высказывал В. В. Набоков: «Маловероятно, чтобы в процессе работы над “Бэлой” Лермонтов уже имел сложившийся замысел “Княжны Мери”. Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод, сообщаемые Максимом Максимычем в “Бэле”, не вполне совпадают с деталями, упомянутыми самим Печориным в “Княжне Мери”»54.
А теперь отдадим должное уже (с помощью исследователей) промелькнувшему у нас факту, что рассказчик в «Тамани» (по первому замыслу) – не просто странствующий по казенной надобности офицер, но и по совместительству профессиональный литератор. Факт сам по себе важный, но его весомость возрастает в свете приводимого Б. М. Эйхенбаумом лермонтовского предисловия к публикации «Фаталиста»: «Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все читатели “От<ечественных> записок” помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю “Бэлы”, напечатанную в 3-й книжке “От<ечественных> записок”, а Печорин – тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. – Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался». Исследователь с полным правом констатирует, что «предисловием к “Фаталисту” Лермонтов отождествил себя с автором “Бэлы” и придал рассказанной там встрече с Максимом Максимычем совершенно документальный, мемуарный характер»55.
Но получается, что – по первому замыслу! – историю Бэлы рассказывает не условный анонимный странствующий офицер, а рассказчик автобиографический. Журнальное признание (устраненное в книжном формате) делает этот факт неоспоримым.
Л. Я. Гинзбург неоправданно занижает уровень рассказчика: это «скромный “путешествующий офицер”, который ближе к Ивану Петровичу Белкину, чем, скажем, к образу автора в “Сашке”». «Не свободен от стилистических противоречий и образ “издателя” записок Печорина. Он ведь явно задуман (?) в духе Белкина – как простой человек, человек здравого смысла и ограниченный своим здравым смыслом»56.
Первоначальный автобиографизм рассказчика-офицера находит подтверждение как следствие. Мы уже отмечали, что вся история, описанная в «Тамани», хорошо проецируется на судьбу реального автора книги. Будем учитывать, что новелла создавалась как художественное творение, которому вымысел не противопоказан.
Вот теперь можно попробовать объяснить, почему эта повесть была не вдруг опубликована. Будем исходить из того, что «Тамань» написана автономно. Это верно, если иметь в виду то, что получилось, книгу «Герой нашего времени». Но есть основание предположить, что «Таманью» задумывалось начало другого (несостоявшегося) цикла – лермонтовских записок в странствиях по Кавказу. Второй повестью, написанной тем же (автобиографическим) рассказчиком, оказалась «Бэла». Журнальная публикация повести сопровождалась очень любопытным подзаголовком: «…Подзаголовок “Из записок офицера о Кавказе” позволяет предполагать, что не было еще у Лермонтова замысла романа, куда вошла бы “Бэла” как одна из его частей»57. А вот и первое, рабочее обозначение первоначально намечавшегося цикла. Записки – любопытное жанровое образование. Вроде бы оно ограничивает материал – установкой на документальность, но компенсирует это ограничение непредсказуемой широтой тематики.
«Бэла» – особенная повесть в составе книги, она в наибольшей степени соответствует своему журнальному подзаголовку; здесь изложение рассказа Максима Максимыча о необыкновенном сослуживце чередуется с непосредственными записками офицера о Кавказе! Композиционно именно записки создают повествовательную канву: они повесть начинают, потом дополняют, общением с рассказчиком заканчивают. (Еще нет исследования, как эмоционально перекликаются между собой эти две, сюжетная и «описательная», линии повествования в повести). Но очень скоро читатель получил полный текст книги. Здесь тон задает ее заглавие. Так и в «Бэле» на первый план вышел герой с фамилией персонажа из незавершенного романа «Княгиня Лиговская», он-то и перетянул одеяло на себя. («Роман начат с характеристики персонажа, который еще не появился в тексте»58). Теперь (!) возникла основа нового, «печоринского» цикла. Так что «Тамань» и «Бэла» сначала ожидали подпорки аналогичными очерками из записок офицера о Кавказе, а дождались неожиданного хода, когда пришлось встраиваться в другое произведение, даже со сменой лица рассказчика. Но произошло и такое, когда обнаружилась сюжетная связка. Печорин (в «Княжне Мери») сетует: «судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм…» В «Тамани» описывается конкретный эпизод, который стало возможным воспринимать подтверждающим печоринскую закономерность: «зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?».
Вот такой зигзаг сделала творческая история произведения. Вначале были написаны две повести из состава записок, намерение дополнить их новыми звеньями цепи привело к изменению замысла. Труднее всего далась возможность включения в состав нового целого «Тамани», которая ранее для другого состава предназначалось. Повесть была опубликована в журнале тогда, когда ей нашлось место в составе печоринского цикла.
Соотношение внешнего (кавказского) мира книги и ее внутреннего (печоринского) мира иначе воспринимает Ю. Айхенвальд: «Вообще, “Герой нашего времени” как художественное произведение больше всего спасает не фигура самого Печорина, в целом далеко не удавшаяся <сказать откровеннее – по-человечески не импонирующая исследователю>, а та обстановка, в которую он помещен, и то человеческое соседство, в котором рисуется его причудливый образ»59.
А. Марченко не включила в свою книгу о Лермонтове фрагмент, напечатанный в ее статье, – что писатель присовокупил «к роману о человеке, как все, аналитическому, “малосубъективному”, и свои собственные “Записки” о своем путешествии по Кавказу (“Тамань”, “Фаталист”), задуманные и написанные до того, как возник замысел “Героя…”, – вероятно, надеясь, что никто этого не заметит. Увы, заметили! Правда, уже после смерти романиста. В 1848 году В. Г. Плаксин, бывший учитель юнкера М. Лермонтова, опубликовал в “Северном обозрении” пространную статью, где заявил: “…Какое отношение имеет Печорин в Тамани, к Печорину, похитителю Бэлы? Никакого!”»60. Но к похожему заключению приводят и наблюдения над текстом.
Можно уловить, как в первый абзац повести «Бэла» добавляется горькая ирония. У рассказчика из вещей – один чемодан, наполовину набитый путевыми записками: «Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел». Деталь оказывается полностью автобиографической. Оказались потерянными и записки Лермонтова, но компенсация получилась более чем достойная. Новому, другому замыслу выпала честь стать неотъемлемым звеном русской литературы.
Характер изменений, вносимых в «Тамань» под влиянием перемены ракурса, просматривается. Устраняется автобиографизм рассказчика – странствующего офицера-литератора. Фактически это его аттестация заканчивала «Тамань»: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..» Повествование отдается Печорину. Равнодушие к чужим бедствиям Печорину передано с полным правом, наименование странствующим по казенной надобности не логично. Первоначально рассказчик «Тамани» был «странствующим и записывающим». Вторая из этих помет сохранилась в журнальном тексте, но затем была исключена. Подлежала бы и передача другому рассказчику помета «странствующий» – этого не сделано, поскольку в итоге этот образ стал служебным и потому непрописанным. «Путешественник, ведущий путевые записки, остается в романе условным персонажем. Его роль в романе вспомогательная: он представляет читателю основных героев романа, набрасывает их портрет и затем передает им слово»61. Лермонтову становится важным только то, что это «кто-то», не он сам и не главный герой.
Тут интересен диалог знакомящихся попутчиков:
« – А теперь вы?
– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..
Я сказал ему».
Рассказчик «Бэлы» представился Максиму Максимычу; того представление удовлетворило, не воспрепятствовало его откровенности; для читателей в человеческом отношении рассказчик здесь оставлен лицом неизвестным.
Позиция Б. М. Эйхенбаума непоследовательна. Вначале он заявляет решительно, что «едущий “на перекладных из Тифлиса” писатель – вовсе не “странствующий офицер”, как принято его называть в работах о “Герое нашего времени”», поскольку «нет ни одного прямого указания или признака в пользу этого» (с. 330), но следом косвенный, но и веский аргумент у него самого все-таки находится: чтобы «поместить этого литератора на Кавказе и сделать его спутником штабс-капитана… военная профессия была самой простой и правдоподобной для того времени мотивировкой этой второй “необходимости”, между тем как появление на Кавказе штатского литератора и его быстрое сближение с Максимом Максимычем потребовали бы специальной и довольно подробной биографической мотивировки» (с. 331). Это серьезный аргумент. Человеком пишущим персонаж предстает перед читателем; у Максима Максимыча такое знание о попутчике могло бы убавить его словоохотливость. (В конце, сердитый на Печорина, он отдает тетради своему любопытствующему спутнику и на вопрос, может ли тот делать с ними все, что захочет, отвечает: «Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?» – не догадываясь, что именно печатания и хочется им одаренному). Офицерское положение могло перейти к этому персонажу и «по наследству» от первоначального замысла, когда образ рассказчика был автобиографичен (а Лермонтов был и человеком пишущим, и офицером). Так что возражения против традиционного восприятия рассказчика офицером не убедительны.