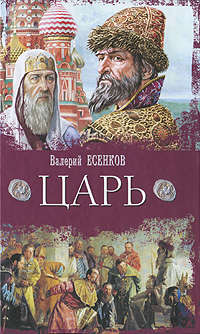Полная версия
Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском
– Это замечательно, Достоевский, я так и думал, честное слово, клянусь, у вас так и должно было быть!
Нельзя передать, как растрогал его этот бескорыстный энтузиазм. Он размяк, камень упал, улетели, растаяли тревожные мысли, словно и не было их. Впрочем, по привычке одернул себя, что энтузиазму, сидящему перед ним на дешевом рыночном стуле, все-таки не доставало должной для минуты серьезности, весьма и весьма. Тут ведь вся судьба решиться должна! Как бы не понесло лепетать невесть что, от стыда сгоришь от него. Но уж начато, не отворотишь назад.
Он возразил, отчетливо, точно старательно скрывая досаду:
– Ничего ты думать не мог, Григорович.
Григорович вскочил подобно пружине, шагнул к нему открыто и весело, взмахивая легкой красивой рукой, и восторженно заспешил, пригибаясь, как будто рассчитывал, что так его лучше поймут:
– Как не думать, если думал всегда! Вы же знаете, Достоевский, какое у меня о вас высочайшее мнение! Меня поразила с первого разу ваша начитанность и глубокое знание русской, главное же европейской литературы! Я ведь благодаря только вам… впрочем, это тут лишнее, вовсе не то! А ваши суждения? А серьезность характера? Позвольте, сколько приходило мне в голову, как могло получиться, что я успел написать кое-что, и это кое-что напечатать, и меня почитают уже литератором, а вы до сей поры ничего по этой части не сделали? А кому же писать, как не вам? И вот – так и есть!
Разом чувства его перепутались. Он одобрительно морщился. Пускай легкомысленный, пускай пустозвон, а тоже приметил, со стороны, это главное в нем разглядел. У него потеплело и ёкнуло сердце, не от польщенного самолюбия, нет, хотя и самолюбие, конечно, польстилось, а вот если заметно со стороны, можно надеяться, что выбрал дело свое, не ошибся хоть в направлении, так в случае провала с первым романом можно всё и сначала начать.
Но самая важная вещь была всё же не в этих поспешно- приятных, раздерганных мыслях. Его по-прежнему, если не более, продолжало страшить, справился и как справился, если справился, с этим первым романом своим? И, окончательно сомневаясь в успехе, он вновь напомнил себе, что у Григоровича заведены уже связи в литературных кругах и что можно и нужно будет использовать их, если дело вдруг окажется дельным, и окончательно понял теперь, что потому, вероятно, и пригласил Григоровича, что в душе, лишь отвлеченно предполагая, но не отдавая полного отчета себе, рассчитывал очень и очень использовать эти нужные связи в литературных кругах и что заранее знал, что использует их, если дело окажется дельным.
Он опустил глаза и совсем тихо сказал:
– Садись и не перебивай.
Григорович рывком двинул стул, полуобернувшись к нему. Стул подлетел под него легко и беззвучно, и Григорович, подставив его под себя, всем телом устремился вперед, сделав волосатую голову набок.
Он подождал, вздохнул глубоко и начал удушливым голосом, неясно и скованно:
–“Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну на что это похоже… невольно задумаешься, – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил”.
Он почувствовал сам, как лицо его вдруг осунулось и стало точно прозрачным, сухим. Ему показалось, что то, что он прочитал, неуместно, слишком назойливо и отдает, должно быть, самолюбивой претензией.
Он пояснил, хрипя и откашливаясь:
– Эпиграф… Из князя Одоевского…
Григорович встряхнулся, как собака после дождя, и воскликнул с радостным облегчением, отбрасывая назад свою буйную гриву чернейших волос:
– А я слышу что-то ужасно знакомое, и понять не могу, а это эпиграф, ага!
Восхищение было мальчишеским, искренним, неуместным и вызвало в его слишком уж чуткой душе раздражение. Он чуть было не захлопнул тетрадь, обругал про себя бесшабашного болтуна, у которого один свист в голове, точно труба на плечах, однако подловатое желаньице все-таки знать хотя бы чье-нибудь мнение о самой первой пробе пера, стоившей стольких усердных трудов, стольких бессонных ночей, было сильнее капризов, все-таки низких, его самолюбия.
Он тут же и подавил раздражение, искусственно улыбнулся одними губами, сухими и твердыми, и продолжал:
–“Апреля 8. Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! Вы хоть раз в жизни, упрямица, меня послушались. Вечером, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, – право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что миловидного личика-то вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы светло смотрели, маточка. Не радость старость, родная моя!..”
Григорович вздрогнул и неожиданно оборвал:
– Ах, Достоевский!..
Сердясь, что его перебили, он, ещё пуще нахмурив редкие брови, бросил на Григоровича осуждающий взгляд, под давленьем которого тот сразу притих, и стал читать сдержанней, проще, стараясь по возможности менее выделять взволнованным голосом любимые, особенно удачные мысли, но на сердце от этого задушевного возгласа стало теплей, ведь оно, никогда не соглашаясь с упрямо твердившим рассудком, предчувствовало уже, что это первое, самое первое, самое важное чтение пройдет хорошо, что успех романа и сегодня и завтра будет несомненным и полным.
Он всё читал, неприметно для себя прибавляя свой тихий голос, крепнувший от страницы к странице, становившийся внятным и чистым, и сердито осаживал это предчувствие, неуместное, стыдное, беспокойно и радостно нараставшее в нем. Между письмами делая паузы, передыхая чуть-чуть, он всё скоро-скоро твердил про себя, повинуясь отрезвляющим советам рассудка и какому-то ползучему суеверию, которые запрещали торжествовать победу прежде конца, что Григорович добрый, даже приятный сосед, но уж чересчур легковесен и что эту почти полную литературную невинность удивить любым вздором не стоит труда, хотя бы и глупейшими книжонками от Полякова, и, не без труда убеждая себя, в невольной тоске обмирал, безумно страшась своему первенцу в самом деле смертного приговора. Сбиваясь с тона от непривычки вслух читать то, что сам написал, он, вопреки всем резонам, пытался поймать впечатление, то есть ужасно ли скверно или худо совсем?
Распахнув хоть и домашний, а все-таки элегантный сюртук, выставив узкую грудь, подергивая небрежно со вкусом повязанный черный шелковый галстук, Григорович странно вертелся на стуле, точно порываясь вскочить и с трудом оставаясь на месте, точно ужасно спешил по самому неотложному, наиважнейшему делу, да вот сбежать-то из-под самого носа почтенного, уважаемого соседа не позволяли приличия, исполнением которых Григорович до последней черты дорожил. Лицо Григоровича будто росло, блестели глаза, черные кудри, сбиваясь, спутываясь клоками. Висели по щекам и на лбу.
Взглядывая на него иногда, исподлобья, не подняв головы, теряя слово, которое начал было читать, он порывисто разгадывал его состояние, однако до конца отгадать не хотел, предполагая непременно самое худшее. С упрямой настойчивостью он себя уверял, что этот праздный гуляка в спутанных космах волос для серьезного чтения чересчур непоседлив, слушает плохо, вполуха, да и услышанное, должно быть, понимает как-то не так, заслоняя, придерживая этими уже почти и лукавыми домыслами сладкую догадку души, что Григорович взволнован его и в самом деле удавшимся словом, но изо всех сил сдерживал этот подступающий к горлу восторг, не доверяя этим слишком внешним, слишком мелким приметам успеха, потому что внешним-то, мелким-то как раз обмануться проще простого.
А Григорович неожиданно вскрикивал иногда:
– Ах, Достоевский!.. Как хорошо!.. Как это у вас возвышенно-просто!..
Он останавливал Григоровича нахмуренным взглядом, выжидая, пока тот замолчит, но после каждого восклицания читал проникновенней и чище. Голос его временами звенел. Сомнение окончательно смешалось с восторгом. Все чувства и мысли перепутались в ком, точно волосы на голове Григоровича. Он читал, усиливаясь не выдавать своего возмущения, как можно ровней:
–“Милостивый государь Макар Алексеевич! Ради Бога, бегите сейчас к брильянтщику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что ещё далеко до праздников. Вот он как говорит! А Бог видит, нужно ли мне всё это! Сам же господин Быков всё заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой. Что со мной будет!..”
Григорович вдруг с размаху ударил себя кулаком по колену, сморщился и возмущенно вскричал:
– Да что же это? И Бога в свидетели призвала! Да зачем же это она его-то посылает по каким-то посылкам? Аль городской почты не завелось для неё?
У него голос прервался и защипало глаза. Ах, умница, ах, угадал, и как угадал! Напрасно, напрасно он сомневался, право, нехорошо. Может быть и болтун и гуляка, а молодец, молодец, не подвело поэтическое-то чутье, коготок-то, значит, увяз. Вот оно как у нас повернулось, ага! И чуть дрогнувшим голосом, мягко, облегченно сказал:
– Так ведь заявлено было: я вас люблю, да доброй быть не умею.
Григорович, серьезный, нахмуренный, со строгим лицом, покачал головой:
– Гулящие и те бывают добры иногда до щепетильности, до щепетильности деликатны-с, а тут?
Ему померещилось, что Григорович в чем-то стыдном обвиняет его, он бросился защищаться, настойчиво, пылко:
– Видишь ли, я понимаю, что этак многие любят, вот в чем вопрос.
Григорович согласился с неожиданной болью, с тоской:
– То есть люблю, люблю. А вот водятся ли у тебя, милый друг, бриллианты, ага?
И с надеждой спросил:
– Неужто и не поймет, как Макар-то любил, без корысти, прощая, тот же Христос?
Он заволновался, несколько торопливо прочел ещё два письма, смущенный и радостный, удерживая себя, что не пристало спешить, что и эти письма тоже чрезвычайно важный, и в то же время пуще подгоняя себя, и наконец ответил ему, ведь он давно-предавно предвидел этот важный вопрос, несколько даже торжествующим тоном:
–“Бесценный друг мой, Макар Алексеевич! Всё свершилось! Выпал мой жребий, не знаю какой, но я воле Господа покорна…”
У Григоровича вырвалось, как-то сквозь зубы:
– И что она всё Господа приплетает, точно не по своей воле в этот раз за господина Быкова шла?
Молча взглянув на него, он продолжал:
–“Прощаюсь с вами в последний раз, бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой! Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне, и да сойдет на вас благословение Божие! Я буду вспоминать вас часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время! Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний прошедшего; тем драгоценней будет воспоминание об вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой; вы только один здесь любили меня! Ведь я всё видела, я всё знала, как вы любили меня!.. Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма. А вам нужно будет теперь отвыкать от меня! Как вы один здесь останетесь! Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо; когда будете смотреть на эти начатые строчки, то мысленно читайте дальше всё, что бы хотелось вам услышать или прочесть от меня, всё, что я ни написала бы вам; а чего бы я не написала теперь! Вспоминайте о бедной вашей Вареньке, которая вас так крепко любила. Все ваши письма остались в комоде у Федоры, в верхнем ящике. Вы пишете, что вы больны, а господин Быков сегодня меня никуда не пускает. Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один Бог знает, что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда. Друг мой, голубчик мой, родной мой, навсегда!.. Ох, как бы я теперь обняла вас! Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. О! Как мне грустно. Как давит всю мою душу. Господин Быков зовет меня. Вас вечно любящая В.”
Он проглотил комок и чуть слышно сказал:
– Далее четыре приписки, поспешно, урывками, от него.
Дочитал уже чуть не в слезах:
–“Моя душа так полна, так полга теперь слезами… Слезы теснят меня, рвут меня. Прощайте. Боже! Как грустно! Помните, помните вашу бедную Вареньку!”
Григорович с ожесточением перебил:
– Ага! Теперь понимаю! Макар-то век станет помнить, да только… Э, что там, продолжайте!
И с криком души, с тоской и слезами, уже не скрываясь, он прочитал прощальное отчаяние убитого горем Макара:
–“Ах, родная моя, что слог! Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не знаю, и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вам написать побольше… Голубчик мой, родная моя, маточка вы моя!”
Он закрыл бережно, осторожно тетрадь, стараясь как-нибудь не помять, хотя бы случайно, листов, как-нибудь уголка не загнуть, провел ладонью по шершавому полотняному переплету и не поднимал головы, весь красный как рак. По какой-то угрюмой инерции он всё ещё был уверен в полнейшем провале своем и уж никак бы поверить не смог, чтобы такая редкая, такая сильная вещь могла провалиться. Были, были все-таки восклицания! А как переменялся в лице? Голос-то, голос каков? Не всё болтун и праздный гуляка, есть там и ещё кое-что, очень даже и есть. Да неужто затосковал? Стало быть, идею свою заявить удалось? Впрочем, ещё всё это сомнительно и сомнительно очень, хотя вдруг обнаружил в тот миг, что где-то, именно в самом последнем закоулке души, сомнений и не было никаких, никогда, и с самого даже начала.
А сердце стучало, как заяц, и громко звенело в ушах. Он так и не успел уловить, когда Григорович вскочил и стремительно поднес к нему свою смуглую тонкую изящную руку. Длинные пальцы шевелились и крючились перед самым носом его.
Голос Григоровича срывался на крик:
– Давайте тетрадь, Достоевский! Я иду!
Он ждал восторга и брани, а тут происходило что-то не то, непонятное, возмутительное, кажется, площадное. Он испугался, прижал к себе обеими руками тетрадь и сумрачно бросил, откидываясь назад:
– Это куда?
Григорович перегнулся, потянул к себе за угол тетрадь и молил:
– Давайте мне, давайте скорей!
Порыв этот сбил его окончательно с толку. Он вырвал и уголок, совсем отстранился, ещё крепче прижал к вздымавшейся бурно груди возлюбленную тетрадь, как ребенка, защищая её, должно быть, от поругания, может быть, от позора. Внезапно проползла дурацкая мысль, что Григорович спятил с ума.
Он прерывистым шепотом страстно спросил:
– Зачем тебе? Что ты? Очнись!
Размахивая кулаком над вздыбленной головой, Григорович сыпал слова:
– В будущем году Некрасов сбирается выпустить сборник, я ему сейчас прочитаю, прямо так, вот увидите, он эти дела в один миг понимает, Некрасов, сразу возьмет! Он так: на выборку десять страниц – тотчас видит, дрянь или дельное дело, а уж тогда или прочитывает всю вещь целиком, или не читает совсем! Прирожденный редактор, черт побери! Но не педант, не педант! Уж он не упустит, клянусь вам!
В училище они как-то вместе перелистали “Мечты и звуки” – первая книжка молодого поэта показалась корявой, напыщенной и пустой. Как человека он Некрасова вовсе не знал. Ему только мимоходом говорил Григорович, что Некрасов принадлежал к “Отечественным запискам”, которыми безраздельно правил Белинский, так грубо, резко взненавиел Бальзака. Он эту партию Белинского уважал и потому робел перед ней и боялся, что они его, вот именно его-то и не примут к себе. У них ему даже мнилась погибель, насмешки и вздор. Отдать в незнакомые руки грозило вселенским посмеянием, даже позором, позором-то прежде всего. А тут ещё приплетался и сборник, не в «Отечественные записки”, как он предавно намечал. Кто у них там? Тоже эти, с книжонками от Полякова? Какой сборнику с такими успех? Нет, он так глупо рисковать не желал!
Он мялся, втянув голову в плечи:
– Некрасову, нет, не могу…
Григорович вытянулся во весь свой примечательный рост, всунул пальцы в черные кудри, взбил их рывком и потряс свободной рукой, в крахмальном манжете, выбившимся из-под обшлага сюртука:
– Отличнейший человек, я же вам говорю! Белинский, Белинский полюбил его сразу! Практический взгляд не по летам! И ум, ум проницательный, резкий! Говорю вам: тотчас поймет!
Рассудок его прояснялся, хоть и отчасти. Он начинал, как-то слегка и порывами, понимать, что это первая одержанная им победа, что этой первый, ещё, может быть, и случайный, непрочный, а всё же успех. С удивлением поглядел он на Григоровича снизу и увидел искренний взгляд и яркий румянец на чистых, прямо-таки девичьих щеках.
Его потянуло, потянуло сильно и страстно, тотчас поверить, безоговорочно и всерьез, в этот бесспорно искренний, прямо детский восторг и самому безоглядно отдаться восторгу, тогда как сознание, мнительность, робость не позволяли поверить, не позволяли отдаться прямо, откровенно и просто, всей наличной силой души.
Он всё опасался, как в детстве когда-то бывало, во время страшных уроков латыни, слишком запуганный раздражительным хмурым отцом, что его доверие, его открытый восторг могут извернуться как-то против него, обидой или какой-нибудь внезапной преднамеренной грубостью, ведь уроки отцов никогда не проходят для нас без следа.
Он сидел неподвижно, растерянно, но ощущал, что душа, как будто очистившись долгим чтением собственной повести, строгой и стройной, как он убедился ещё раз, прослушав её, стала доверчивой, мягкой, безвольной и беззастенчиво, радостно уже доверяла румянцу на девически-чистых округлых смуглых щеках.
Он придвинул тетрадь к Григоровичу, но всё ещё из осторожности поближе к себе, и ворчливо сказал:
– О твоем предложении надо подумать…
Григорович рассмеялся откровенно и звонко, как разыгравшийся мальчик, ласкаемый доброй веселой любящей матерью, наклонился к нему совсем близко, схватил большую тетрадь своей длинной рукой и протараторил сквозь смех:
– Что думать, я мигом!
И выскочил вон, хохоча и припрыгивая, не сменив сюртука.
Ударившись об угол стола, он бросился вслед. Он кричал, размахивая руками, пытаясь поймать, надеясь остановить, помешать, боясь, как огня, необдуманных действий:
– Григорович, Григорович, куда?
Григорович, стиснув в кулаке свернутую трубкой тетрадь, распахивал дверь. За спиной его развевались победно длинные черные кудри. Остановить, помешать уже было нельзя.
Возбужденные чувства говорили ему, что так будет и лучше, пусть его Григорович бежит, пусть одним ударом решится судьба.
Он вдруг рассмеялся и крикнул с облегчением вслед:
– Шляпу, шляпу возьми!
Григорович оглянулся лукаво, промедлил мгновение, но выпустил дверь, метнулся назад, схватил высокую модную черную шляпу, небрежно вскинул её набекрень, сделавшись в один миг неотразимо красивым, и растворился, победно грохнув рассохшейся дверью.
Глава седьмая
Подать сюда “Мертвые души”
Он остался один, в смятении, но с жадной надеждой. Должно же, должно же выпасть, карта его. Ведь всегда, всегда удаются первые пробы, удаются всем и во всем, особые пробы, не то что вторые и третьи. На то и самая первая проба, чтобы непременно удача, полный успех!
И каждый миг глядел в беспамятстве на часы, пытаясь высчитать математически верно, на какой улице и возле какого приблизительно дома летит Григорович именно в эту секунду, как он взглянул на часы.
Он, кажется, помнил, что у Григоровича едва ли рубль вертелся в кармане, а до первого числа далеко, и две гривны на извозчика были бы для него катастрофой, однако ж, напоминал он себе, Григорович был легкомыслен и добр и мог без малейшего сожаления швырнуть и весь рубль, прибавив пятиалтынный на водку, если бы только нашлись.
В те роковые минуты ему страсть как нравилось его легкомыслие, но он на всякий случай предполагал, что Григорович благоразумно сберег последние гривенники и двинулся обыкновенным порядком, то есть пешком. Задержка, натурально, выходила слишком большая, по разнице скорости извозчика и человеческих ног, однако он облегченно припоминал, как однажды они вдвоем торопились куда-то и как прытко шагал Григорович, далеко вперед выставляя длинные ноги, обутые в блестящие тонкие сапоги, уж лучше голодный, а первая очередь щегольству.
Только разъяснив себе все эти детали и тонкости, он вдруг припомнил опять, что квартира Некрасова располагалась неподалёку! В панике эту важную вещь он забыл. Его расчеты были напрасны. Выходило, что Григорович был уже там, застал Некрасова дома и тотчас начал читать, уж не утерпел же, едва ли и поздороваться-то успел, уж за это можно и поручиться, если по разгоряченному виду судить да по домашнему сюртучку.
А вдруг не застал? Мало ли что! Ведь твердит всякий раз, что этот Некрасов совершенно деловой человек, стало быть, вечно в бегах, деловой человек дома часу не посидит, этим и сыт, ищи ветра в поле, кому же читать?
И пожалел Григоровича, из-за него вот попал в такое глупейшее положение, а спустя полчаса ждал его назад с таким нетерпением, что испугался, не сойти бы с ума.
Мысли скакали в страшной взвинченной пляске, он слушал шаги на лестнице снизу, выглядывал в свою дверь и в дверь на площадку, подолгу стоял навострив уши в прихожей, что-то неведомое упорно разыскивал в запущенной, стоявшей без употребления кухне, лишь бы тотчас расслышать легкий Григоровичев бег, и твердил поминутно, что надобно непременно спросить, у кого Григорович заказывал эти легкие удобные изящные сапоги без износу.
Пообдумавшись кое-как, он вдруг мигом собрался и торопливо вышел из дому, держа в руке свою новую, но уже обмятую шляпу, не соображая в полубеспамятстве, что всякой шляпе надлежит красоваться на голове. Он нарочно наметился пойти дальше, через весь Петербург. Там, на дальней окраине, квартировал его младший товарищ по нелюбимым инженерным наукам. Этого симпатичного юношу он не навещал почти год. Внезапно вспомнив о нем, посреди беспорядочных размышлений об извозчике и несносимых удивительных сапогах, он вдруг ощутил панический, озлобленный стыд и уверил себя, что обязан незамедлительно товарища навестить, поскольку товарищ, известное дело, он товарищ и есть.
Где-то, переходя через мост, наконец ощутив, как майский ветер ласково шевелит его тонкие волосы, он вспомнил о шляпе, надвинул её на самые брови и застегнул на все пуговицы распахнутый неприлично сюртук. Некрасов теперь представлялся бессердечным и глупым. Глаза у Некрасова предвиделись мертвыми и сухими, уж непременно, непременно без блеска. “Бедные люди” бесповоротно были погублены. Он же и писать не умел.
Весь вечер он просидел у Трутовского, изнывая от неизвестности, про себя продолжая обдумывать самые фантастические предположения, отчетливо сознавая через минуту всю их бессмысленность и непроходимую фантастичность. Делая внимательный, сосредоточенный вид, он рассматривал акварели Трутовского. Ему понравился один выгнутый мостик через канал и рябая толстая русская баба с хитрыми глазками, торговавшая явно застарелыми, уж верно железными пряниками, если по цвету судить, которые уже невозможно продать.
Впрочем, на минуту позабыв о себе, он заметил, что на акварели не было ни потемневшего от влаги гранита, ни склизлого, с желтым оттенком тумана, ни грязных, затасканных юбок, которые он всюду встречал перед такими же грустными мостиками и которых не могло не быть в его Петербурге, но обнаружил и верный глаз, и смелость руки, и возможный, намеченный, однако пока что не развитый, не раскрытый талант.
Отложив акварель, отшагнув от стола, он пробрюзжал, отчитывая скорее себя за низкий недостаток вниманья к товарищу, чем начинавшего ещё только художника, у которого все удачи могли ещё быть впереди:
– Напрасно вы делаете это Трутовский. Вы, не знаете, верно, что вас ждет на этом неверном пути.
Вновь промелькнула вся скорбная вереница несчастных германских поэтов, загубленных неизбежной, казалось ему, нищетой, и он рассердился:
– Голодная смерть, если не добьетесь большого, очень большого успеха, да и при очень большом, настоящем успехе, если правду сказать. Прибавьте к этому, что труд художника – вечная каторга, на которую стоит только попасть, чтобы уже никогда от неё не отбиться. На этой каторге не бывает ни сна, ни покоя, ни выходных, ни даже полной уверенности в себе, уверенности в том, что созданное вами на что-то годится. Кто скажет вам настоящую цену?