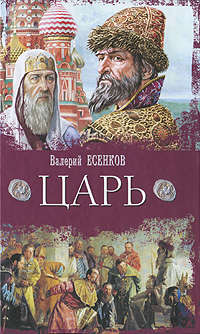Полная версия
Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском
Это и была его кардинальная мысль, то есть выходило, что две. Да и те, что помельче, тоже бойко теснили друг друга в непримиримом противоборстве между собой, каждая силясь одна утвердить свою однобокую истинность, исключительное право существовать одна-одинёшенька, без беспокойной подруги своей, однако ему-то обе они были одинаково дороги, понятны и близки, и порой он прямо-таки изнывал в колебании, не решался, не знал, которой из них отдать предпочтение, тогда как они, стремительно ширясь в этой заклятой братской вражде, крепли, росли, увлекали его за собой, и от каждой из них вновь рождалась, тоже рождалась другая, отчего борьба противоположных начал становилась всё напряженней, всё злей.
И что же? Раскалившись до крайней вражды, противоборство противоположных начал рождало внезапные образы, которые вдруг фантастично и красочно обогащали сюжет. В его, казалось, несложном сюжете проступали вдруг странные, многозначительные, многозначные тонкости, каких он прежде предвидеть не мог. Им овладевало счастливое ликование. Уже будто сами собой таяли все пределы восторгам надежд. Кто бы поверил, но он как с родными сживался рожденными фантазией лицами, которые сам же только что выдумал, которые, словно кудесник, взял ниоткуда. Да что там, они становились дороже и ближе родных, и он, представлялось порой, любил эти лица бесконечной любовью, какой в действительной жизни никого не любил, и расстаться, вот в чем истинная открывалась загадка, уже и на миг расстаться с ними было нельзя. Всё мешалось, он забывался, они ликовали и печалились вместе, он плакал, он вместе с ними страдал, слабостей, то есть нравственных слабостей, им не прощал, сам становился всё сильней и сильней, он даже ныне чувствовал это, а они становились живей и живей.
Но как трудно, как непосильно трудно было писать! Он ещё не знал, как писать, он ещё не умел ничего. Ах, это скользкое, это непослушное, это зыбкое обыкновенное слово! Что он, в сущности, совершал пером на листе? Бурю мыслей, образов, чувств он пытался выразить с помощью черненьких, мелкеньких, условных значков, и значки не повиновались ему, они были слишком мелкими, слишком условными, все, да именно все, как одно, и он в какой-то чуть не безумной горячке исписывал большие листы тонким бисерным почерком и тут же отбрасывал их, недовольный, измученный ими, раздраженный неожиданным и упорным сопротивлением обыкновенного, всем известного, доступного каждому дураку разговорного слова. Казалось минутами, покорить его, поставить на нужное место недостанет никаких человеческих сил.
Тогда, отчаявшись, истомившись в непосильной борьбе, теряя эту светлую, свежую веру в себя, которая, это он знал, способна творить чудеса, он с жадностью и надеждой хватался за книги и выпытывал секреты великих. Он читал давно перечитанные и самые последние, самые новые новости, отыскивал малейшую черточку внезапных словесных открытий. Он учился строить сюжет у неглубокого, но искусного, бойкого Фредерика Сулье. Он не страшился брать уроки у любого и каждого, кто в ту минуту попался ему, но что всё это, в сущности, было? Всего-навсего техника. Ремесло, не больше того, Тогда как ему был необходим позарез мощный прилив духовных, творческих, созидающих сил, и он с нетерпением раздражительным, нервным искал примеры замечательной, необычайной, прямо-таки богатырской работоспособности. Примеры исполинов пера всегда изумляли и вдохновляли его.
Боже мой! То были поистине беспримерные подвиги, и он с восхищеньем, с восторгом напоминал себе в лихие минуты уныния, что Шатобриан переправлял ”Аталу” раз семнадцать, не меньше, что Пушкин даже в самых мелких пиесах по стольку же раз переправлял каждый свой стих, что Гоголь по два года лощил свои дивные повести, а Стерн на свое “Сентиментальное путешествие”, которое какой-нибудь пишущий Плюшкин уместил бы без особых усилий на полусотне ординарных листов, извел, как вы думаете, сколько писчей бумаги? Сто дестей!
Воспрянув духом над этим незабываемым зрелищем неукротимых трудов, упрямо, самонадеянно равняясь на них, смиряя новыми и новыми поправками свое нетерпение, недуг и достоинство юности, уверяясь на опыте, что в бесконечных мытарствах писателя если что истинно плодотворно, так это именно неистребимое, вечное недовольство собой, он пестрил и пестрил листы рукописи бесчисленными помарками, отдельные письма Макара и Вари переписывал заново по нескольку раз, иной раз со слезами.
В конце сентября, светлым чистым солнечным днем, ему вдруг показалось, что он закончил “Бедных людей”. Он долго бродил по каналам, наслаждаясь последним нынешним солнцем, последним теплом, и домой воротился усталым, счастливым и тихим. Ранним утром, собрав по порядку изрядно измаранные листы, он приступил к переписке чуть не так, как дальние путники, достигнув места паломничества, приступают к молитве. Вновь роман, весь, целиком, проходил сквозь него, наконец связный, в единстве в муках рожденного замысла, и он всякий раз, когда прерывал переписку, работой своей оставался доволен.
Теперь, в часы отдыха, его особенно занимал насущный вопрос, каким образом выгодно, с большим барышом отдать его в жадные лапы издателей. Первая мысль, разумеется, была о толстых журналах. Если бы судьба над ним смилостивилась и дала право выбора, он бы выбрал “Отечественные записки”, самый порядочный и богатый тогдашний журнал, но как, через кого прикажете туда обратиться? Взять да явиться, принести самому: так, мол, и так, написал, только для вас! Как встретят? Что скажут? Как поглядят? Возьмут ли у первого взошедшего с улицы? Не призовут ли швейцара, не прикажут ли гнать в шею и больше никогда не пускать, чего он не вынесет, хоть в канал головой? А если возьмут, из приличия вежливости, прочитают ли, тоже из вопросов вопрос. Лучше бы всего свой первый роман издать самому, как Пушкин и Гоголь: при удаче, весьма вероятной, он один, ни с кем не делясь ни копейкой, получил бы если не крупный, то, верно, сносный барыш, а издержки не велики, рублей сто, да деньги, дело известное, все разошлись, как на грех, откуда взять сто рублей?
Он выспрашивал бойкого Григоровича, знавшего всё обо всём. Григорович, не запнувшись ни на секунду, посоветовал обратиться к Некрасову. Он отнекивался: как можно обращаться к абсолютно незнакомому человеку!
Григорович торопливо настаивал, уже выбегая из-за стола:
– Вы не глядите, что его первые стихи его осрамили, у него редкий практический ум, уж вы поверьте чутью. Он обходит все затруднения по части цензуры и капитала, а это, сами знаете, в мудреном деле издания первая вещь. Французы, первые по этой части пройдохи, ввели в моду, как они обозвали, “физиологии” – Некрасов тотчас издает “Физиологию Петербурга”, и книга имеет громкий успех. Нынче вводится мода на альманахи – Некрасов и тут впереди. Скончался Крылов, светлая память, – он ранним утром, только узнал, уже у меня с толстой книгой в руках: садитесь, не теряя минуты пишите биографию “Дедушка Крылов”, я пишу, он издает, и книжечка благополучно расходится. Ему хоть что попадется – несет Полякову, и Поляков у него непременно возьмет. Человек он в этом смысле отличный, его ни о чем не надо просить, он нюхом чует барыш и тотчас достанет вам преотличный заказ. В накладке с ним не останетесь. Пора и вам войти в литераторы, станете жить литературным трудом, как вот Некрасов живет, а по его примеру и я.
Слыша столь дивно-приятные вещи, он от Григоровича отстать не хотел, пока Григорович не выложит всю подноготную, как у нас можно жить литературным трудом. Они вместе вышли гулять. Небо закрывалось сплошными, тяжелыми тучами, висевшими низко, чуть не на крышах домов. Было сыро и грязно. Злой ветер с моря пробирал до костей.
Он обдумывал то, что быстро и складно так и трещал Григорович, верно довольный, что слушатель есть, хмурился, пожимался от холода под тощей шинелью и придерживал шляпу, поминутно готовую улететь.
Разве он готовил себя на такое вступление на литературное поприще? Спорить нельзя, и ему деньги были нужны позарез, поскольку в его кошельке не оставалось уже и на булки, однако ж не одни только деньги, много важней для его самолюбия было с первого шагу верно поставить себя, заметно, сильно начать, а там бы уж и пошло и пошло, известное имя, предпочтительный запрос от читателей, они же покупщики, и без Некрасова издавали бы нарасхват, знай писать поспевай. Уже новые презаманчивые идеи сами собой слагались у него в голове. Сколько превосходных романов он мог бы создать, первостепенных, превосходных, прекрасных, уж это условие непременное: два или три? И ведь вся-то судьба этих первостепенных, превосходных, прекрасных новых романов чуть не целиком зависела от самого первого шага, он был в этом уверен до слез, в таком важном шаге никак оступиться нельзя, просто ни капельки в таком деле оступиться нету расчета, тут мог бы выскочить какой-нибудь глупый скандал, которого он бы себе не простил. Книжонки гнать на заказ? И при том-то, при грошовом заказе стоять горой за достоинство человека? Это блудниц-то на поруганье не отдавать, спасть от камней? Отвергнуть и оплевать преступную веру в рубль или франк – на месте Христа? Очень милый альянс!
Шагая несколько боком, заглядывая Григоровичу то и дело в лицо, это чтобы всю правду тотчас узнать, проверяя, не шутит ли тот, ужасный, ужасный любитель на розыгрыш, он пытался, дружески, мягко держа его локоть, логически, ясно всю-то суть изъяснить и увлекся, что с ним обыкновенно случалось в разного рода щекотливых делах, когда его мысль за сердце брала:
– Видишь ли, Григорович, жить одним литературным трудом преотлично, славная вещь, против славной-то вещи кто говорит. Ты-то знаешь, в денежном отношении я предоставлен собственным силам, стало быть, именно одним литературным трудам. Однако, как бы то ни было, я клятву дал, что и до зарезу дойду, а не стану писать из денег и на заказ. Что, как я понимаю, заказ? Задавит заказ, всё загубит, душу растлит, вот как я понимаю заказ. Признаюсь: я хочу, чтобы каждое творенье моё было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, взгляни на Гоголя: написали не много, а оба ждут монументов! И уж нынче Гоголь, слыхать, берет за лист по тысяче серебром, а Пушкин продавал каждый стих по червонцу.
Григорович, румяный и бодрый от сильного свежего ветра, выслушав молча, против обыкновения ни разу не перебив, невольно вздохнул:
– Кто не мечтает о славе, ваше степенство, да слава-то их, особенно Гоголя, была куплена годами неизвестности, годами голода, нищеты, подачками добрых, по счастью, богатых друзей, так пока к нам с вами слава придет, надо нам чем-то и жить. Это мне Некрасов, что ни день, говорит. Так вы не отказывайтесь пока, хоть тотчас к нему.
Меся худыми галошами жидкую грязь, мимоходом, но завистью взмечтав о теплой шинели, о крепких сапогах и галошах, он отрицательно потряс головой:
– Нет, Григорович, я думаю, что оттого-то и пресекаются, исчезают старые школы, а новые не пишут, а мажут, весь талант нынче уходит в один первый замах, в котором ясно видна недоделанная, целиком не выжитая и оттого чудовищная идея да сила мышц при размахе, а дела-то настоящего, дела прочного, уж не на века, Бог с ними с веками, а хоть на день или два – самая крошечка, фюйть и прошла. Беранже про нынешних фельетонистов французских у них там где-то сказал, что это бутылка шамбертена в ведре воды. Рафаэль писал годы и годы, отделывал, отлизывал, и выходило чудо из чудес, Боги, Боги создавались терпеливыми руками его, а вот, извещают в газетах, Верне пишет в месяц картину, для которых заказывают залы особенных каких-то размеров, перспектива богатая, наброски, размашисто, а дела дельного нет ни на грош. Декораторы все, не поэты! И у нас вот взялись декораторам подражать…
Они поворачивали в Троицкий переулок. По переулку тащились погребальные дроги с бедным некрашеным гробом, из самых дешевых. Несколько провожающих, по виду случайных, уныло и молча шагали за ним.
Он только взглянул как-то боком, мельком, и тотчас, неизвестно каким волшебством, увидел другую картину: по той же перетоптано грязи бежал одинокий растрепанный лысый старик, перебегая с одной стороны черных дрог на другую, без шляпы, рыдая каким-то прерывистым, дрожащим, должно быть от суматошного бега, рыданьем.
Вся эта картина, хоть и явилась внезапно, на один только миг, была такой яркой, такой неожиданной, такой раздирающей душу, такой до судорог необходимой ему, что дух у него захватило каким-то жутким, невыносимым восторгом, и он тут же, посреди улицы, пошатнувшись, лишился сознания и было упал, да Григорович его поддержал и с помощью каких-то прохожих перенес в оказавшуюся поблизости бакалейную лавку. В лицо ему поплескали студеной воды, он пришел в себя с изумлением и привстал. Перед глазами стояла все та же картина.
По дороге домой перепуганный Григорович бережно вел его под руку, часто пригибаясь к нему, явно желая что-то спросить, вероятно, о его состоянии, но отчего-то не спрашивал, только сильнее стискивал руку.
Он тоже молчал, а дома, едва успокоившись, бледный, с быстро-быстро колотящимся сердцем, бесповоротно решил, что непременно вставит в Варин дневник или воспоминания как бы, в которых должен быть именно этот несчастный старик, бегущий за гробом молодого и любимого сына, а может быть, и не сына, тут тоже не без блудницы, даже наверняка, а даже за сына того, кого только принял добровольно, или не совсем добровольно, за сына, это очень даже бывает у слишком уж одиноких, отчаянно бедных людей, и уже после всей душой полюбил, такой поворот как-то значительней выставлял этот странный, возвышенный и в то же время униженный, слабый характер, уже близкий, понятный ему.
Таким образом, новые предстояли труды. Исполнив их, снова всё переделать. Целых два месяца ушло на поправки. Только в конце января он изготовил наконец беловой вариант, однако уже в феврале принялся обчищать, обглаживать, выпускать и вставлять, и лишь в половине приблизительно марта роман вновь показался готовым.
К этому времени, забегая вместо прогулки, он кое-что разузнал. Толковые люди уверяли его, приводя в доказательство слишком веские факты, что он всенепременнейше пропадет, если выпустит первый роман на свой счет, однако, толковые-то люди и растолковали ему:
– Положим, книга хороша, хороша даже очень, и это положим, но вы не торгаш, не купец. Где вы станете публиковать о романе? В газетах? Надобно непременно иметь на руке своей книгопродавца, а книгопродавец-то, сами знаете, себе на уме, жох и не промах, он не станет себя компрометировать публикованием об неизвестном писателе, неосторожностью этого рода он у своих клиентов потеряет доверие. Каждый из солидных книгопродавцев состоит полным хозяином нескольких газет и журналов. В его газетах и журналах участвуют первейшие литераторы или претендующие на первенство, последние чаще и больше всего, эти скверны часто и страшны, потому как амбиция непомерная, тут всюду враги и враги. Объявляет об новой книге – в журнале, подписанном ими, а это многое значит. Следовательно, книгопродавец поймет, когда вы придете к нему со своим напечатанным одиноко товаром, что он донельзя, до крайней черты вас может прижать и прижать. Вот как эти дела обстоят. Книгопродавец – алтынник, он вас прижмет непременно, и вы сядете в лужу, поверьте слову, такие опыты есть.
Так-таки оставалось обратиться в журнал. Преимущества могли получиться большие. У “Отечественных записок” бывало до двух с половиной тысяч подписчиков, в иные годы и больше. Он прикинул: такой журнал, должно быть, имеет что-нибудь до ста тысяч читателей. На первый случай для его романа это было бы славно. Напечатай он там – и его литературная будущность обеспечена, он выйдет в люди во всех отношениях: его новое имя сделается известным и в литературных кругах, и в читающей публике, двери “Отечественных записок” после такого успеха навсегда были бы открыты ему, он беспрепятственно станет давать в них роман за романом, хоть по два в год, это верные деньги, пиши да пиши.
Открывались вдобавок малые, но чрезвычайно практичные обстоятельства, о которых тоже бедному человеку не следует забывать. Расчет получался такой: роман мог бы попасть в августовскую или октябрьскую книжку, а уже в октябре он напечатал бы его за свой счет отдельным изданием, уже твердо уверенный в том, что роман купят те, кто покупает романы, при этом объявления не будут стоить ему ни гроша, поскольку “Отечественные записки” сами озаботятся дать объявления, им-то прямая выгода в том. Одно было худо: начинающим литераторам ничего не платили или редко платили в журналах, так, из приличия, какие-нибудь пустяки, стало быть, в журнале роман пойдет за бесценок, рублей за четыреста, выше и смешно залетать, чем же станет он жить?
Теперь, когда роман был окончен и он оставался пока что без дела, без этого страстного увлечения, в жаре которого обо всем забывал и расчетов не знал, неизвестность, безденежье мучили его беспрестанно. У него всё так и валилось из праздных, тоскующих рук. Надобно было что-то придумать, придумать немедленно, всенепременно, однако же что?
Он слонялся по городу в любую погоду, заглядывал на минутку к немногим знакомым, разглядывал вывески и афиши, прочитывал газеты от строки до строки и всю журнальную критику, чтобы до нитки проникнуть все эти дела, необходимые, но опасные для него, и обнаружить хоть самую малую щелочку, в которую можно бы было честно, достойно пролезть, при этом не потеряв своего.
Утешительного было немного, чаще попадалось отчего-то наоборот. В “Инвалиде” он прочитал, например, о немецких поэтах:
«Лессинг умер в нужде, проклиная немецкую нацию. Шиллер никогда не имел 1000 франков, чтобы съездить взглянуть на Париж и на море. Моцарт получал всего 1500 жалованья, оставив после смерти 3000 франков долгу. Бетховен умер в крайней нужде. Друг Гегеля и Шеллинга Гельдерлин принужден был быть школьным учителем. Терзаемый любовью и нуждой, сошел с ума 32-х лет и дожил в этом состоянии до 76 лет. Гельти, поэт чистой любви, давал уроки по 6 франков в месяц, чтобы иметь кусок хлеба. Умер молодым – отравился. Бюргер знал непрерывную борьбу с нуждой. Шуберт провел 16 лет в заключении и кончил сумасшествием. Граббе, автор гениального “Дон-Жуана и Фауста”, в буквальном смысле умер с голода 32 лет. Ленц, друг Гете, умер в крайней нужде у одного сапожника в Москве. Писатель Зонненберг раздробил себе череп. Клейст застрелился. Лесман повесился. Раймунд – поэт и актер – застрелился. Луиза Бришман бросилась в Эльбу. Шарлота Штиглиц заколола себя кинжалом. Ленау отвезен в дом умалишенных…»
Впечатление было ужасное, до дурноты, прямо сбившее с ног. У него пошли полосой какие-то дикие ночи в полубдении и в полусне. Ему не удавалось уснуть и на пять минут сряду. Он видел повесившихся и застрелившихся, а себя сгноенным в тюрьме, задыхался и вскакивал, однако в то же мгновение его останавливала вполне здравая мысль, что долговая тюрьма была бы для него не самый худший исход, и он ворочался на диване, точно лежал на гвоздях. Ему начинало казаться в полубреду, что, если бы заранее знал, сколько упорных трудов, сколько бессонных ночей потребует этот короткий роман и сколько бесплодных и неспокойных хлопот ему с ним предстоит, он бы не взялся за перо никогда.
А между тем остановиться не мог. В апреле он весь роман переправил опять и решил, что роман от этого выиграл вдвое. Только четвертого, кажется, мая, во всяком случае в самом начале, он в последний раз переписал начисто в большую тетрадь и решился посвятить Григоровича в свою по сию пору строжайше хранимую тайну: давно было пора в конце концов приступать, а приступать без Григоровича, успевшего вскочить в круг “Отечественных записок” как совершенно свой человек, не представлялось возможным, да и слишком он забился в свой темный угол и, кроме опять-таки Григоровича, не имел никого, на ком первом мог бы проверить, проиграл или выиграл он свою первую битву, а без проверки и сунуться никуда представить не мог.
Решив так окончательно, после нескольких дней прикидок и колебаний, он целое утро ходил у себя, выкуривал трубку и снова ходил, тревожно прислушиваясь к поздно встававшему Григоровичу, любившему погулять до зари, к самым малым шумам и шорохам, которые, хоть и с трудом, долетали поминутно до него через комнату. Наконец там всё затихло. Григорович, должно быть, как водится, прилег на диван с какой-нибудь книжкой журнала, лишь бы лишь бы чем-нибудь занять свой праздный ум до того часа, когда можно пробежаться по Невскому, перехватить пару пирожков у Излера, а там по редакциям, по знакомым домам, а там и в театр.
Он приоткрыл свою дверь, сердито высунул голову, точно боялся чего-то, и крикнул неожиданно сорвавшимся голосом:
– Григорович, не зайдешь ли ко мне?
В той комнате прозвучал быстрый скачок, дверь через миг распахнулась во всю ширину, и Григорович, высокий и стройный, с вечно растрепанной головой, явился в нешироком проёме, растопырил пальцы, выставил неестественно руку, выдвинул правую ногу вперед и продекламировал, завывая певуче:
– Полки российские, отмщением сгорая,
Спешили в те места, стояли где враги,
Лишь только их завидели – удвоили шаги,
Но вскоре туча стрел, как град средь летня зноя,
Явилась к ним – предвестницею боя…
У Григоровича, беззаботного беспримерно, до изумления, это было любимое развлечение – вдруг представить кого-нибудь ни с того ни с сего, единственно от безделья и бодрости духа, как бы ни казался за минуту серьезен, так что он улыбнулся невольно и для чего-то спросил:
– Это кто?
Довольный произведенным эффектом, с веселым лицом, засовывая руки в карманы светлых, чрезвычайно клетчатых панталон, Григорович беспечно проговорил:
– Тотчас видать, что вы засиделись в своих четырех-то стенах, ведь это Толченов!
Пожевав в раздумье губами, точно прикидывал, к тому ли зашел, он снова спросил, и всё, разумеется, не о том:
– Должно быть, похож?
Григорович весь просиял:
– Очень, все говорят!
Он потупился и замялся:
– Ты не занят, этак на час или два или, пожалуй, на три?
Григорович отозвался беспечно и радостно:
– Занят? Для вас? Как бы не так! Хоть на полдня!
Он поглядел исподлобья:
– Скучаешь?
Григорович расцвел широчайшей улыбкой:
– Всегда рад поболтать.
Он помедлил ещё, да вдруг точно с печки упал:
– Ну, заходи.
И, выпустив дверь, прошел неровными шагами к себе и тотчас сел на диван с серьезным лицом, ожидая веселого, легкомысленного, но всё же первого в своей жизни судью.
Григорович вступил к нему с радостным недоверием, улыбаясь, сутулясь, точно розыгрыша, подвоха ждал с его стороны.
Надо признаться, они жили вместе, но редко встречались в общей комнате или на кухне, к себе же он Григоровича не приглашал почти никогда, сурово охраняя свой тайный труд, однако приметил эту забавную странность только теперь, по странному выражению его ожидавших чего-то невероятного глаз. Смутившись, пытаясь наверстать быть радушным хозяином, он слишком громко проговорил:
– Садись, садись, Григорович!
Тот, отбросив с изящностью фалды легкого домашнего сюртучка, красиво присел вдалеке и всё глядел на него с растущим изумленным вниманием, несколько раз, чуть ли от волнения, почесав то подбородок, то нос.
Он всё ещё колебался. Едва ли Григоровичу могла быть доступна та глубина его Бедных людей, которая была же в романе, была, он в этом не сомневался ни доли секунды, а как ничего не поймет?
Он насупился, нерешительно двигал тетрадь, сначала к себе, потом от себя. Должно быть, начиная о чем-то близко догадываться, Григорович прищурился, собрал крупными складками лоб, небольшой, но красивый, мол, не выдержал, тоже прорвался, однако продолжал сидеть как ни в чем не бывало.
На зависть ему, спокойной уверенности этому доброму и беспутному человеку доставало всегда, и он поспешно, лишь бы хоть немного ободрить себя, потерявшегося совсем, напомнил себе, что и в самом деле Григорович был очень добр и с врожденным чувством изящного, если всей глубины не поймет, то останется хоть поэзия на его вкус, это, в сущности, главное, наверняка поэзию-то ухватит верным чутьем. И все-таки до того страшился провала, что заранее стыдился его, точно был уже высказан приговор, самый строгий, но, увы, справедливый, из тех, что он и сам себе уже не раз выносил. Как тут было начать?
Но Григорович, со свойственной ему деликатностью, не станет, конечно, не сможет при этом смеяться, уж за что другое, а за это, пожалуй, можно было почти поручиться. А другого слушателя-судьи нет и быть, на беду, не могло. Вот как оно повернулось: этот легковесный молодой человек оказался ему ближе всех, вот где загадка так загадка судьбы. А больше некому поделиться романом. Что же после этого у него впереди?
Он кашлянул принужденно и глухо сказал, слегка качнув головой на тетрадь:
– Вчера переписал, хочу почитать.
Григорович так и вспрыгнул на стуле, ослепительно улыбаясь, выказывая все свои здоровые белоснежные крупные зубы, встряхивая кудрями цвета воронова крыла, и почти закричал от восторга, неподдельного, из души, уж в этом-то сомневаться было нельзя: