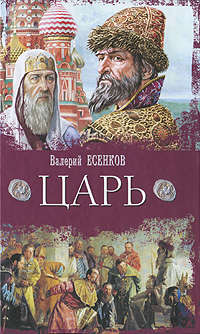Полная версия
Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском
Он не нажил намерений сносить оскорбления и от самого государя, а тут ещё эта скверная кличка тотчас пристала к нему, и он уже знал, что иные непристойные клички, непристойные-то в первую очередь, держатся до самой могилы, то есть именно те, которые так приятно для мелкого сердца унижают в глазах большинства именно достойного, именно умного человека, и опять выводилось как следствие, что с такой скверной кличкой не обнаруживалось ни малейшего смысла служить: всё равно ни до чего не дослужишься. И представят когда-нибудь в инженер-капитаны, это-то он бы как-нибудь заслужил, именно был не дурак, однако ж там, наверху, всенепременнейше на память всплывет:
– Э, батенька, это который же Достоевский? Что-то, помнится, носился об нем довольно гадкий слушок? Не тот ли, дурак? И завернут представление вспять, ибо как же не потешиться над высочайше объявленным дураком? Над кем же тогда? А не потешься, продвинь, представленье на подпись-то к кому попадет? То-то и есть, что к нему! Не нажить бы беды!
Как нарочно, верно, единственно для того, чтобы подтвердить это первейшее правило государевой службы, вскоре стали по коридорам передавать, будто “того дурака” решились законопатить в какую-то дальнюю крепость, с глаз долой, так сказать, конечно служить, возможно на юг, а то и в Сибирь, где только и место “тому дураку”. Слушок был так себе, легкий, неясный, да он тотчас смекнул, что в той крепости, если пошлют, его и сгноят, слишком крепко приняв на веру нехорошее словцо государя, если, конечно, было словцо. Какие деньги, какие чины? И ещё, как обыкновенно бывает, к одной неприятности тотчас прилепилась другая.
У него вдруг набралась добрая бездна долгов, на ассигнации рублей восемьсот, обмундировка, квартира и прочее, как достойно быть офицеру. Разом иметь столь громадные деньги у него ни малейшей возможности не было, а направление в дальнюю крепость не потерпела бы задержки с уплатой, ни на день, ни на час. И тут обозначился самый скверный закон: в мире денег, в мире чинов и отличий почиталось в высшей степени справедливым избранным прощать то, что не прощалось всем прочим, в особенности, естественно, “дуракам”, не сумевшим денег побольше набрать или выслужить чин.
В самом деле, любые долги, которые сколько угодно превышали бы личное состояние, то есть долги бесчестные и скандальные явно, прощаются легко тем, кто запасся положением и поддержкой значительных лиц, в иных случаях даже глядят на такие долги с уважением, а бедняк и поручик за такие долги получает пребольно и публично щелчка, если ещё не коленом под зад. Что говорить, ему удобно и счастливо бы было служить, когда за ним вслед потянулись бы грязные жалобы свихнувшихся от жадности кредиторов, доведенным до истерики тем, как бы куш-то их куда-нибудь не удрал.
Да и, скажите на милость, что бы он делал без Петербурга в глуши, без книг, без журналов, без белых ночей? На что бы годился? Что порядочное бы мог предпринять, чтобы вырваться из тьмы безвестности и долгов на свободу и свет?
Впрочем, ещё одно прояснилось, пожалуй, поважнее всех прочих бед: служба отнимала лучшее время, а ведь только время бесценно, как сама жизнь. Долго служить, то есть годы и годы, двадцать пять лет, он всё равно никогда не хотел, в долгой службе не находя существенной пользы ни для себя, ни тем более для Отечества и государя, из каких же было коврижек понапрасну лямку тянуть да коту под хвост пускать свои лучшие годы? Истинную и достойную деятельность он прозревал для себя единственно в литературных трудах, правда, пока что абсолютно не представляя, какими именно будут эти труды.
Рассуждал он тогда приблизительно так. Слишком у многих из высшего слоя, русских европейцев как он их уже тогда про себя называл, нравственное убеждение заменилось исключительно пользой, положительной пользой, чин, капитал стали у них чем-то вроде спасенья души. Вся беда, грозящая катастрофа, по его убеждению была как раз в том, что гуманный, бескорыстный, без жажды чинов, то есть истинный, человек нигде не сформировался ещё, да и начинал ли формироваться уже, задавленный положительной пользой, то есть устремлением к капиталу и чину, думал ли о нем кто-нибудь? В одной литературе пока что не угасал огонь идеала. Исключительно оттого, что только в ней огонь ещё не угас, литература понемногу входила в повседневную жизнь и отдельные плоды её уже бывали прекрасны.
Вот на этом освежающем, ввысь поднимающем поприще он и намеревался служить до конца своих дней, веруя в силу гуманного, воплощенного в живые образы идеала. Первые искры того высокого, наивысшего идеала уже копились и просились наружу. У него был обдуман и почти что исполнен первый роман. Какого рожна было ждать? Напротив, как можно скорей закончить роман, а там либо доказано законное право на истинное служение, либо погибель, победа или хоть в Неву с моста головой, уж это он твердо решил сам с собой.
Он подал в отставку без колебаний, почти под горячую рук, однако иным-то способом, не сгоряча, прикидывая да прослеживая все “за” и все “против”, которым обыкновенно не видно конца, тщась оберечь себя лет на сто вперед, никакого дела, как он успел себя убедить, не сделаешь, так и помрешь. Нет уж, об чем размышлять, ты кидайся вниз головой, ибо грядущее умом человеческим не разгадано и по этой причине никакому уму не подвластно, даже мудрейшему из самых мудрых. Бог поможет, да и сам не плошай, русский человек не зря говорит, а пуще надейся на труд свой, который спасает всех и всегда, кому достоинство дороже капитала и чина, ну, разумеется. Ещё бы и удачи немного, чтобы легче было лететь-то вниз головой. В этом направлении в своих одиноких мечтах, особенно по ночам, до того доходил, что готов был за идеал-то хотя и на кресте умереть, однако утром жизнь сама так и совала в глаза, что без денег нынче шагу не ступишь, не сыщешь бумаги, чернил и пера, какой уж тут крест.
Тогда всего за тысячу рублей серебром, которая составляла сумму его годового дохода, он решительно отказался от своей доли наследства, лишь бы иметь эту чрезвычайно необходимую тысячу тотчас. Опекун, натурально, принял его дикую просьбу за бред сумасшедшего и мыльные пузыри и грубо категорически отказал, многоречиво ссылаясь на возраст наследника, который, имею честь доложить, обязывал его оберегать интересы младшего, явным образом неразумного родственника от его же собственных безрассудств, следствие житейской неопытности, в конце остерегая юнца, пока что чина достигшего малозначительного, от развратительных увлечений Шекспиром, этим злым семенем его диких фантазий, в особенности отказа как должно служить.
Положение становилось безвыходным, а безвыходных положений он уже тогда не терпел, мерзко страдая от бессилия тупика. По этой причине глупые поучения терпел он недолго. Его вздумали поучать истертыми истинами из давно набивших оскомину прописей? По какому праву, позвольте узнать? Взбесившись от оскорбления, поправ свою доброту, почтение к старшим и священное чувство родства, он с холодной иронией отвечал:
«Естественно, что во всяком другом случае я бы начал благодарностию за родственное, дружеское участие и за советы. Но тон письма Вашего, тон, который обманул бы профана, так что он принял бы всё за звонкую монету, этот тон не по мне. Я его понял хорошо, и он же мне оказал услугу, избавив меня от благодарности. Вы, положим, что Вы как опекун имеете право, Вы укоряете меня в жадности к деньгам и в обиде меньших братьев, насчет которых я пользовался доселе большими суммами денег. После того, что я писал в продолжение двух лет, я даже считаю излишним отвечать Вам на это. Вы ясно могли видеть из писем моих, что не в количестве денег, разумеется до известного предела, всегдашнее и теперешнее спасение моё и устройство моих обстоятельств, а в своевременной высылке денег. Я Вам объяснял 1000 раз положение дела – не я виноват. Но как же теперь-то говорить то же самое и вооружать против меня своими словами всё семейство наше? Вы должны бы были понять мои требования. Разве требование 500 руб. серебром единовременно и других 500 руб. серебром отдачею, положим, хоть в трехгодичный срок, разве уж такое огромное требование за выделку моего участка? Кажется, это не мне одному будет полезно. Что же касается до затруднений опекунского совета, дворянской опеки, гражданской палаты и всех этих имен, которыми Вы закидали меня, думая ошеломить, так я полагаю, что эти затруднения не существуют. Разве не продаются имения с переводом долгу? Разве много проиграют или потеряют кто-нибудь, если имение останется собственностию нашего семейства по-прежнему, ведь оно в чужие руки не переходит, не отчуждается. Наконец, это дело самое частное выдать 500 руб. серебром разом в счет стольких-то лет дохода хоть десяти. По крайней мере, я беру отставку. Я подал прошение в половине августа (помнится, так) и, разумеется, по тем же самым причинам, по которым подаю в отставку, не могу опять поступить на службу. То есть нужно сначала заплатить долги. Так или этак, а заплатить их нужно. Вы восстаете против эгоизма моего и лучше соглашаетесь принять неосновательность молодости. Но всё это не Ваше дело. И мне странно кажется, что Вы на себя берете такой труд, об котором никто не просил Вас и не давал Вам права. Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем Вы Ваших. Позвольте мне напомнить, что эта материя так тонка, что я бы совсем не желал, чтоб ею занимались Вы. Притом же, разоряя родительских мужиков, не значит помнить их. Да и наконец, всё остается в семействе. Вы говорите, что на многие письма мои Вы молчали, относя их к неосновательности и к юношеской фантазии. Во-первых, Вы этого не могли делать; я полагаю, Вам известно почему: кодекс учтивости должен быть раскрыт для всякого. Если же Вы считаете пошлым и низким трактовать со мною о чем бы то ни было, разумеется уж в тех мыслях, что он-де мальчишка и недавно надел эполеты, то все-таки Вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые приличны только отцу, и шекспировскими мыльными пузырями. Бедный Шекспир!.. Но, послушайте. Кто же может остановить законную волю человека, имеющего те же самые права, что и Вы… Ну да что тут! Чтоб не быть Иваном Ивановичем Перерепенко, я готов и это принять за наивность, по вышеозначенной причине, Четвертая страница Вашего письма, кажется, избегнула общего тона письма Вашего, за что Вам душевно благодарен. Вы правы совершенно: реальное добро вещь великая. Один умный человек, именно Гете, давно сказал, что малое, сделанное хорошо, вполне означает ум человека и совершенно стоит великого. Я взял эту цитацию для того, чтоб Вы видели, как я Вас понял. Вы именно то же хотели сказать, задев меня сначала и весьма неловко крючком Вашей насмешки. Изучать жизнь и людей – моя первая цель и забава, так что я теперь вполне уверился, например, в существовании Фамусова, Чичикова и Фальстафа… Вам угодно было сказать несколько острых вещей насчет миниатюрности моего наследства. Но бедность не порок. Что Бог послал. Положим, что Вас благословил Господь. Меня нет. Но хоть и малым, а мне все-таки хочется помочь себе по возможности, не повредя другим по возможности. Разве мои требования так огромны…»
Его сторону тотчас принял брат Михаил, человек благородный, всегда его понимавший и всегда ожидавший от него непременно великих свершений, то есть более чем уверенный в нем. Таким образом, своего он добился, но с того дня отношения с ближней и дальней родней сделались беспокойными, отчасти даже постыдными, не с его, уж разумеется, стороны. Для этой ближней и дальней родни он вдруг превратился в какого-то неблагодарного изверга, разобиженный опекун откровенно аттестовал его дураком и чудовищем, и, может быть, даже Варя, сестра, бывшая за Карепиным замужем, тоже была вместе с ними, и ему тогда представлялось в припадке тоски, как они все говорят своим детям, что вот, мол, смотрите, ваш дядя, к несчастью, к позору семьи, сбился с пути, превратив сам себя в лентяя и забулдыгу.
Но уже ничто не остановило его. Сознание незаслуженных оскорблений только удвоило силы, которые и без того рвались наружу, как рвется пар из парового котла. Шатким надеждам на грошовое прозябание, которое бы ему обеспечила с течением времени подлая служба, он предпочел неблагоразумный, по видимости, но благородный, дерзкий, отчаянный риск. Он должен был гением стать или хоть провалиться в тартарары. С какой же стати он бы оправдывался перед родней? И он не оправдывался и никому не доказывал ничего. Всё, что было бы надобно для его оправдания, за него должны были доказать трехпогибельный труд и творения великие, славные, славные ныне и на века. А если погибнет безвестно и пусто? Что ж, они его оплачут пристойно да тут и забудут, опустив долу глаза, за что он мог бы всех их только благодарить. Но пусть подождут! Он не протянул ещё ног!
Глава третья
Идея
Стиснувши зубы, наглухо затворившись в себе, он с нетерпением ждал, какой билет выкинет ему слепая судьба: поражение, как в один голос твердила ни с того ни с сего озлобленная родня, или, вопреки их здравому смыслу, победу?
А пока заплатил он все долги, экипировался на два года вперед, но остался на прежней, ещё офицерской квартире, хотя квартира была для него велика: передняя с отгороженной кухней, просторная комната и две смежные с ней, по правую и по левую руку. Что ему было делать в этаких-то теремах одному одинешеньку? Он бы и съехал без промедления, из экономии прежде всего, да весь дом принадлежал почт-директору Пряничникову, милейшему человеку, по нынешним временам редчайшему, потому что добрейшему существу, любителю живописи, который смиренно ожидал от жильцов, что наверное, как же иначе, оплат жилья, когда где-нибудь там что-то получат и смогут платить. Поди-ка сыщи во всем Петербурге, городе сплошь и рядом сухом, до крайности меркантильном и жадном, второго подобного благодетеля и чудака!
Как водится, безденежным и бесчиновным он не нужен был никому. Вокруг него в слепой ярости приобретал и служил нелюбимый, неласковый город чужих по духу людей, где на каждом шагу мозолили и резали глаз монументы и венецианские окна единственно тех, кто добросовестно выслужил низкопоклонством и лестью и добродетельно приобрел воровством, и смрадные дыры для тех, кто служил да не выслужил, не имея низости угождать, приобретал да мало что приобрел, не имея гнусности воровать, и по этой причине должен был ютиться в щели, без которого он не мог тем не менее обойтись.
Он тоже спрятался в свою обширную щель, на углу Владимирской и Графского переулка. Неприютно было в этой щели. Он вырос в огромной и дружной, как однако впоследствии оказалось только по видимости, а на деле несчастливой, семье, человек примерно в пятнадцать, считая, конечно, прислугу. Большая семья без происшествий и больших беспокойств обитала в двух комнатах, кухне и крохотной детской, и все, как ни странно, уживались друг с другом, искренно уважая, даже крепко любя. Что говорить! Кормилицы, давным-давно выкормивши младенцев у божедомского лекаря, пешком приходили из деревень, обыкновенно по зимам, когда землепашца на срок отпускала работа, и гащивали у бывших хозяев по нескольку дней, окруженные вниманием взрослых и обожанием чуть не бесчисленной ребятни.
После приветливой тесноты Божедомки выдерживать полное одиночество ему было куда как несладко. Однако же куда горше была иная беда: никакого романа, конечно, не оказалось. То есть написанного было достаточно много, кое-что из написанного было даже недурно, а романом даже не пахло. Он ещё раз пересмотрел Пушкина, Гоголя, он бессонными ночами передумывал их, пока не вывел урок для себя, урок на целую жизнь. Что сделало их гениями на все времена? А вот что: они художнической силой своей отрешились от своей больной, нравственно запустелой среды лишних людей, которые так и не стали европейцами с нашим приносным образованием “чему-нибудь и как-нибудь”, но не остались и русскими, а превратились в каких-то уродов, и судили эту среду великим судом народного духа. И он, вслед им, жаждал судить, тоже великим, но высшим и потому беспощадным судом.
С первой минуты несчастье его было в том, что он пришел в мир, где не было ничего святого, ничего, решительно ничего, кроме денег и чина. Впрочем, он тут же нашел, что обязан уточнить обстоятельства. Пожалуй, в первые-то минуты он испытал и приветливость, и тепло, даже видимость счастья дружной семьи, и только минутами вдруг ощущал, как сквозь приветливость и тепло угрюмо и медленно проступало что-то тяжелое, темное, вот как будто собиралась гроза, никуда не спеша, а придет час – соберется и грянет и развеет в прах и приветливость и тепло и семью, и всё это в те длинные зимние вечера, когда матушка с батюшкой вслух читали друг другу Карамзина. В большой комнате стояла мертвая тишина. Сальная свечка мерцала треща. В тишине раздавались мерные негромкие голоса. На ковре под ногами у взрослых играли старшие дети в свои тихие детские игры, именно тихие, поскольку уже твердо знали, что помешать батюшке есть страшный грех. Вот в эти-то часы мира и тишины вдруг взглянешь на их наклоненные к книге резко освещенные лица и вздрогнешь: как могли эти люди встретиться, жить вместе, рожать детей, и жизнь их не превратилась в ад.
Лицо батюшки было правильным, отчасти даже красивым, с широким лбом, ещё увеличенным глубоко забирающими залысинами, с небольшим прямым носом, который оканчивался широкими чувственными ноздрями, и с сильным волевым подбородком, ещё подчеркнутым высоким воротом белоснежной сорочки, которая была у него неизменной, однако от него так и веяло холодом, небольшие глаза глядели неподвижно, тяжело и презрительно из-под властно и мрачно изогнутых темных бровей, бескровные тонкие губы плотно сжимались и приподнимались в левую сторону навсегда застывшей язвительной полуулыбкой, к ним близко подступали форменные узкие уставом определенные бакенбарды, отчего всё лицо становилось недобрым, если не злым, так что не только внимательный чуткий подросток, уже начавший заглядывать под поверхность обыденной жизни, но и самый быстрооглядный прохожий не мог не определить в этом внешне спокойном, всегда приветливом человеке мрачного истязателя и тирана, к тому же на вид он был лет пятидесяти, при его сорока четырех, свидетельство верное, что его душа уже искривилась и что ей, искривленной душе, не выпрямиться уже никогда.
Матушка, напротив, рядом с ним была кротким ангелом, с шелковистыми локонами по невинным, всё ещё удивительно детским щекам, с тихим задумчивым взглядом красивых добрых ласковых глаз, с хрупкой девической шеей, с неразвитой грудкой подростка, несмотря на стольких рожденных детей, с чистым высоким лбом, так прямо и говорившим, что эта женщина хоть и умна, и, может быть, даже очень, очень умна, однако не успела изведать не то что какого-нибудь самого малого зла, а и сколько-нибудь сильной печали, разве что попробовала неопределенной печали полудетских мечтаний, не пролила ни слезинки, разве что светлые слезы над страницами грустных романов или над строфами мрачных баллад. Подросток глядел, глядел и невольно отводил пытливые взоры от мрачного лица истязателя и тирана, которое тем не менее было лицом родного отца, благодетеля и несомненного руководителя жизни и с облегчением останавливал их на этом светлом лице, на всем её хрупком, беззащитном, неприготовленном существе, вызывавшем невольную жалость, которая определилась, осозналась после, потом и только предчувствовалась в его первые годы: погибнет цветок, непременно погибнет, не расцветет.
Кажется, первому эта мысль соединить сурового лекаря с тихой, ласковой души бесприданницей как-то уж очень понравилась, как говорится, к сердцу пришлась её дяде, Василию Михайловичу Котельницкому, человеку добрейшему и, стало быть, чудаку, это уж всенепременнейше так. Его отец, коллежский регистратор, не более и не менее, известный однако умом и широкой начитанностью, служил корректором в московской типографии духовного ведомства, славной именно тем, что в ней набирались и печатались труды Новикова, масона, будто в духовном ведомстве без масонов и быть не могло. От отца-корректора перенял любознательный Вася благодетельную склонность к наукам, продвинулся много дальше, чем благопримерный родитель, вышел однако не по духовному ведомству и не по масонам, а в профессоры по медицинскому факультету, читал студентам о составлении спасительных для организма лекарств, везде появлялся непременно в мундире и треугольной шляпе с плюмажем, за что добродушные студиозы звали его, чуть не в глаза, Петухом. Дядя же, точно стремясь оправдать свое насмешливое прозвание, всходил на кафедру с подобающей важностью, главное же, не уставал наставлять, что и от лучшего из лекарств очень даже просто может помереть человек, а стало быть, господа, рецептики-то нужно подписывать с осторожностью величайшей, да-с, да-с, господа.
Этой замечательной истины дядя Василий Михайлович и сам придерживался с твердостью необычайной и потому даже в самой крайности не доверял всплошь, по его убеждению, мздоимственным лекарям, может быть, и не даром, а оттого, что печальный опыт имел, изъяснить этот казус иначе возможности нет. Во всяком случае, стоило кому-нибудь при нем неосторожно похвалить молодого целителя, как он возражал:
– Ну, прежде времени не хвалите. Вот с нами-то как поживет, в раз поглупеет, а то, чего доброго, господа, станет подлец.
Неизвестно, отзывался ли он поначалу таким же образом о серьезном, набыченном, замкнутом лекаре Достоевском, только Василий Михайлович очень скоро заметил, что этот не поглупел, не оподличал, да, верно, уж и не поглупеет, не оподличает до конца своих дней, а потому, стоило ему как-нибудь занемочь, он обращался только к нему и советы его исполнял добросовестно, даже по части лекарств, о которых имел, как видно, свое, далеко не лестное мнение.
Сам профессор по каким-то причинам детей не завел, зато у него имелись племянницы, Александра и вот эта Мария, дочери его родной сестры Варвары Михайловны и её законного мужа Федора Тимофеевича Нечаева, человека в своем роде почти замечательного. Этот Федор Нечаев начал жизнь весьма неприметно, в провинциальной глуши, в городишке Боровске, что в Калужской губернии, вдалеке от Москвы. Выходец из посадских людей, лет за двадцать до нашествия преступного Бонапарта, он перебрался в Москву. В Москве, тогда ещё Федька, он определился сидельцем в лавку к купцу, выжиге средь прочих выжиг первейшему, на жизнь, надо прямо сказать, почти каторжную, чуть не сибирскую, однако, к удивлению калужской родни, искус унижением чрезвычайным, чрезмерным, издевательством нечеловеческим выдержал стойко, поднабрался деньжонок неизвестного рода, вдруг вышел в купцы третьей гильдии, завел собственное дело в суконном ряду, стал богатеть, хоть и медленно, зато неуклонно, приметно, зажил в собственном доме, да проклятый Бонапарт подрезал Федора Тимофеевича прямо под корень. Он всё, или почти всё, потерял при пожаре Москвы. Кое-какие крохи, конечно, остались, но тут, год спустя, жена его померла. Он ещё продолжал жить в собственном доме, только к прежнему суконному делу не возвратился, а женился вторым браком на Ольге Яковлевне, почти ровеснице его старшей дочери Александре. Александру, собравшись с последними силами, он выдал, понятно, с сильным приданым, за Александра Куманина, из богатейших московских купцов, кулака первейшей закалки и первейшей статьи, какие первыми стали попадаться тогда, но уж за младшей Марией дать не мог ничего.
Профессор Котельницкий и привязался всем сердцем к этой Марии, почти, вышло так, сироте, баловал её, сколько мог, пестовал, озаботился её воспитанием, совсем не купеческим, с уроками музыки, танцев, полагая, должно быть, что без музыки, танцев дочь купца так-таки и не сможет прожить, зато открыл ей несказанное счастье общения с книгой, сам вслух декламировал ей оды Державина во весь глас, только что не распевал баллады Жуковского и уж было принялся знакомить с некоторыми шедеврами юного Пушкина, когда неприметно подкралась пора выдавать бесприданницу замуж.
Известное дело, будь хоть трижды красавицей и разумницей, а без приданого в здешнем мире пристойного мужа трудно найти. Вот тут Василий Михайлович и попригляделся попристальней к одинокому, замкнутому Михаилу Андреевичу, у которого как раз лечил свой застарелый гастрит, нередкая награда холостяка. Выходило по наблюдениям, что человек небогатый, однако серьезный, ответственный, прилежный в исполнении должности, которая одна кормила его. Стало быть, с таким человеком племяннице, натурально, будет весьма далеко до старшей сестры, которая за Куманиным как сыр в масле каталась, но и с голоду не помрет, хлеб и почтенный достаток муж этого склада всегда добудет себе и жене, мозоли до крови натрет, а добудет.
Что ж, Василий Михайлович пригляделся поглубже. К своему удивлению, обнаружились кое-какие следы родословной, даже уходившей корнями в толщу веков. Выходило, что его род, ныне абсолютно затерянный, неизвестный, восходил ещё к Даниле Иванычу Ртищеву, который тем отличился в русских юго-западных землях, что отстаивал православную веру от преследования её подлым и чересчур уж воинственным католичеством. Одному из его-то служилых людей пинский князь Федор Иванович, из Ярославичей, в начале шестнадцатого столетия, дал за верность и доблесть жалованную грамоту на имение Полкотичи и часть сельца Достоево, что в Пинском повете, к северо-востоку от самого Пинска, в междуречье Пины и Яцольды. Тогда-то от названия сельца и пошли Достоевские.