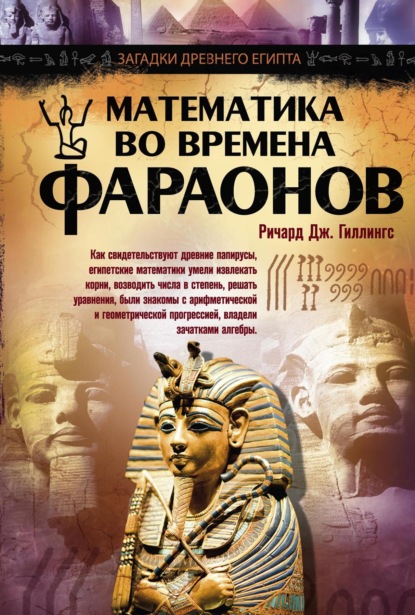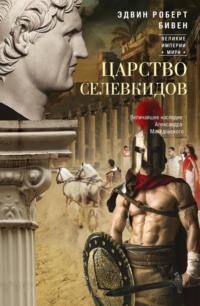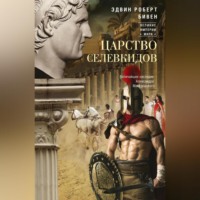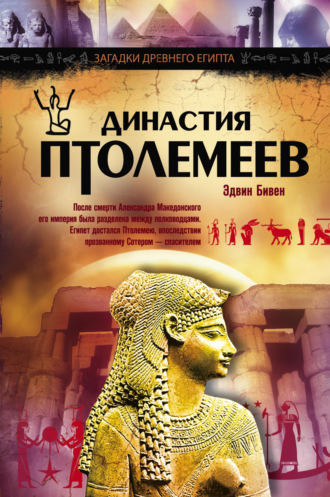
Полная версия
Династия Птолемеев. История Египта в эпоху эллинизма
Ни одна современная страна, где европейская раса управляет более многочисленным туземным народом, не похожа на эллинистический Египет. Южная Африка напоминает его только в том смысле, что и там европейцы сделали страну своим постоянным домом, будучи меньшинством по сравнению с туземным населением, но отличие состоит в том, что коренные жители Южной Африки принадлежат к первобытным племенам, они не являются представителями древней цивилизации, как египтяне, перед которыми европейские переселенцы испытывали определенное благоговение. В этом отношении Индия представляется более схожей с эллинистическим Египтом, но и Индия не похожа на него в другом отношении – в том, что европейцы не обосновались в стране как у себя дома, но являются лишь временным сообществом чиновников, солдат и торговцев. Есть и еще два важных отличия отношений между европейцами и туземцами в эллинистическом Египте от сложившихся между европейцами и туземцами сегодня. Во-первых, хотя сами греки и македонцы считали себя людьми высшей расы, обычный греческий или македонский поселенец (возможно, в больших семьях это было по-другому) не отшатывался в ужасе от брака с египетской женщиной[148]. Поскольку греки и македонцы в основном прибывали в страну в качестве воинов, мужчин среди них должно было быть гораздо больше, чем женщин. Многие из них, как мы знаем из папирусов, имели жен в Европе, но перевозка европейских жен едва ли могла иметь место. Множество греков и македонцев женились на египтянках. Из-за этого колониального смешивания кровей этнические различия в эллинистическом Египте становились все менее и менее заметными. Впоследствии многие из тех, кто звал себя греками, по крови в основном были египтянами. Правда, в трех греческих городах, вероятно, существовал закон, запрещавший гражданам заключать браки с туземцами, и можно считать, что их граждане сохраняли чистоту эллинской породы на протяжении эпохи эллинизма. Но большинство греческих жителей Египта, как населявших города, так и имевших дома в египетских деревнях, которые не принадлежали к числу граждан трех полисов, оказалось в совершенно иной ситуации.
Примерно с 150 года до н. э. в папирусах начинают часто появляться люди, имеющие одновременно и греческое, и египетское имя. Например, в конце II века до н. э. мы находим грека по имени Дритон, чьи дочери (несомненно, от египетской матери) в одном папирусе называются греческими именами, в другом и египетскими, и греческими, а в третьем только египетскими[149]. У Гермокла было три сына, из которых старшего звали Гераклидом, а двух других по-египетски – Нехутес и Псехонс. В списке греческих земледельцев (примерно 112 год до н. э.) мы находим Гармиисиса, сына Гармиисиса, Гарфаэсиса, сына Петосириса, и т. д.[150] Вероятно, немногие чистокровные греки брали египетские имена. С другой стороны, многие египтяне могли принимать греческие имена. Так или иначе, после середины II века до н. э. уже невозможно по одному только имени делать вывод о том, кем: греком или египтянином – является тот или иной человек.
Различия между высшим слоем греков и низшим слоем туземцев не исчезли, но стали больше вопросом культуры и традиции, чем расовым. Семья с греческими именами (даже если в ней встречались и египетские), писавшая и говорившая по-гречески и знавшая хоть немного греческую литературу, следовавшая греческим традициям в поведении, считалась принадлежащей к привилегированной национальности; а та, которая говорила по-египетски и жила по туземным обычаям, приписывалась к низшему народу. Если бы правлению Птолемеев в Египте не пришел конец, то разница между греками и египтянами постепенно могла бы стереться совсем. Как мы увидим ниже, местный элемент занял более прочное положение при поздних царях, чем при первых Птолемеях. Но в римский период этот процесс прекратился, и массы туземцев, говоривших на египетском языке, снова оказались в положении слуг при греках и римлянах.
Другое существенное различие между отношением греков к египтянам в эллинистическом Египте и отношением «белого человека» к «аборигенам» сегодня лежит в сфере религии. Современная европейская цивилизация сформирована не одной только эллинской традицией; значительное влияние на нее оказало христианство, через которое в нее попал элемент, совершенно отсутствовавший в менталитете древних греков. В греческой религии нет понятия исключительности, характерного для христианства, а также его «прародителя» иудаизма, хорошо знакомого грекам, жившим в эллинистическом Египте. В греческой религии не было ничего, что заставило бы греков относиться к египетским культам как к языческим, идолопоклонническим или существенно более низким по сравнению с эллинскими. Напротив, греки пребывали под большим впечатлением от таинственности и бесконечной древности египетской религии, хотя римлянам и, возможно, некоторым грекам поклонение божествам в виде животных или полуживотных казалось нелепым. В представлении древних греков божественная сила была чем-то столь туманным и неопределенным, что какой-нибудь варварский религиозный ритуал, даже если его основания непонятны, мог принести удачу. Считалось таким же благоразумным умилостивлять любого бога, в которого верили твои соседи, особенно если это происходило в местности, где ему поклонялись уже на протяжении жизни бесчисленных поколений. Смешанный греко-египетский народ, возникший из межэтнических браков, впитал большую долю народной египетской религии с молоком египетских матерей. Благоговение, которое греки испытывали по отношению к местным культам, было вполне совместимо с мнением о превосходстве греческой культуры во всех мирских делах и правильности эллинских жизненных ценностей. В папирусе из Фаюма середины III века до н. э. говорится о дочерях грека из Кирены Де-метрия и египтянки Тасис, которые посвятили алтарь египетской богине-бегемотихе Тоэрис (Тауэрт)[151]. Девушки носили и греческие, и египетские имена. Еще раньше (285–284 до н. э.), в царствование первого Птолемея, на Элефантине жила гречанка Каллиста из Темноса, которая использовала в качестве своей печати скарабея с вырезанным на ней изображением египетского бога Тота в облике обезьяны[152].
Египетский праздник 20-го числа месяца атира, в который после дней траура провозглашается радость богини Исиды при обретении тела Осириса, отмечался греками еще в правление Птолемея II, и даже в таких высоких кругах, как приближенные диойкета Аполлония, чья приемная закрывалась по такому случаю[153].
Смешению религий способствовал тот факт, что греки нередко отождествляли египетских богов со своими – Амона с Зевсом, Птаха с Гефестом, Хора с Аполлоном и так далее – и часто, называя бога греческим именем, они имели в виду египетское божество. Иногда рядом приводили и египетское (в эллинизированной форме) и греческое имена[154]. Поэтому, когда мы находим посвящение Асклепию по-гречески, на самом деле оно может быть адресовано древнему египтянину, который был архитектором царя Джосера (примерно 4940 до н. э.) и которого египтяне звали Имхотепом[155]. Поклонение людям древности как богам – Имхотепу, Аменхотепу (древнему мудрецу времен царя Аменхотепа III, 1414 до н. э.), царю Аменемхету III (3427–3381 до н. э.) – представляется нововведением, возникшим в египетской религии при Птолемеях, и, возможно, обязано своим появлением греческому влиянию на египтян.
То, что наиболее образованные греки узнавали о египетской религии от эллинизированных египтян, зачастую, разумеется, специально приукрашивалось так, чтобы эллины нашли в этом глубокую мудрость. Грубая древняя мифология и примитивные ритуалы толковались так, что они начинали воплощать в себе философские идеи греков[156]; греческие и египетские представления сливались в странный сплав, очень похожий на современную теософию, которая впитала в себя некоторые элементы индуизма, адаптированные для европейцев, соединяя их с понятиями, заимствованными из христианства или современной науки. И если мы хотим разобраться, каким образом греки могли одновременно и чувствовать превосходство над египтянами, и питать уважение к египетской религии, мы можем попробовать представить себе, что изменилось бы в сегодняшней Индии, если бы англичане, вместо того чтобы в большинстве своем исповедовать христианство, стали бы сторонниками теософии, начали бы приносить жертвы индуистским богам и ставить у себя в домах лингамы и изображения Ганеша для поклонения[157].
Но если жившие в Египте греки были готовы при случае поклониться египетскому богу, они не прекращали почитать собственных богов даже за стенами Александрии, Птолемаиды и Навкратиса. Там, где проживала греческая община, независимо от количества жителей ее члены имели полное право поставить в любом месте Египта маленький храм Зевса, Аполлона, Деметры или Афродиты либо любого иного божества своего народа и совершать в нем греческие ритуалы[158]. Помимо этого, отдельные греки тоже могли свободно возводить на занимаемой ими земле святилища какого угодно божества по своему усмотрению.
Одним из нововведений для Египта, пришедшим вместе с греческими переселенцами, были добровольные сообщества, которые, по-видимому, создавались для поклонения какому-либо божеству, хотя на самом деле выполняли функции питейного клуба или торговой гильдии. Они возникли во всех частях греческого мира после смерти Александра и назывались фиасами или синодами. Можно считать признаком эллинистического влияния на местных жителей, что среди них тоже начали появляться такие общества, возникавшие вокруг культа египетских богов – Осириса, Исиды, Анубиса, Хнубиса-Амона или какого-то местного божества. Иногда члены ассоциации поклонялись обожествленному царю, как, например, общество басилистов у Сиены (II век до н. э.) или филобасилистов (конец II века до н. э.), которые упоминаются в некоторых папирусах[159]. Рубензон предполагает, что все наши наблюдения относятся к единственному учрежденному в царстве обществу басилистов. Мне кажется более вероятным, что название «басилисты» брало себе любое общество, которое желало выказать свою верность тем, что объектом поклонения делало царя или царя с царицей, может быть, вместе с другими избранными богами. После этого его члены могли уверенно надеяться на милость недоверчивого правительства.
Греческие города
Навкратис
Из трех греческих городов Навкратис продолжал вести размеренную жизнь греческого полиса, хотя его коммерческая важность уменьшилась после основания Александрии. В период между смертью Александра и вступлением Птолемея на египетский трон в качестве царя в Навкратисе даже чеканились собственные монеты. А число греческих авторов эллинистической и римской эпохи, которые были гражданами Навкратиса, доказывает, что в сфере эллинской культуры город не отступал от своих традиций. Птолемей II удостоил Навкратис своей заботой. «Он построил большое здание из известняка длиной около 330 футов и 60 футов шириной, чтобы возместить разрушенный вход в великий Теменос; он укрепил большую группу залов в Теменосе и восстановил их»[160]. Когда сэр Флиндерс Питри написал только что процитированные строки, великий Теменос отождествлялся с Элленионом. Но Эдгар недавно указал, что соединенное с ним здание было не греческим, а египетским храмом. Следовательно, в Навкратисе, несмотря на его общий эллинистический характер, имелся и египетский элемент. То, что город расцвел в эллинистическую эпоху, «мы можем видеть по количеству ввезенных амфор, ручки которых, изготовленные на Родосе и в других местах, мы находим в таком изобилии» (Питри). «Папирусы из архива Зенона свидетельствуют о том, что это был главный порт на пути от Мемфиса до Александрии, а также место остановки на сухопутной дороге из Пелусия в столицу»[161]. В административной системе он относился к Саисскому ному.
Александрия
Строительство Александрии к концу правления Птолемея II, через восемьдесят шесть лет после основания, вероятно, уже было завершено, и в основных чертах она стала тем великим городом, который знали последующие поколения греков и римлян.
Считалось, что Александрия с относящейся к ней территорией находится не в Египте. Она считалась присоединенной к Египту – Alexandria ad Aegyptum. В папирусах люди иногда пишут о поездках из Александрии «в Египет». Как мы видели, она образовывала прямоугольник примерно 4 мили в длину на три четверти мили в ширину, с морем на севере и широким пресноводным озером Мареотида на юге. Ее главная улица – Канопская – шла от Канопских ворот на востоке к соответствующим воротам на западе; в центре города под прямым углом ее пересекала другая улица, проходившая от моря к озеру. Обе эти главные магистрали имели в ширину более 30 ярдов. Даже многие улицы поменьше, параллельные двум главным, пропускали колесные повозки, в отличие от обычных узких улочек старых греческих городов. Названия нескольких улиц Александрии содержатся в недавно опубликованном папирусе[162]. Они названы в честь Арсинои Филадельфии, причем характерные эпитеты разных греческих богинь присоединялись к имени царицы вследствие отождествления, о котором мы уже говорили выше, когда обожествляемого человека связывали с каким-либо конкретным богом традиционной религии. Так, мы находим эпитеты Басилея (Гера), Телея (Гера), Элеемон (Афродита на Кипре), Халкиойкос (Афина в Спарте), добавленные к имени Арсинои и использованные в названиях соответствующих улиц.
По городским законам никто не имел права строить дом на расстоянии меньше одного фута от следующего, кроме как по взаимному согласию между соседями, которые, если хотят, могут иметь общую разделительную стену[163]. Канал, более-менее соответствующий современному каналу Махмудие, доставлял пресную воду из канопского рукава Нила; он ответвлялся у Схедии (Ком-эль-Гиза) примерно в 17 милях. Согласно «Истории Александра Великого», этот канал существовал еще до Александра, и тогда участок земли, где потом была построена Александрия, занимали шестнадцать египетских деревень, в том числе Ракотис, которые снабжались водой из двенадцати вспомогательных каналов, соединенных с главным каналом. Все они, как говорится в тексте источника, кроме двух, были закопаны, и по ним прошли параллельные улицы города. «История» – малодостоверный исторический источник, но в том, что касается местной истории и топографии, как склонны полагать современные ученые, могли сохраниться предания, основанные на фактах. Несомненно, под городом проходила сложная система водоснабжения и канализации, по которой пресная вода подводилась к частным домам[164], – вероятно, это удобство не имело прецедента в древних городах – и данная система, вероятно, являлась частью первоначального плана, составленного для Александра. Местонахождение различных храмов, согласно Арриану[165], было определено самим Александром, причем посвящены они были не только греческим богам – в туземном квартале был возведен храм Исиды, на месте которого, как мы видели, при первом Птолемее построили Серапеум. Этот египетский квартал, сменивший старый египетский город Ракотис и расположенный южнее западного конца большой центральной дороги, конечно же разительно отличался от величавого и величественного греческого города с его регулярной планировкой, так же как сегодня старый Каир отличается от европейского квартала или Стамбул от Галаты.
В целом Александрия была разделена на пять кварталов, называвшихся пятью первыми буквами греческого алфавита – квартал Альфа, квартал Бета и т. д. Античные авторы перечисляют наиболее известные здания и памятники Александрии, хотя по причине, указанной на с. 19, совершенно неясно, в каких именно частях современного города они находились. К их числу относились Гимнасий, «необычайно великолепное здание с колоннадами длиной более стадия», протянувшийся вдоль Канопской улицы[166] – центр средоточия александрийского гражданского населения, – Суд (дикастерион) рядом с центром города; Паней, посвященный Пану искусственный холм с прекрасным видом на весь город, открывавшимся с вершины, и парком вокруг[167]. Там была знаменитая Сема, гробница-храм, в которой покоилось тело Александра Великого в золотом гробу, ее территория была закрыта от города стеной. Постепенно вокруг первоначальной Семы выросли другие храмы-гробницы обожествленных царей и цариц из династии Птолемеев. Птолемей II начал этот процесс строительством храма в честь своих родителей и, возможно, также храма-гробницы Арсинои Филадельфии, которому суждено было принять и его тело. Стадион и Ипподром, которые когда-то наполнялись возбужденными толпами александрийцев, любителей спортивных состязаний и гонок колесниц, находились ближе к окраинам города: Стадион, видимо, за Серапеумом на юго-западе, а Ипподром на юго-востоке, недалеко от пригорода Элевсина. Театр стоял на дворцовой площади, где для зрителей, сидевших на высоких ярусах, за сценой открывался вид на море.

Настенная живопись из Помпей. Сельская вилла в александрийском стиле
«Четверть или почти треть площади города занимали царские здания, колоссальное скопление дворцов и садов»[168]. Вероятно, в эту четверть включены Сема и казармы царской гвардии, которая должна была находиться рядом с царем. Дворцовая площадь, занимающая большую часть того, что называлось Неаполисом (Новым городом), располагалась на северо-востоке между Канопской улицей и морем. Дворец стоял фасадом к морю и был обращен к великой гавани. Музей и Библиотека близко прилегали к нему с западной стороны. На востоке от него, тоже недалеко от набережной, находился еврейский квартал Дельта.
Остров Фарос связывала с землей дамба, называвшаяся Гептастадионом. Из-за наносов по обе стороны от этого искусственного мола в течение веков теперь он превратился в перешеек шириной около трети мили, и на нем расположен один из густонаселенных кварталов современной Александрии. Когда Гептастадион был впервые построен, он разделил море между Фаросом и землей на две гавани. На востоке от него расположилась Большая гавань, а на западе гавань Эвност, названная, вероятно, в честь Эвноста, «царя» Кипра, зятя Птолемея I, но, конечно, именно это имя было выбрано еще и потому, что Hormos Eunostos по-гречески означало «Гавань счастливого возвращения». Сегодня старая «Большая гавань» может принимать только мелкие рыбачьи лодки; а Эвност превратился в порт для крупных кораблей. Часть Большой гавани у дворцового фасада была отделена для личного пользования царей.
Верфи гавани с их большими складами (apostaseis), видимо, образовывали район, отделенный от города стеной. В этот район, называвшийся эксересис, товары можно было привозить беспошлинно. Если же, однако, их проносили в город, то нужно было платить у ворот, ведущих из эксересиса, предписанные пошлины[169].
На острове Фарос архитектор Сострат Книдский построил знаменитый маяк, считавшийся одним из чудес света. Строительство началось, несомненно, при Птолемее I и было закончено в начале правления Птолемея II. «В основном при его сооружении использовался нуммулитовый известняк. Скульптурные украшения, как и другая дополнительная отделка, частью изготовлялись из мрамора, частью из бронзы. Бесчисленные колонны в большинстве своем вытесывались из асуанского гранита. Фонарь маяка образовывали восемь колонн, увенчанные куполом, над которым возвышалась бронзовая статуя (вероятно, Посейдона) примерно семи метров высотой. Для получения пламени жгли смолистую древесину. Считается, что для увеличения дальности освещения использовались вогнутые металлические зеркала»[170]. Это грандиозное сооружение теперь настолько разрушено, что можно только догадываться о том, как оно выглядело, по отдельным упоминаниям в сочинениях античных авторов, по монетам и по аналогиям с древними развалинами в других местах. Сопоставив все доступные материалы, профессор Тирш создал предположительную реконструкцию маяка, которая изображена на вклейке. Надпись с посвящением гласила: «Со-страт, сын Дексифана Киндского, Богам Спасителям от имени мореходов». Точно неизвестно, кто имеется в виду под «Богами Спасителями» (Sotēres Theoi). Так официально назывались Птолемей I и Береника после их обожествления, и вполне естественно предположить, что в посвятительной надписи, сопровождавшей сооружение подобного рода, возведенное по приказанию царя в Александрии, имелись в виду именно Птолемей I и Береника. С другой стороны, «Богами Спасителями» также назывались Кастор и Полидевк, покровители мореплавателей, и это были их обычные эпитеты, так что, возможно, посвящение было написано на маяке еще до официального обожествления Птолемея I и Береники. Также может быть, что эта двусмысленность была намеренной. Это, конечно, выдающийся факт, что царь позволил архитектору упомянуть в посвящении подобной постройки собственное имя. Позднее была придумана история, объяснявшая, как возникло это посвящение. Говорили, что Сострат покрыл свое имя (написанное, как и остальные слова, огромными буквами, вырезанными в камне и заполненными свинцом) тонким слоем штукатурки, с виду похожей на камень, и написал на этой штукатурке имя Птолемея. Он рассчитывал на то, что после его смерти штукатурка отвалится.
Участки земли, расположенные за стенами Александрии, с востока и запада, были отведены под некрополи, и со временем эти два «города мертвых» сильно разрослись в близком соседстве с городом живых. На востоке, рядом с главным каналом, находился пригород Элевсин неподалеку от озера Хадра, и здесь Птолемей II ввел культ Деметры с некоторыми особенностями, заимствованными из настоящего Элевсина в Аттике[171]. Вдоль того же канала между Александрией и Ка-нопом стояли виллы и сады богатых александрийцев. Старый египетский город Каноп стал любимым местом развлечений для александрийцев, и Страбон описывает сцены разгульных излишеств с музыкой и кутежами на лодках, днем и ночью скользивших по каналу между Александрией и Канопом.
На набережных и улицах этого великого левантийского города мы оказались бы в толпе, где собрались представители народностей из всех частей известного мира – греки из всех частей Средиземноморья, местные египтяне, италийцы, римляне, евреи, сирийцы, персы, индийцы, негры. Общая численность населения Александрии в последние годы правления династии Птолемеев чуть не достигала миллиона человек. Но кроме того, население Александрии, не считая приезжих чужеземцев, включало огромное множество людей, не принадлежавших к числу тех, кто гордо именовал себя александрийцами. Диодор сообщает, что в последние годы правления династии в городе жило 300 тысяч человек. Конечно, весь туземный египетский элемент в Александрии не входил в число граждан города – как, возможно, и жившие там евреи, хотя еще ведутся споры по вопросу, были евреи включены в число граждан или нет. Граждане считались сообществом истинных греков, с интересами и общественной организацией, свойственной свободным гражданам греческих городов как таковым. Александрийцы называли себя греками и македонцами. В общем-то представляется маловероятным, что в александрийцах была сколько-нибудь значительная часть туземной египетской крови. В Навкратисе брак между гражданином города и египтянкой был незаконным; видимо, так же дело обстояло в Александрии и Птолемаиде. И Полибий, и Филон говорят об александрийцах как о «людях смешанной крови» (migades), но, скорее всего, это значило, что граждане города были представителями различных греческих полисов – ионийцами, дорийцами, эолийцами, греками из Эллады и всех отдаленных городов Востока и Запада, а не то, что они имели примесь египетской крови[172].
Но даже не все греческое население Александрии входило в число граждан города. Более того, Шубарт считает, что граждане составляли лишь меньшинство греков, живших в Александрии. Множество людей, которые называли себя эллинами, говорили по-гречески и жили по греческим обычаям, но не имели привилегий гражданства – как метеки, жившие в Афинах и любом другом греческом городе, возможно, были не греками по крови, а отпрысками, например, браков между греками и египтянками, родившимися в Египте за пределами Александрии и затем поселившимися в городе. Вероятно, все греки как таковые обладали определенными привилегиями, в отличие от туземцев. Египтян, к примеру, можно было наказывать дубинками, но «александрийцев», по словам Филона[173], можно было бить только плоскими палками (spathai). В этом отношении евреи причислялись к той же категории, что и «александрийцы», и, по всей видимости, здесь под «александрийцами» мы должны понимать всех живших там греков, а не только граждан.
В каждом городе греческого типа граждане были организованы в небольшие общественные группы. В Афинах они делились на 10 фил и на 100–190 демов. Похожая организация по филам и демам существовала и у граждан Александрии, хотя, что любопытно, она, видимо, затрагивала не всех граждан. Существовало некое число людей, которые были «александрийцами», но не входили в демы. Члены демов составляли общественную аристократию Александрии; возможно, это в основном были потомки первых граждан начала III века до н. э. Однако браки между членами демов и греками или даже «персами», не являвшимися членами дема, по-видимому, были в порядке вещей.