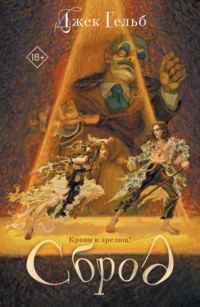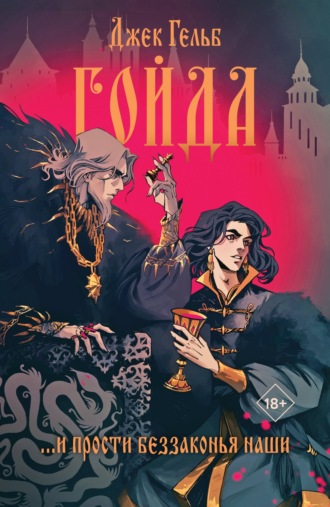
Полная версия
Гойда
Иоанн занял место во главе стола да с улыбкой обернулся на гостей своих. Музыка мерно лилась, приглушая и без того робкие шаги кравчих да прочих холопов, что прислуживали у стола. Княгиня Ефросинья заняла место подле государя, рядом с ней сел и сын её, который рыскал взглядом из стороны в сторону. Взгляд его, как у хорька, то перебегал с яств на роскошь царскую, то вновь обращался к государю, а с тем и обратно воротил на пиршество, что уготовано гостям было.
Опричники, что следовали за царём да гостями, остановились у входа и замерли безмолвною стражею.
Прочёл царь краткую молитву, склонив голову под незримой, но безмерной ношей своей, да осенил стол крестным знамением. То же совершили и княгиня, и сын её, и лишь с тем приступили к трапезе.
– Ты, Ваня, зря зачинил этих своих! – замотала головой Ефросинья.
Царь с того было усмехнулся, да в какой-то беспомощности замотал головою. Поднял взгляд он на спутника княгини.
– Ты гляди, братец, на бабу! – развёл руками Иоанн. – Ещё и куска в рот не положила, а уж всё брешет, мол, не разумею я в делах государственных!
– Да я ж лишь уберечь хочу державу, да и тебя, упрямец-то ты неисправимый! – точно оскорблённая, воскликнула Ефросинья. – Не друзья тебе свора эта, ой не друзья!
– Попридержи язык, – голос царя сменился, утратив насмешку свою, стал жёстким, – я каждому в братии готов доверить жизнь свою.
– От, слышал? – усмехнулась княгиня, воротясь к сыну своему. – Братия!
– Набрал заместо соли земли Русской злодеев да воров и ещё богохульничает! – Не успела Ефросинья и речи своей закончить, как резкий удар посоха об пол прервал её.
Умолкла, ибо при всей дерзости своей в обращении с государем имела она хитрость змеиную али лисью и грани переступать не смела, да завидев, как в ярости государь сжимает посох свой, не стала молвить боле. Принялась она за трапезу, будто и не было ничего. Царь хранил молчание, и взгляд его, тяжёлый и грозный, плавно опускался на старуху. Думы государя полнились замыслами, да оставались уста его сомкнутыми, хоть и проступала на них тихая да лукавая улыбка.
Как окончилась трапеза та, безмолвная и мрачная, так отдал Иоанн приказ жестом – вскинул руку в перстах царских. От того поднялся из полумрака средь музыкантов один из разодетых ряженых, да не играл, а лишь сидел, закинув ногу на ногу, и хоть лицо его было спрятано за маской расписной, видать, во внимании был слуга сей всё время. Волоча по полу длинные косы, что закреплены были на маске, ряженый слуга раскланялся перед княгиней и сыном её да спровадил их к выходу, ведя в покои, уготованные им по царскому приказу.
– Сучий же ублюдок… – сквозь зубы процедила старуха, ступая по расписным коридорам.
– Отчего же? – вопрошал сын её. – Видать, от всего сердца нынче принял нас.
– Много понимает пустая голова твоя! – Ефросинья всплеснула руками. – Али забыл уж об опале да изгнании?
– Так уж два года как миновало, доколе поминать будешь? – вздохнул Владимир, мотая головою.
– Ты глянь на него! – усмехнулась старуха, разводя руками да уперев их в боки.
Остановились они посреди коридора.
– Недалёк тот час, и снова по наветам псов его брехливых вновь сыщем мы опалу! – наставляла Ефросинья. – Вступаешься ты за братца своего, а он, думаешь, вступится? Как бы не так! Есть у него друзья! Свора эта богомерзкая! Гойда, гойда! От тебе и семейные узы! Попрал он любовь нашу, как в изгнание сослал нас! И вновь сошлёт, уж поверь старушке своей! Добра же лишь прошу для тебя, токмо добра!
– Не кончится добром, ежели грех на душу брать придётся! – воскликнул Владимир, как мать его тотчас же метнулась к нему да закрыла рот ладонью.
В ужасе огляделась по сторонам – никого, кроме скомороха бесполезного, не было подле них. Чуть отлегло от сердца, да Ефросинья всё точно начеку была, но при том отпустила сына да пригрозила пальцем.
– Не грех то будет, ежели воспрепятствуем мы премного согрешить братцу твоему, – тихо добавила княгиня.
– Негоже… ой негоже… – тихо бормотал себе под нос Владимир.
Мать его, видать, не слышала али не хотела слышать причитаний сына. Меж тем уж и дошли до покоев. Слуга раскланялся, и едва дверь за княгиней и сыном её затворилась, снял маску да убрал свои волосы чёрные с лица, запрокинул лицо вверх. Глубокий вздох сорвался с уст его, засиявших насмешливою улыбкой. Неспешным шагом стремился молодой опричник воротиться к государю. Шёл он, насвистывая, как заслышал тяжёлые шаги да звон кольчуги на лестнице, мимо которой проходил.
– Теодор? – раздался насмешливый голос немца, назвавший Басманова на свой латинский манер.
Федя усмехнулся и, завидев премного дивного любопытства в глазах друга своего, обернулся, давая Андрею разглядеть наряд причудливый. Чужеземец не сдержал восторга да присвистнул.
– И отчего же вырядился ты столь пёстро? – спросил Андрей, спускаясь по лестнице.
– Говоришь, будто не к лицу сей наряд мне, – усмехнулся Фёдор, прикрыв лицо маской.
Андрей уж вновь расплылся в улыбке да помотал головою.
– Да полно тебе! – со смехом произнёс немец. – На кой чёрт вырядился?
– По царскому велению, – с игривым смирением произнёс Фёдор. – Не в силах я перечить воле государевой.
– И ныне всей братии в бабском платье разгуливать? – усмехнулся Андрей. – Боюсь, не пойдут мне сарафаны.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.