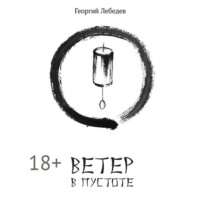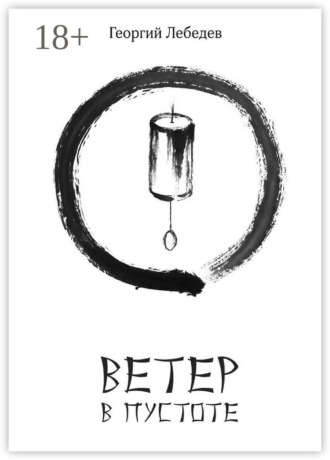
Полная версия
Ветер в пустоте
Ему хотелось поделиться своими находками, но поговорить было не с кем – в команде Мандельвакса такими вопросами никто не интересовался, а из подходящих для такого разговора друзей был только Леха, который уже снова улетел, на этот раз куда-то в Гималаи.
В итоге Сережа решил поговорить с Костей. Они были знакомы больше 10 лет и не раз помогали друг другу в разных житейских вопросах. Пятилетняя разница в возрасте и двое детей делали его для Сережи кем-то вроде старшего брата. Сережа никогда не чувствовал с Костей душевной близости, но ни с кем другим из своего круга делать бизнес он бы не стал. Костя был если не идеальным, то близким к этому партнером. Позитивный, честный, надежный, с обезоруживающей простотой и прямолинейностью, позволяющими быстро подбирать ключ к таким клиентам, с которыми Сережа бы сам точно не справился. Первый крупный клиент Мандельвакса – небольшой крытый рынок на окраине города – появился благодаря Косте. Его школьный товарищ работал в администрации и помог, что называется, правильно зайти к тем, кто принимал решение.
Костя был примерно одного роста с Сережей, но крупнее и плотнее. В школе и институте он серьезно занимался борьбой. Возможно именно это придавало ему увесистую солидность, полезную на переговорах.
Небольшая проблема, однако, была в том, что Костя считал себя «склонным к полноте» и потому даже самые искренние комплименты про свою солидность считал скрытыми уколами и намеками. У него был абонемент в зал, куда он ходил заниматься с некоторой регулярностью, но, несмотря на нагрузки, форма его тела заметно не менялась. Костя походил на крепкий чемодан. Не раздутый, но плотно набитый.
Когда он приходил в костюме, а он почти всегда носил на работе костюмы, он напоминал Сереже депутата. Быть «депутатом» Косте нравилось, так что этот неформальный ник скоро прижился. Он жил в коттеджном поселке за городом и приезжал на темно-синем Туареге с большим походным багажником на крыше. Раз в несколько месяцев он на 3—4 дня выбирался на охоту или рыбалку.
«Расскажу сначала депутату, – думал Сережа. – Он крепко на ногах стоит, послушаю, чего скажет.» Сережа не торопил события и терпеливо ждал подходящего момента для разговора, но у мироздания оказался другой план.
Был теплый летний день, и они с Костей сидели на открытой веранде Кофемании через дорогу от офиса. За день до этого Костя ходил на внутренний семинар Вайме, посвященный личной эффективности, и сейчас оживленно пересказывал Сереже тезисы, жестикулировал и даже показывал на телефоне слайды.
– Прикинь, для нашего мозга неважно, какую задачу мы решаем – увлеченно говорил Костя, – выбираем утром рубашку в шкафу, пишем код или структурируем сделку на десять миллионов. И в том, и в другом случае кора мозга активируется примерно одинаково. Увеличивается интенсивность кровотока, нагружаются капилляры, затрачивается энергия. Поэтому какая идея просится?
– Какая? – спросил Сережа без особого энтузиазма. Тема была ему интересна, но чутье подсказывало, что разговор идет не туда.
– Ну понятно же, – удивленно посмотрел на него Костя, – перевести все рутинные вопросы вроде выбора футболки в автоматический режим, чтобы сохранить ценные ресурсы мозга для важных дел.
– Хм. Похоже у вас был семинар «Как стать роботом», – мрачно сказал Сережа.
– Да ладно тебе. Мы и так все роботы, причем бестолковые, а семинар был про то, как стать классным роботом. Чего ты упираешься-то? Это ж вроде очевидно, нет?
– Не уверен, – Сережа немного замялся, но решил все-таки продолжить. – Я последний месяц занимаюсь обратным процессом – избавляюсь от автоматизмов, чтобы яснее видеть каждый момент и делать осознанный выбор. Я понимаю, что автоматизмы могут помогать, когда ты за рулем по телефону болтаешь или на доске по пухляку валишь, но я тут про другое.
Сережа чуть помолчал и продолжил:
– Вот, помню, в школе один козел был, мы с ним дрались постоянно. И была у него куртка кожаная. Так вот я, оказывается, до недавнего времени автоматически напрягался, встречая людей в кожаных куртках. И сам того не осознавал даже. Ты тут вообще?
Сережа пропустил момент, когда Костя нырнул в телефон, видимо, в поисках очередного слайда, и потому с опозданием понял, что говорил в пустоту. Вскоре Костя вынырнул.
– Прости, я отвлекся, – сказал он и снова уткнулся в телефон. – По-моему, с куртками – это вообще больше про психологию какую-то. А про автоматизмы – я правильно услышал, что ты убираешь их?
– Правильно.
– А зачем? Я же только что объяснял, что они помогают. Если я про каждое действие думать буду и заново решение принимать, что с моей эффективностью станет? Я же буду тормозить как интернет на даче, – Костя засмеялся и заторможенно поднес стакан с водой ко рту. – Я, наоборот хочу побольше полезных действий в автоматический режим перевести. В этом самый жир и есть. Что тут плохого?
Сережа задумался. Почему-то такой вопрос у него даже не возникал, и это было странно. Ему нравилось находить и схлопывать автоматические цепочки, это казалось важным.
– А что хорошего в том, чтобы выбирать футболку на автомате? Это как фильм «Клик» – там у чувака был пульт, чтобы перематывать все скучные моменты в жизни. Помнишь, чем закончилось?
Костя покачал головой, давая понять, что не помнит и совсем об этом не грустит.
– Тем, что лучше жить без такого пульта. Потому что если ты жизнь перематываешь, то ты ее и не живешь, тебя здесь в этот момент нет, понимаешь? А это как-то странно, мне кажется. Ты хочешь быть тут?
– Тут или не тут? – Костя сделал драматическое лицо. – Серег, чего ты тут, – он выделил это слово, – философствуешь, усложняешь? Я тебе говорю про классическую многозадачность, ничего странного в ней, прозрачная логика, причем банальная. А про кино я даже комментировать не хочу, ты еще на мультфильм сошлись в качестве примера.
Костины аргументы вводили его в странный ступор. В нем была часть, которая с ними соглашалась, но была и другая, которая чувствовала за ними ловушку. Проблема была в том, что эта вторая часть не могла себя адекватно выразить, буксовала, и от этого возникало общее оцепенение.
– Костяныч, мы о разном, – Сережа решил сделать последний заход. – Я пока не знаю, как это объяснять правильно. Просто поверь – когда ты обнаруживаешь у себя автоматизмы, которые ты даже не осознаешь, у тебя не будет идеи, что это круто. Ты захочешь их убрать.
– Пример давай, – сказал Костя, намазывая еще горячий хлеб маслом.
Сережа понял, что рассказывать про шипящих змей в банке не стоит. Но совсем сворачивать разговор не хотелось. Нужен был какой-то реальный пример из его недавних находок.
– Ты трусы носишь? – спросил он.
– Чего? – Костя отложил хлеб и посмотрел на него.
– Трусы, спрашиваю, носишь?
– Ношу. А что?
– Каждый день носишь?
– Ну каждый, да. А ты чего – по праздникам только? Ты куда клонишь-то?
– Попробуй завтра их не надевать. Или прямо сейчас иди сними и остаток дня так походи.
Несколько мгновений Костя молча сверлил друга взглядом, пытаясь понять, серьезно тот говорит или шутит. Сережа его взгляд выдержал.
– Да нафига это надо, объясни толком?
– Ты попробуй, сам все поймешь, и потом посмеемся вместе.
– Да иди ты, – Костя скомкал салфетку и бросил ее в тарелку с остатками супа. Чувствовалось, что он разозлился. – Скажи мне лучше, когда вы доделаете интеграцию с новыми сканерами. Уже на две недели сроки поехали. В чем загвоздка – трусы мешают?
Разговор провалился, и Сережа пожалел, что нельзя откатить все назад, как выкаченную по ошибке в production проблемную версию сервиса. Он переживал, что Костя не понимает его, и злился на себя, что не может подобрать правильных слов.
Конечно, он знал, что они с Костей из разного теста, но прежде это им помогало. Сопоставляя свое видение по развитию бизнеса, они приходили к новому общему знаменателю, который помогал. А сейчас он впервые отчетливо почувствовал, как их разница может стать причиной больших перемен. Ему точно не хотелось ссориться с Костей, да и никаких рациональных причин для этого не было, но от Костиных слов и тона все внутри него вставало на дыбы, так что хотелось защищаться и нападать. Это было странно и неадекватно, раньше с ним такого не бывало.
Остаток обеда прошел в молчании. Костя сидел в телефоне, а Сережа разглядывал, как солнечный луч преломляется в бокале с минералкой. Он вспоминал, как в детстве, обижаясь на кого-то, говорил «я тобой не разговариваю».
«На самом деле, – думал он, – в такие моменты с этим человеком продолжается очень активный диалог. Но только про себя».
Он решил не затрагивать с Костей подобных тем, пока у него самого не возникнет больше ясности. И хотя уже вечером того же дня они нормально и даже весело обсуждали рабочие дела, неприятный осадок остался.
Чтобы «заесть» разговор, Сережа написал вечером Михаилу. С момента его отъезда в Австралию они иногда перекидывались короткими сообщениями – Сережа делился своими находками, а Михаил его подбадривал. Потом он написал, что уезжает на 10 дней в центр континента, где доступ в интернет будет редкий. Сережа надеялся, что это правда, а не завуалированный способ от него отвязаться, но все равно ждал ответа с некоторым волнением.
Михаил ответил через час и предложил созвониться на следующий день.
Там, где нас нет
Сережа вышел на утреннюю пробежку, когда до звонка с Михаилом оставалось меньше часа. Выходя из подъезда, он обратил внимание на свинцовую тучу, наплывающую с севера, но решил, что успеет. Такие же тучи ходили над центром весь день накануне, и ни одна из них не пролилась. Однако эта, как вскоре выяснилось, не шутила.
Пока Сережа бежал свой стандартный пятикилометровый «круг» по окрестным переулкам, туча, не теряя времени, расползлась по небу, отчего, казалось, наступили сумерки.
«Ничего, успею», – подбадривал себя Сережа, прибавляя скорость и пряча телефон поглубже в карман. Но туча была быстрее. Когда до дома оставалось уже рукой подать, в небе несколько раз свернули длинные зигзаги, а затем громыхнуло так, что у нескольких стоящих машин сработали сигнализации. Какие-то невидимые глазу небесные трубы с оглушительном треском лопнули, и началась московская июньская гроза – резкая и беспощадная.
Можно было, конечно, спрятаться в арку или подъезд, такие грозы редко бывали долгими, но тогда возникал риск опоздать на звонок с Михаилом.
Примерно с минуту Сережа пытался бежать, прячась за ветви редких деревьев над тротуаром, но потом бросил это бесполезное занятие.
Вода лилась не струями, как в душе, а низвергалась бурным ливневым потоком, так что Сереже казалось, будто над ним висит опрокинутая бочка, причем она двигается с такой же скоростью, как и он.
Этот странный образ его так развеселил, что он сначала засмеялся, потом сбавил ход, а затем и вовсе перешел на шаг, чувствуя, как вода попадает в глаза, стекает по спине, заливается в трусы и хлюпает в кроссовках.
Такое прекращение сопротивления вдруг принесло с собой странную легкость и радость. Это было так приятно, что он сошел с тротуара и пошел прямо по центру проезжей части. В арках домов и под козырьками подъездов ему встречались люди, которые, глядя на него, начинали улыбаться, и он тоже улыбался им в ответ и махал рукой.
Уже подходя к дому, он заметил впереди соседа-художника. Тот стоял под зонтом около подъезда, смотрел на Сережу и тоже улыбался.
– Красиво идете, маэстро, – сказал художник. – Или стоит сказать «Сережа-сан», – художник чуть поклонился.
– Доброе утро, – улыбнулся Сережа. – Почему сан? Я похож на японца?
– В Бусидо сказано: «Попав под дождь, ты можешь извлечь из этого полезный урок.» И ты его явно извлек.
Художник говорил вполне весело и дружелюбно, но Сережа не знал, что такое бусидо, и ему показалось, как будто его проверяют.
– Это что-то японское?
– Самурайский кодекс, – ответил художник, пропуская его в подъезд.
Сережа надеялся, что он расскажет дальше, но художник молчал, а спрашивать, подтверждая свое незнание, Сережа не хотел.
Узкая кабина лифта, установленная в дом значительно позже его изначальной постройки, спускалась медленно и шумно. Сережа слушал, как она грохочет, задевая какие-то стыки на этажах, и отмечал свою неловкость от того, что они с художником стоят и молчат. Он даже хотел пойти по лестнице, но подумал, что это будет странно. Внутри кабины ему настолько сильно захотелось нарушить тишину, что он как-то неопределенно цикнул и кивнул на свежий рекламный плакат на стене лифта. Там виднелось бирюзовое море, солнечный пляж, пальмы и небольшая яхта недалеко от берега. На переднем плане этого курортного клише большая черная обезьяна в шортах и солнечных очках сидела в шезлонге, держа в лапе коктейль с соломинкой. Сверху был лозунг: «Отдых, который вы заслужили».
– Хорошо там, где нас нет, – сказал Сережа. Он предполагал, что они обменяются каким-то стандартными фразами и разойдутся, но его реплика неуклюже повисла в тишине. Сережа внутренне поморщился. «Зачем я эту ерунду ляпнул? – с досадой подумал он. – Ведь уже доехали почти».
Художник внимательно посмотрел на него. Он носил круглые очки с дымчатым затемнением, так что его глаз Сережа не видел.
– «Нас нет»? – медленно переспросил Художник. – А ты знаешь, о чем это?
Двери открылись, и путь был свободен, но теперь от разговора было уже не отвертеться.
– А тут разве какой-то хитрый смысл есть? – спросил Сережа. – Где бы мы ни были, и как бы хорошо себя не ощущали, всегда есть места, куда нам хотелось бы попасть, потому что там лучше, чем там, где мы сейчас.
– С этим все ясно, – ответил художник. – Но почему так получается, и может ли быть иначе? Что такое «нас нет»? Вот что интересно. Доводилось ли тебе бывать там?
Вопрос показался Сереже какой-то казуистикой.
– Как мы можем быть там, где нас нет, если нас там нет? – спросил он с небольшим раздражением.
– Вот в этом и вопрос, – засмеялся художник и весело ему козырнул. – Будь здоров, сосед.
Зайдя домой, Сережа сразу прыгнул в горячий душ, где еще пару минут прокручивал в голове этот странный диалог, пытаясь понять, что художник имел в виду, а затем его мысли направились к предстоящему созвону.
Вопрос-ответ
Надев сухую футболку и толстовку, он насыпал в миску мюсли, залил их черничным йогуртом и устроился в кресле за большим монитором.
Михаил вышел на связь ровно в назначенное время, в Аделаиде было три часа. Одетый в бежевую льняную рубашку он сидел за деревянной барной стойкой. Стена позади него была стеклянная, и за ней виднелась зеленая лужайка, а еще дальше – длинная полоса белого песка, на которую непрерывно набегали зеленоватые океанские волны. Михаил выглядел усталым, и Сереже показалось, что он похудел, а черты его лица заострились.
Они помахали друг другу.
– Привет. Здорово там у вас, – сказал Сережа.
– Здравствуй. Да, как и положено «виртуальному фону».
– А почему виртуальный? Выглядит вполне реально.
– Потому что времени на эти радости нет, очень плотный график тут.
– Много обновлений ставите аборигенам?
– Ты удивишься, но у этих аборигенов системы в чем-то посвежее наших. Так что себе тоже патчи приходится ставить, – улыбнулся Михаил. – Ну, расскажи, как твои дела. А то ведь мы и не виделись с Москвы. Ты писал, что необычный сон был. Помнишь его сейчас?
– Да, был. Честно говоря, он растаял через пару недель. Жаль, я не сообразил записать его сразу.
– Ничего. Может еще что-нибудь приснится, – засмеялся Михаил. – Давай тогда про медитацию. Я так понял, у тебя есть вопросы. Спрашивай.
– А вы не смотрели? Я их вчера присылал.
– Смотрел, – улыбнулся Михаил. – Но я хочу послушать, как их задаешь.
– Что значит «как задаю»? Как написано, так и задаю. Мне их прочитать что ли?
– Нет, читать не надо, – Михаил протянул руку куда-то за кадр и поставил перед собой квадратную тарелку с виноградом. Оторвав несколько ягод, он как бы взвесил их на ладони и положил в рот.
– Скажи, ты когда-нибудь задавался вопросом – что значит думать?
– Думать? – переспросил Сережа, слегка приподняв бровь. Он только приготовился задавать вопросы, как разговор неожиданно сменил направление.
– Что прямо сейчас происходит в твоем уме?
– Я пытаюсь понять, что означает ваш вопрос и что вы хотите услышать.
– А как ты это делаешь?
– Ммм… Не знаю. Просто смотрю.
– Не «просто». С чего начинается это «смотрение»?
– Нууу… Сережа закатил глаза вверх и в сторону. – Я как бы спрашиваю себя…
– Вот, – Михаил поднял указательный палец вверх.
– Что?
– Совершенно верно – ты спрашиваешь себя. Думать – значит задавать вопросы. Любое твое думание всегда начинается с вопроса. Он задает направление, в соответствие с которым приходят и выстраиваются мысли. Поэтому формулировка вопроса очень важна.
– Хм.
– Кроме того, возможно, ты уже заметил в своих сессиях, а если нет, то я немного забегу вперед: мы, как живые системы, постоянно меняемся. Этот процесс очень медленный, но непрерывный. Поэтому тот Сережа, который сейчас со мной говорит, – это не совсем тот Сережа, который писал эти вопросы. Хотя они и похожи на первый взгляд. Потому я предлагаю тебе внимательно сформулировать вопрос, актуальный именно сейчас.
– Понял-понял, – кивнул Сережа. – Основной вопрос такой – как различить наблюдение за дыханием от управления дыханием? Похоже, что пытаясь наблюдать, я часто контролирую дыхание, отчего оно делается неестественным.
– Сколько ты сидишь?
– 20—25 минут.
– Сколько циклов тебе удается пронаблюдать без отвлечения?
– От 60 до 100.
– Ясно. Ты молодец.
– Это много, да?
– Не в этом дело. Ты молодец, что задал вопрос. Похоже, ты и правда обуславливаешь дыхание.
– Как вы поняли?
– Когда ты действительно наблюдаешь дыхание, то уже через 10—15 циклов твое восприятие начнет ощутимо меняться.
– Как было у вас в кабинете?
– Не так интенсивно, но отчетливо. У тебя бывало что-нибудь такое?
– Не было. Мне, в принципе, и без спецэффектов нормально сидится, но хотелось бы все-таки научиться отпускать контроль. У меня, похоже, иногда получается, но совсем коротко.
– Наверняка получается. Иначе бы этот вопрос не возник, ты бы просто не заметил разницы. Я предложу тебе один трюк, который часто помогает в этом месте.
– Здорово, – обрадовался Сережа. – Что нужно делать?
– Перестать дышать. Ненадолго.
Михаил пояснил, что следует ненадолго задержать дыхание, и когда возникнет желание вдохнуть, то следовало позволить телу сделать вдох. Не делать самому этот вдох, а просто убрать «заслонку», которая включает/выключает дыхание.
Трюк позволял более явно прочувствовать разницу между естественным вдохом, который тело выполняет само, и обусловленным. Михаил сказал, что с этим вопросом встречаются все начинающие медитаторы, потому что наблюдатель по умолчанию сцеплен с контролером.
Длина задержки не имела значения. Если не делать предварительных больших вдохов, то 7—10 секунд было уже достаточно, чтобы тело захотело вдохнуть.
Михаил также предупредил, что стоит обратить внимание на лицо, губы и живот – они имеют тенденцию напрягаться во время задержки.
– Будь готов, что, скорее всего, через 1—2 цикла естественность уйдет, и ты снова начнешь контролировать вдохи и выдохи, так что нужно будет повторить трюк заново, «отклеивая» наблюдателя от дыхания и помещая его на некоторую дистанцию.
– Я понимаю о чем вы, – радостно кивнул Сережа. – И мы тут как раз подходим ко второму вопросу. Хотя это даже не вполне вопрос, а наблюдение. Или состояние. Короче, не знаю. В общем, я ощущаю, будто мое тело – это большой скафандр, а я сижу где-то в кабине, где показывается состояние скафандра, мысли и эмоции.
– Очень точно подмечено, – похвалил Михаил. – Поздравляю. Это еще один шаг.
– А что он означает?
Михаил слез со стула и на несколько мгновений исчез из кадра. Когда он вернулся, в его руках был высокий узкий стакан с желтым соком. Он взял стакан в руку, посмотрел на него, а затем сделал неторопливый глоток, поставил стакан на стол и повернул голову в камеру. Все действия были совершенно обычные, но в них было что-то странное.
– Видишь? – спросил Михаил.
– Вижу, но не понимаю.
Михаил протянул руку и взял виноградину. Посмотрел на нее и положил в рот.
– Вы как-то особенно плавно двигаетесь. Как мастер ушу.
Глядя на движения Михаила, Сережа вдруг почувствовал знакомое ощущение скафандра. Похоже, что движения Михаила были триггером. Или, вернее, наблюдение за этими движениями.
– Почувствовал свой скафандр? – улыбнулся Михаил. – Оно?
– Да. Классно. Так что это?
– Мы воспринимаем этот мир не напрямую, а опосредованно. Сигналы со всех каналов восприятия поступают в мозг, где из этой информации создается то, что мы называем реальностью.
Я говорю, что я вижу стакан, но на деле световые волны улавливаются глазами моего скафандра, передаются в мозг вместе с потоком данных от других сенсоров. Далее все эта информация сопоставляется с базой прошлого опыта и выносится заключение, что перед мной сосуд для жидкости, который обозначается в моем языке набором звуков, звучащих как «стакан».
– Прямо как в «матрице», – засмеялся Сережа и поднял длинную десертную ложку, которой ел мюсли. – «Ложки нет».
– Ложка есть. Но как ложка она существует лишь в уме того, кто на нее смотрит. А вне этого ума есть только колебания или вибрации.
– Занятно, – Сережа задумчиво постучал ложкой по ладони. – Вы хотите сказать, что мы видим не саму жизнь, а кино про жизнь – так получается? Или даже мы видим кино про то, как мы видим, да?
Михаил кивнул.
– Причем это кино у каждого свое. Один и тот же входящий сигнал, будь то свет, звук, вкус, запах, прикосновение, образ или новость, раскрывается веером трактовок в умах тех, кто его уловил. Например, у нас тобой разная Москва и разный Вайме.
– Потому что мы по-разному интерпретируем одни и те же сигналы?
– Да. И кроме того, наше внимание изначально движется по разным траекториям, выбирая из одного массива данных разные фрагменты и по-разному размечая фигуру и фон.
– Не понял. Это как?
– Знаешь такие рисунки, где из образующих их линий складываются другие вложенные картинки. Один из известных примеров – профиль старушки и молодая девушка, смотрящая вдаль. Как правило, человек видит только один из них, в соответствие со своей текущей операционной системой, и если ему не говорить про второй, то он его не заметит. И даже если сказать, то ему потребуется некоторое время, иногда значительное, чтобы его увидеть.
Вокруг любой, даже самой, казалось бы, безобидной вещи, будет раскрываться такой же веер трактовок в смотрящих умах.
Возьми, например, какой-нибудь новый московский парк. Один будет радоваться и постить фоточки, другой заявит, что прежний парк на этом месте был душевнее, третий рассудит, что парк, конечно, неплохой, но по уму надо было бы сделать иначе, четвертый будет кричать, что парк построен на грязные деньги, пятый возразит, что деньги очень даже чистые, но собраны они были для строительства школ и больниц, а не для того, чтобы зарывать в землю миллионы в виде цветов, седьмой грустно поведает, что хотел поставить там палатку с газировкой и мороженым, но оказалось, что «не своим» предпринимателям туда не войти и так далее, этот список бесконечен.
– Но ведь может быть, что человек видит несколько перспектив? Например, когда я работал по найму, я радовался праздникам, а когда появился свой бизнес, то праздники иногда становились источниками проблем.
– Верно. Значительная часть человеческих конфликтов, как внутренних так и внешних, решается заменой союза «или» на «и».
Помнишь, мы с тобой в прошлый раз говорили о внутреннем взрослении? Если оно продолжается, то человеку становится доступно все больше точек зрения. Ты начинаешь видеть, что всему есть свое место, и от этого твой внутренний мир становится шире. А чем шире внутренний мир, тем меньше внутренней войны. Поэтому каждая дополнительная перспектива продвигает тебя к свободе.
– Хм. Но я бы не сказал, что свой бизнес добавил мне свободы по сравнению с наймом, – скептически заметил Сережа.
– Я бы такого тоже не сказал, – усмехнулся Михаил. – Я говорю, что переход из найма в свой бизнес расширяет картину мира. Он помогает критически пересмотреть старые распорядки и отбросить какую-то их часть, создав при необходимости новые. Узнать на собственном опыте разницу в достижении чужих целей и своих. И кроме того, шире увидеть некоторые социальные механизмы, о которых до этого обычно не задумывался, – зарплаты, налоги, страховки, праздники и тому подобное. Ты оказываешься по другую сторону этих процессов, отчего твоя картинка мироустройства становится полнее, а это всегда полезно. Но физической свободы, как ты верно заметил, больше обычно не становится, скорее даже наоборот.