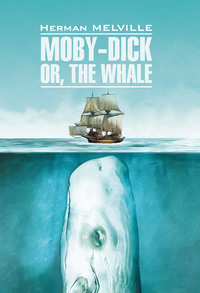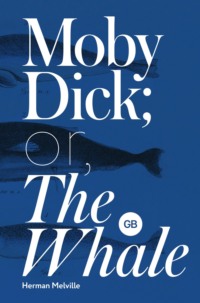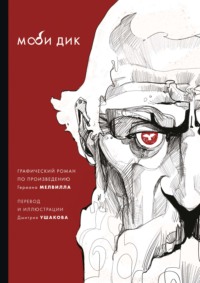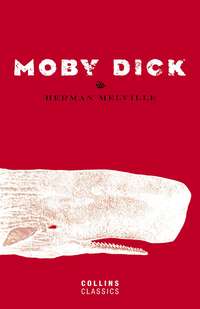Полная версия
Обманщик и его маскарад
– Сэр, я… я…
– Можете мне доверять. Возможно, мой юный друг, вы находите в Таците, – как и во мне, – одну лишь меланхолию, но я скажу больше: он безобразен. Существует огромная разница между меланхолическим настроением и безобразием. Первое может показывать вам, что мир все равно прекрасен, но никак не второе. Первое можно совместить с благожелательностью, но второе – никогда. Одно углубляет наше представление о сущем, другое делает его более грубым и мелочным. Откажитесь от Тацита. С френологической точки зрения, мой юный друг, у вас хорошо развитый, пропорциональный и крупный череп, но наполненный отвратительными воззрениями Тацита, ваш обширный мозг, подобно мощному быку на скудной лужайке, будет мучиться от голода.
– Право же, сэр, я…
– Понимаю, понимаю. Разумеется, вы читаете Тацита ради лучшего понимания человеческой натуры… как если бы истину можно было постигнуть с помощью клеветы. Мой юный друг, если ваша цель состоит в познании человеческой натуры, выбросьте Тацита и отправляйтесь на север, к кладбищам Оберн и Гринвуд.[30]
– Честное слово, я… я…
– Не стоит: я предвижу, что вы можете сказать. Но вы носите с собой Тацита… этого презренного Тацита. Хотите посмотреть, что я ношу с собой. Видите? – он достал томик из кармана. – Эйкенсайд, его «Услады воображения».[31] Однажды вы познакомитесь с этими стихами. Какой бы нам ни выпал жребий, мы должны читать безмятежные и вдохновенные книги, внушающие любовь и доверии. Но Тацит! У меня уже давно сложилось мнение, что эти классики являются проклятием для студентов, – не говоря о безнравственности Овидия, Горация, Анакреона, опасной теологии Эсхила и всех остальных, – где читатель находит мнения, оскорбительные для человеческой натуры, как у Фукидида, Лукиана, Ювенала, но особенно у Тацита. Когда я думаю о том, что с начала просвещенного века эти классики были любимцами многих поколений студентов и пытливых людей, то с содроганием думаю о том, какая масса неожиданных и непредвиденных еретических взглядов накопилась за столетия в самом сердце христианства. Но Тацит… это самый выдающийся пример еретика; ему нельзя доверять ни на йоту. Что за насмешка, когда подобных авторов считают мудрецами и ценят труды Фукидида как руководство по государственному управлению! Но особенно я ненавижу Тацита; надеюсь, не греховной, а праведной ненавистью. Не доверяя себе, Тацит разрушает доверие у своих читателей.[32] Разрушает доверие, отеческое доверие, которое, – Бог тому свидетель, – и без того редко встречается в нашем мире. Дорогой мой юный друг, вы еще сравнительно неопытны, но приходилось ли вам замечать, как мало, ничтожно мало доверия существует вокруг? Я имею в виду доверие между людьми, а конкретнее – между незнакомыми людьми. Это самый прискорбный факт в нашей юдоли скорбей. Доверие! Иногда мне кажется, что оно скрылось от нас, что доверие – это новая Астрея,[33] – оно ушло, вознеслось на небо, исчезло!
Он с приятнейшей улыбкой подступил ближе, встрепенулся и посмотрел на собеседника.
– Принимая во внимание эти обстоятельства, не могли бы вы, мой дорогой сэр, – хотя бы ради эксперимента, – просто довериться мне?
Как уже было сказано, студент с самого начала боролся со все возраставшим смущением и замешательством, возникшим из-за странных слов незнакомца, чьи тирады были многоречивыми и настойчивыми. Он не раз пытался разорвать эти чары примирительными или прощальными комментариями, но все было тщетно. Незнакомец каким-то образом завораживал его. Не удивительно, что когда прозвучал последний призыв, он почти лишился дара речи, но, будучи застенчивым человеком, резко повернулся и ушел, оставив раздосадованного незнакомца, который побрел в другую сторону.
Глава 6. В начале которой определенные пассажиры оказываются глухи к зову милосердия
– Тьфу на вас! Почему капитан должен страдать от этих попрошаек на борту?
Эти обидные слова принадлежали ухоженному краснощекому джентльмену с тростью, в набалдашнике которой блестел рубин, и были обращены к человеку в сером костюме с белым галстуком, который, вскоре после вышеописанной беседы, обратился к нему с просьбой о пожертвовании в пользу «Приюта для вдов и сирот», недавно основанного для семинолов.[34] На первый взгляд этот мужчина, как и человек с траурным крепом, был одним из более или менее благородных неудачников, но при более пристальном рассмотрении его лицо выражало не меланхолию, а скорее осознание священного долга.
Добавив еще несколько обидных и неприязненных выражений, состоятельный джентльмен поспешил прочь. Но, даже грубо отвергнутый, человек в сером костюме не стал попрекать его или сетовать на судьбу, и терпеливо оставался в одиночестве, а его лицо постепенно приобрело выражение спокойной, непреклонной уверенности.
Спустя некоторое время к нему приблизился пожилой, довольно тучный джентльмен, тоже получивший предложение внести вклад в пользу вдов и бездомных. Он встал, как вкопанный, и грозно нахмурился.
– Послушайте, вы, – проскрежетал он выставив пузо перед собой, как болтающийся мешок с песком. – Послушайте, вы просите деньги от имени других людей, а лицо у вас длиной с мою руку до локтя! Вот что я вам скажу: существует такая вещь, как серьезность, и у осужденных преступников она бывает неподдельной. Но также существует три вида вытянутых лиц; из-за горестного бремени, из-за худобы и впалых щек, и наконец, лицо мошенника. Вам лучше знать, какое из них ваше.
– Пусть небо дарует вам больше милосердия, сэр.
– А вам пусть оно дарует поменьше лицемерия, сэр.
С этими словами жестокосердный пожилой джентльмен удалился.
Пока человек в сером костюме задумчиво стоял в одиночестве, ранее упомянутый молодой священник, проходивший мимо, окинул его взглядом и остановился, словно вдруг что-то вспомнил, а секунду спустя поспешил к нему.
– Прошу прощения, но с недавних пор я повсюду ищу вас.
– Меня? – это прозвучало так изумленно, что было ясно, сколь малое значение он придавал своей особе.
– Да, именно вас. Вам что-нибудь известно о негре, воде бы злосчастном калеке, который находится на борту? Он тот, за кого себя выдает, или же нет?
– Ах, бедный Гинея! Вы тоже с недоверием отнеслись к нему? Вы, чей сан взывает к человеческому милосердию?
– Значит, вы действительно знаете его, и он достойный человек? Рад слышать, это большое облегчение для меня. Давайте найдем его и посмотрим, что можно сделать.
– Вот еще один пример того, как доверие может оказаться запоздалым. Я сам помог ему высадиться на берег во время последней стоянки, когда увидел его на сходнях. Только помог; у нас не было времени на разговор. Возможно, он не сказал вам, но у него где-то здесь есть родной брат.
– Мне действительно жаль, что я не смог еще раз встретиться с ним, – возможно, даже больше, чем вы можете подумать. Видите ли, вскоре после отплытия из Сент-Луиса он появился на полубаке, где собралась изрядная толпа. Там я увидел его и поверил ему, – причем настолько, что ради убеждения неверующих я откликнулся на его мольбы и отправился искать вас, так как вы находились в перечне имен, которые он назвал и снабдил более или менее внятным описанием. По его словам, эти люди могли поручиться за него. Но после усердных поисков, когда я так и не обнаружил вас и других перечисленных им людей, возникло определенное сомнение. Это сомнение также было подкреплено недоверием, в резкой форме высказанном другим человеком. Полагаю, это было естественно.
– Ха-ха-ха!
Этот смех был больше похож на стон, однако издавший его все же намеревался рассмеяться.
Оба собеседника обернулись, и молодой священник увидел человека с деревянной ногой, мрачно насупленного, словно судья по уголовным делам с горчичным пластырем на спине. В данном случае, горчичник был воспоминанием о недавних хлестких отповедях и пережитом унижении.
– Думаете, я смеялся над вами?
– Тогда над кем же вы смеялись, – или, вернее, пытались смеяться? – требовательно спросил молодой священник, раскрасневшийся от гнева. – Надо мной?
– Ни над вами и ни над кем за тысячу миль вокруг вас. Но наверное, вы этому не поверите.
– Если бы он страдал подозрительностью, то мог бы не поверить, – спокойно вмешался человек в сером костюме. – Один из скудоумных недостатков подозрительного человека состоит в том, что в улыбках или жестах каждого незнакомца он видит нечто оскорбительное для себя, как будто ему показывают голую задницу. В том же ключе, когда подозрительный человек идет по улице, то движение проходящих мимо людей он воспринимает как издевательскую пантомиму и насмешку над ним. Иными словами, подозрительный человек ставит себе подножки на каждом шагу.
– Тот, кто так поступает, в девяти случаях из десяти экономит кожу на подошвах ботинок у других людей, – сказал человек с деревянной ногой, попытавшийся неуклюже пошутить. Но потом он живо повернулся к молодому священнику и снова усмехнулся. – Сейчас вы все еще думаете, будто я смеялся над вами. Я докажу, что вы ошибаетесь, и расскажу, над чем я на самом деле смеялся, – эта история как раз пришла мне на ум.
После этого вступления, он в своем ершистом тоне и с язвительными подробностями, неприятными для повторения, рассказал историю, которая в более доброжелательном варианте могла бы выглядеть следующим образом:
Некий француз из Нью-Орлеана, пожилой человек с более скудным кошельком, нежели со слабыми конечностями, однажды утром посетил театр и был так очарован героиней в образе верной жены, что был готов на все ради того, чтобы жениться на этой девушке. В итоге он женился на прекрасной девице из Теннесси, которая сначала привлекла его внимание широтой своих взглядов, а впоследствии была рекомендована ему через ее родственников из-за ее не менее обширного образования и прогрессивных нравов. Однако щедрые похвалы во многом оказались необоснованными, и вскоре разнеслись слухи, что эта дама слишком уж либеральна. Многочисленные свидетельства, которые бывшие убежденные холостяки сочли бы более чем убедительны, в должные сроки поступали к пожилому французу через его друзей, но его доверие было таким прочным, что он ни на что не обращал внимания до тех пор, пока вернувшись домой однажды ночью после долгой поездки не увидел незнакомца, выпрыгнувшего из его постели. «Ах ты, попрошайка! – вскричал он. – Теперь я кое-что заподозрил!»
Поведав свою историю, человек с деревянной ногой запрокинул голову и издал хриплые, пронзительные звуки, нестерпимые на слух, как струя перегретого пара из паровозного гудка. Удовлетворившись этим, он враскачку зашагал прочь.
– Кто этот зубоскал, – участливо произнес человек в сером, – кто этот насмешник, который даже с правдивыми словами говорит так, что делает правду не менее оскорбительной, чем ложь?[35] Кто он такой?
– Я упоминал о нем как о человеке, кичившемся своим недоверием к негру, – ответил молодой священник, когда пришел в себя. – Короче говоря, это тот самый человек, которому я приписываю причину собственного недоверия. Он утверждал, что Гинея, – это какой-то белый мошенник, выкрашенный под негра. Да, это его собственные слова.
– Невероятно! Он не мог так заблуждаться. Пожалуйста, вы не могли бы вернуть его, чтобы я спросил, правда ли он так думает?
Священник послушался, и, после нескольких кислых возражений, все-таки заставил одноногого мужчину хотя бы ненадолго вернуться. Тогда человек в сером костюме обратился к нему со следующими словами:
– Сэр, этот достопочтенный джентльмен рассказал мне, что вы сочли некоего калеку, бедного негра, хитроумным мошенником. Разумеется, мне известно, что в мире есть люди, которые, за неимением лучших доказательств своего глубокомыслия, находят странное удовольствие в демонстрации злостной подозрительности к ближним, исходя из своих представлений о человеческой природе. Надеюсь, что вы не принадлежите к их числу. Короче говоря, я прошу вас сказать, были ли ваши обвинения в адрес негра высказаны в шутку, а не всерьез. Не будете ли вы так добры объяснить?
– Нет, я не буду так добр. Я буду зол.
– Как пожелаете.
– Так вот: он именно тот, кем я его назвал.
– Белый человек, замаскировавшийся под негра?
– Совершенно верно.
Человек в сером посмотрел на молодого священника и тихо шепнул:
– Думаю, вы представляете этого вашего знакомого очень недоверчивым человеком, но мне кажется, он наделен необыкновенной доверчивостью, – он повернулся к человеку на деревяшке. – Скажите, сэр, вы в самом деле думаете, что белый человек может так ловко изображать негра? Я бы назвал это блестящим актерским талантом.
– Все люди кем-то прикидываются; это ненамного сложнее.
– Вот как? Весь мир притворяется? И я, например, тоже актерствую? Можно ли назвать актером нашего преподобного друга?
– Да. Разве вы оба не выполняете действия? Действие – это акт, поэтому все деятели являются актерами.[36]
– Вы играете словами. Я снова спрашиваю: каким образом белый человек может быть так похож на негра?
– Полагаю, вы никогда не видели темнокожих священников?
– Видел, но они склонны преувеличивать свою черноту и тем дают наглядный пример пословицы «не так уж черен дьявол, как его малюют». Однако же, если тот обманщик не был калекой, то как же ему удавалось выворачивать и подгибать свои конечности?
– А как другие лицемерные попрошайки поступают со своими конечностями? Достаточно легко увидеть, как они подсажены или подвязаны.
– Значит, это очевидное надувательство?
– Для проницательного взора, – последовал ответ, сопровождаемый жутковатой ухмылкой.
– Итак, где же Гинея? – спросил человек в сером. – Где он. Давайте снова найдем его и безоговорочно опровергнем эту клеветническую гипотезу.
– Сделайте это! – воскликнул одноглазый мужчина. – Я бы и сам не прочь найти его и соскрести пальцами краску с его щек, как лев, оставляющий на кафирском охотнике следы своих когтей. Раньше мне не позволяли прикоснуться к нему. Да, отыщите его, и тогда я оставлю от него только пух и перья.
– Вы забыли о том, что сами помогли бедному негру высадиться на берег, – обратился молодой священник к человеку в сером.
– Да, я забыл; вот незадача! Но послушайте, – обратился он к другому собеседнику. – Думаю, что я и без персональных доказательств смогу убедить вас в ошибке. Подумайте, разумно ли предполагать, что хитроумный человек, способный сыграть роль презренного попрошайки, о котором вы говорили, – разумно ли, что он приложил такие усилия и пошел на такой огромный риск ради нескольких медяков, полученных за все его труды?
– Это неопровержимое доказательство, – заявил молодой священник и вызывающе посмотрел на человека с деревянной ногой.
– Эх вы, простаки! Вы думаете, что деньги – это единственный мотив для усилий и риска, для обмана и предательства в этом мире. Сколько денег выручил дьявол за соблазнение Евы?
С этими словами он повернулся и заковылял прочь, по-прежнему с нестерпимой ухмылкой на лице. Человек в сером немного постоял, глядя ему вслед, потом повернулся к своему спутнику и сказал:
– Это дурной и опасный человек; таких людей нужно осаживать и ставить на месте в любой христианской общине… Значит, это он заронил в вас зерно сомнения? Мы должны запирать свой слух от недоверия и держать его открытым только для веры.
– Если бы сегодня утром я вел себя в соответствии с вашим принципом, то избавил бы себя от моих нынешних чувств. Один одноногий человек вдруг получил такую зловещую власть, что одно-единственное кислое слово из его уст стало закваской для общего брожения. Я собственными глазами видел, как дружелюбное расположение многочисленной компании внезапно сменилось на нечто противоположное. Но, как я упоминал, для меня его злые слова ничего не значили ни тогда, ни сейчас; они возымели эффект лишь в промежутке, и это озадачивает меня.
– Не беспокойтесь. Дух недоверия воздействует на человеческие умы, как это происходит с определенными ядами; этот дух может проникать в их разум и в течение того или иного времени находиться там в дремлющем состоянии. Но тем более прискорбным становится его окончательное проявление.
– Это тревожный вывод. Поскольку этот пагубный дух только что возобновил своего пагубное воздействие на меня, то откуда мне знать, сколько продлится его проклятье?
– Нельзя знать точно, но вы можете бороться с ним.
– Как?
– Подавляя малейшие признаки недоверия, которые могут возникнуть в будущем при любых провокациях.
– Так я и сделаю, – потом, после некоторого размышления: – Конечно, я виновен в том, что пассивно стоял в стороне, пока одноногий распространял свою заразу. Моя совесть служит упреком. Бедный негр… вы время от времени встречаетесь с ним?
– Не часто, хотя в иные дни мои деловые поездки проходят недалеко от его нынешнего убежища. Тогда наш четный Гинея, благодарная душа, приходит повидаться со мной.
– Значит, вы являетесь его благодетелем?
– Благодетелем? Я бы так не сказал. Но я хорошо знаю его.
– Примите эту скромную лепту. Передайте ее Гинее, когда в следующий раз встретитесь с ним. Скажите, что это дар от человека, который твердо верит в его честность и искренне сожалеет, что хотя бы на короткое время усомнился в ней.
– Я принимаю ваш дар. Кстати, поскольку вы проявили такое милосердие, не откажетесь ли вы внести небольшое пожертвование в пользу «Приюта для вдов и сирот семинолов»?
– Я не слышал о таком заведении.
– Оно открылось лишь недавно.
После некоторой паузы священник нерешительно сунул руку в карман, но потом, уловив нечто в выражении лица своего спутника, пытливо и едва ли не тревожно пригляделся к нему.
– Ах, да, – робко произнес тот. – Если изощренное проклятье недоверия, о котором мы только что говорили, начинает работать так быстро, то мой призыв пропадает впустую. До свидания.
– Нет, – горячо возразил священник. – Вы несправедливо судите обо мне; вместо того, чтобы потакать нынешним подозрениям, я возмещаю обиды за прошлые. Вот кое-что для вашего приюта. Это немного, но каждая капля полезна, не так ли? Разумеется, у вас есть документы?
– Разумеется, – человек в сером извлек блокнот и карандаш. – Давайте запишем имя и сумму пожертвования. Мы опубликуем все имена. А теперь позвольте мне рассказать короткую историю о нашем приюте и о ниспосланной провидением случайности, когда он был основан.
Глава 7. Джентльмен с золотыми пуговицами
В одном из интересных моментов повествования, когда интерес и настоятельность момента требовали особых усилий от рассказчика, другой человек отвлек его и слушателя от истории. Этот человек с самого начала находился рядом, но до сих пор, судя по всему, на него не обращали внимания.
– Прошу прощения, – сказал он и выпрямился. – Здесь есть еще один, кто может существенно дополнить вашу историю. Не обижайтесь на мое вмешательство.
– Разумеется: долг прежде всего, – последовал добросовестный ответ.
Незнакомец обладал каким-то непреодолимым обаянием. Он стоял поблизости в расслабленной позе, однако его взгляд отвлек человека в сером от увлекательной истории. Обстоятельное изящество его манер, подобное лиственному вязу, стоявшему посреди луга, манило косаря отложить в сторону свои снопы, и обратиться за милостыней к его тени.
Но, хотя это качество нередко встречается среди людей и имеет общий смысл во всех наречиях, в незнакомце оно проявлялось с такой удивительной силой, что он казался пришельцем из далекой страны. Подобная добродетельность, в сочетании с немалым состоянием и жизненным опытом, вероятно, свидетельствовала о том, что он редко переживал физические или нравственные страдания, – а возможно, сама его натура противостояла таким обстоятельствам или вообще исключала их. Что касается остального, то на вид ему было от пятидесяти пяти до шестидесяти лет, но он был высоким, розовощеким, где-то между дородным и толстым по комплекции, с выражением оживленной доброжелательности на лице, – наперекор времени и месту, не говоря уже о его возрасте, – одетым с праздничной роскошью и элегантностью. Подложка его сюртука была из белого шелка, что выглядело бы особенно неуместным, если бы являлось частью портновского замысла, а не символом, – возможно невольным, но показывавшим, что внутри он был еще лучше, чем снаружи, несмотря на превосходную верхнюю ткань. Но одной руке он носил белую лайковую перчатку, но другая рука, без перчатки, выглядела не менее белой. Поскольку на «Фидели», как и на большинстве пароходов, тонкий слой копоти местами лежал на палубе и особенно на перилах, было удивительно, что его руки остались незапятнанными. Но если бы вы какое-то время наблюдали за ним, то заметили бы, что он старается ни к чему не прикасаться. Короче говоря, вы бы заметили, что некий слуга-негр, чьи руки от природы были черными, – возможно, с такой же целью, как мельники носят белое, – выполнял все указания своего хозяина и имел дело с грязью во всех ее проявлениях, но без предрассудков. Но представьте, каковы были бы последствия если бы джентльмен мог бы еще и грешить через своего представителя без последствий для своей репутации! Впрочем, этому не бывать, и даже если бы так было, то никакой рассудительный моралист не помел бы и заикнуться об этом.
Таким образом, есть причина полагать, что этот джентльмен, подобно прокуратору Иудеи, мог спокойно умывать руки, и никогда в жизни не сталкивался с торопливым маляром или неосторожным дворником; в общем, благодаря своей незаурядной удаче, он был очень хорошим человеком.
Не то, чтобы он был неким воплощением Уилберфорса;[37] такая высокая честь, по всей вероятности, не принадлежала ему. Ничто в его манерах не свидетельствовало о праведности. Он был всего лишь добрым, и, хотя это качество ставят ниже праведности, разница между этими двумя понятиями, как можно надеяться, не так уж непреодолима, ибо праведный человек не обязательно является добрым, и на проповедях с церковной кафедры можно слышать убедительные настояния о том, что доброта по своей природе далека от праведности, и природная доброта становится праведной лишь после духовного преображения и обращения к вере. Честные умы, понаторевшие в истории праведности, не станут это отрицать, поскольку сам святой Павел вполне ясно сказал, какому из этих качеств он отдает свое апостольское предпочтение: «Ибо едва ли кто умрет за праведника; за благодетеля, может быть, кто и решится умереть».[38] Поэтому, когда мы повторяем, что этот джентльмен был только добрым человеком, как бы ни возражали против этого суровые блюстители нравов, все же можно надеяться, что его доброта, по меньшей мере, не будет считаться преступным качеством. Во всяком случае, ни один человек, даже праведник, не сочтет правильным отправить этого джентльмена в тюрьму за преступление, каким бы экстраординарным оно ни выглядело, до выяснения всех обстоятельств; всегда остается шанс, что вышеупомянутый джентльмен в конце концов может оказаться таким же невиновным, как и его судьи.
Этот добрый джентльмен с достоинством ответил на приветствие праведника, – то есть, человека в сером, уступавшего ему не столько своим положением в обществе, но скорее, ростом и представительностью. Подобно раскидистому вязу, он распростер над просителем покров своего великодушия; не с чванливой снисходительностью, но с учтивостью, свойственной истинному величию, которое может быть добрым к любому человеку, не унижая его достоинство.
Выслушав просьбу о пожертвовании для вдов и сирот семинолов и получив должный ответ на два-три коротких вопроса, добрый джентльмен извлек объемистый бумажник в добром старом стиле изготовленный из зеленого французского сафьяна с шелковой подкладкой того же цвета и хрустящими новыми банкнотами, прямо из банка, не потертыми и без следов грязных рук. Вложив три девственных купюры в руки просителя, он выразил надежду, что его можно извинить за незначительность вклада; по правде говоря (и это, наконец, объясняло его нарядный вид), он собирался сойти на ближайшем причале, чтобы во второй половине дня присутствовать на свадьбе своей племянницы, поэтому не имел при себе много денег.
Человек в сером собирался выразить благодарность, но добрый джентльмен мягко удержал его от этого и сказал, что это он должен быть благодарен. По его словам, благотворительность была не трудом, но удовольствием а даже потаканием своим слабостям, за что его слуга, большой юморист, иногда журил его.
Последовала беседа на общие темы, связанная с упорядоченными способами творить добро. Джентльмен высказал сожаление, что многие благотворительные организации, существующие по всей стране, не согласовывают свои усилия таким образом, чтобы перераспределять свои средства ради достижения еще большего блага. Такая конфедерация, вероятно, могла бы достигнуть еще лучших результатов при политической поддержке администрации штатов.
Это предложение произвело на его сдержанного собеседника впечатление, наглядно демонстрирующее идею Сократа, что суть души есть гармония; как звучание флейты в гармоничном сочетании с арфой создает приятную мелодию, так и слова, затрагивающие внутренние струны души, воодушевляют ее.