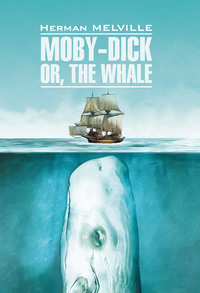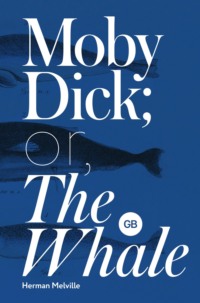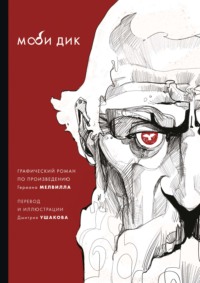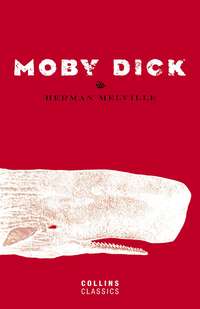Полная версия
Обманщик и его маскарад

Герман Мелвилл
Обманщик и его маскарад
Глава 1. Глухонемой садится на пароход в Сент-Луисе
На рассвете первого апреля[1] мужчина в кремовом костюме появился на берегу Миссисипи в городе Сент-Луисе, – неожиданно, как Манко Капак на озере Титикака.[2]
Он был светлокожим и белобрысым, с легким пушком на подбородке, и носил белую меховую шапку с длинным ворсистым начесом. У него не было при себе чемодана, саквояжа, ковровой сумки или даже узелка с вещами. Его не сопровождал носильщик. Судя по шепоткам, хихиканью, изумленно поднятым бровям и озадаченным пожатиям плеч, он был чужаком в самом радикальном смысле этого слова.
Не теряя времени, он поднялся на борт современного парохода «Фидель»,[3] готового к отправлению в Нью-Орлеан. Провожаемый взглядами, но никем не приветствуемый, с видом человека, равнодушного к вниманию или невниманию, который следует выбранному пути в гордом одиночестве или в многолюдном городе, он прошел по нижней палубе, пока не достиг плаката рядом с капитанской каютой, где предлагалась награда за поимку загадочного мошенника, якобы недавно приехавшего с Востока, – подлинного гения своей нечестивой профессии. Хотя из текста было не ясно, в чем заключалось его мастерство, там находилось подробное описание его внешности.
Вокруг плаката, словно это была театральная афиша, собралась целая толпа, в том числе определенные кавалеры,[4] чьи взгляды были прикованы к заголовкам, – или, по меньшей мере, пытались разобрать их из-за спин более удачливых зрителей. Между тем, их пальцы проделывали некую таинственную работу, и время от времени кто-либо из этих джентльменов приобретал у продавца денежных поясов одно из этих популярных защитных устройств. Тем временем другой расторопный торговец находившийся в средоточии толпы, успешно распространял истории о жизни Мизана, бандита из Огайо, Муррела, речного пирата на Миссисипи, братьев Харп,[5] известных разбойников из Грин-Ривер в штате Кентукки, и других подобных существ, подвергшихся поголовному истреблению, как стаи хищных волков в некоторых регионах, и почти не оставивших преемников своего дела. Это стало причиной большой радости для всех честных людей, за исключением тех, что имел основания полагать что в тех местах, где истребляли волков, умножалось поголовье лисиц.
Немного помедлив, незнакомец стал проталкиваться через толпу, да так успешно, что вскоре оказался рядом с плакатом. Там он достал маленькую грифельную доску, он начертал на ней несколько слов и поднял ее на уровне плаката, чтобы зрители могли прочитать и то, и другое. Слова были такими:
«Любовь не мыслит зла».
Поскольку ради завоевания своего места рядом с плакатом он проявил определенное упорство и даже некоторую настойчивость вполне безобидного рода, зрители без особого восторга отнеслись к такому посягательству на их внимание. При более внимательном осмотре они не обнаружили никаких знаков должностных полномочий, и даже более того: он выглядел необыкновенно простодушным, что делало его присутствие в это время и в этом месте весьма неуместным, а значит, наводило на мысль, что его надпись тоже не заслуживает внимания. Короче говоря, его приняли за какого-то странного простака, – достаточно безобидного, если бы он держался особняком, но довольно назойливого в своем нынешнем поведении. Поэтому его беспардонно оттолкнули в сторону, причем один из зевак, менее добродушный или более проказливый, чем остальные, ловко нахлобучил меховую шапку ему на лоб. Не поправляя ее, незнакомец молча повернулся, написал новые слова на грифельной доске и поднял ее над головой.
«Любовь долго терпит и милосердствует».[6]
Недовольные его упрямством (как им казалось), зеваки снова оттолкнули его в сторону, на этот раз не без бранных эпитетов и нескольких тычков, которым он не противился. Но, словно наконец отчаявшись в столь трудном мероприятии, где непротивленец стремится утвердить свое присутствие среди агрессивной толпы, незнакомец медленно пошел прочь, хотя изменил свою надпись на следующие слова:
«Любовь все покрывает».
Держа грифельную доску как щит перед собой,[7] посреди недовольных взглядов и насмешек, он медленно расхаживал взад-вперед, и в поворотных точках еще дважды изменил свою надпись:
«Любовь всему верит»,
А потом:
«Любовь никогда не перестает».
Слово «любовь», написанное с самого начала, оставалось неизменным, как левая цифра на печатном бланке, где оставлено место для заполнения даты.
Для некоторых наблюдателей необычное поведение, если не безумие незнакомца подчеркивалось его немотой, – возможно, еще и по контрасту с привычным и разумным порядком вещей, – скажем с присутствием на пароходе брадобрея, чьи владения под курительным салоном и напротив бара располагались через одну дверь от капитанской каюты. Создавалось впечатление, что вся длинная, широкая крытая палуба по обе стороны корабля представляла собой константинопольский торговый пассаж или базар с застекленными витринами, где были представлены всевозможные ремесла, и этот речной брадобрей в фартуке и парчовых туфлях, немного опухший и брюзгливый после сна, открывал свою лавочку и украшал витрину соответствующим образом. С деловитой сноровкой он опустил шторы и без особого внимания к толкучке установил перед входом натяжной клапан, опиравшийся на декоративный железный столбик, а потом отогнал людей еще дальше, когда, взгромоздившись на табурет, повесил на гвозде над входом аляповатую картонную вывеску собственной работы с позолоченной бритвой в исходной позиции для бритья и короткой надписью, какую часто можно видеть у входа в другие лавки, кроме парикмахерских:
«В кредит не обслуживаем».
Хотя сама по себе эта надпись выглядела не менее вызывающей, чем надписи на грифельной доске незнакомца, они не вызвала никакого удивления, насмешек или раздражения. Тем более, она не выставляла автора в виде простака или недалекого человека.
Между тем, человек с грифельной доской продолжал неторопливо расхаживать взад-вперед. Его настойчивость приводила к тому, что некоторые презрительные взгляды сменялись насмешками, некоторые насмешки – толчками, а некоторые толчки – грубыми тычками. Неожиданно, во время одного из поворотов, его громко окликнули двое носильщиков с большим сундуком, а поскольку это не произвело никакого эффекта, они случайно или преднамеренно подтолкнули его в спину своей ношей, едва не опрокинув на землю. Он пошатнулся, издал невнятный стон и выразительными жестами пальцев невольно выдал то обстоятельство, что был не только немым, но и глухим.
Но потом, как будто абсолютно безразличный к недружелюбному приему, он прошел вперед и занял сидячее место на полубаке у подножия лестницы на верхнюю палубу, по которой то и дело поднимались и спускались моряки, занятые своими делами.
Судя по непринужденности, с которой он занял это скромное место, незнакомец был вполне осведомлен о своем положении, а его затруднительный проход по палубе не составил для него большого неудобства; поскольку он не имел багажа, то вполне вероятно, что он собирался высадиться на одном из небольших речных причалов, расположенных в нескольких часах плавания по реке. Но, даже несмотря на это, он как будто явился из очень далеких краев.
Хотя его кремовый костюм не был грязным или засаленным, он выглядел довольно поношенным и нечищеным, словно после долгого странствия из неких отдаленных мест за прериями он давно был лишен такой роскоши, как обычная постель. Его добродушное лицо было изможденным, а после того, как он приобрел сидячее положение, оно все больше приобретало выражение усталой отчужденности и сонливости. Постепенно его одолела дремота; его светловолосая голова склонилась на грудь, тело расслабилось, как у жертвенного агнца, и он неподвижно застыл у подножия лестницы, как снежный сугроб в начале марта, который, подтачиваемый талыми водами в своей белой безмятежности, заставляет фермера чесать в затылке на рассвете, когда он выходит на порог и осматривается по сторонам.
Глава 2. Демонстрирующая, что у разных людей есть разные мнения
«Странный тип»!
«Бедняга»!
«Кто же он такой»?
«Каспар Хаузер».[8]
«Будь я проклят!»
«Необычное лицо».
«Новоявленный пророк из Юты».[9]
«Лицемер!»
«Святая невинность».
«Он что-то затевает».
«Спиритический медиум».
«Просто дурачок».
«Жалкое зрелище».
«Он пытается привлечь к себе интерес».
«Нужно остерегаться его».
«Спит как младенец, а потом, несомненно, будет шарить по карманам у пассажиров».
«Дневное воплощение Эндимиона».[10]
«Беглый преступник, которому больше некуда податься».
«Иаков, дремлющий в Лузе».[11]
Такие комментарии, произнесенные вслух или мысленно членами разношерстной компании, собравшейся на балконе, выступавшем над передней частью верхней палубы, не были засвидетельствованы предыдущими событиями и отражали только умонастроение этих людей.
Между тем, словно заколдованный человек в темной гробнице, пребывая в блаженном неведении об этих сплетнях, глухонемой пассажир продолжал мирно спать, пока судно отправилось в плавание.
Великий судоходный канал Вин-Кин-Чин[12] в Цветущем Царстве местами напоминает Миссисипи, где она свободно и широко протекает между низкими берегами, ровными, как буксирные тропы и увитыми древесными лианами, и несет многопалубные пароходы, ярко разукрашенные и лакированные изнутри, словно императорские джонки.[13]
Изрешеченную двумя ярусами похожих на амбразуры маленьких иллюминаторов высоко над ватерлинией ее белого корпуса, «Фидель» издали можно было принять за побеленный форт на плавучем острове.
Коммерсанты свободно расхаживали по палубам, беседуя друг с другом, в то время как из невидимых недр парохода доносился приглушенный шум голосов, похожий на жужжание в пчелином улье. Широкие променады, куполообразные салоны, длинные галереи, солнечные балконы, служебные коридоры, чертоги для новобрачных, многочисленные роскошные каюты и укромные уголки, напоминавшие потайные отделения в секретере,[14] – здесь было все необходимое для уединения или для привлечения внимания. Аукционисты и фальшивомонетчики с равной легкостью могли заниматься здесь своим ремеслом.
Хотя ее маршрут составлял тысячу двести миль, – из одного климата в другой, от яблок к апельсинам, – как и любой маленький паром, курсирующий между берегами реки, огромная «Фидель» все равно принимала на борт новых пассажиров взамен тех, кто высаживался на берег. Поэтому, хотя она всегда была наполнена незнакомыми людьми, но в каком-то смысле, постоянно заменяла их еще более незнакомыми незнакомцами, подобно тому, как фонтан Рио-де-Жанейро, питаемый ручьями с гор Коковерде, всегда наполняется новой водой, удаляя старую.
Хотя до сих пор, как мы видели, мужчина в кремовом костюме не оставался незамеченным, но, удалившись на покой и продолжая спать, он перестал привлекать к себе внимание, что было не частым благодеянием для него. Любопытная толпа осталась далеко позади, смутно видимая вдали как стайка ласточек на крышах, и внимание пассажиров вскоре было привлечено высокими утесами и обрывами на берегу Миссури[15] или грубовато-добродушными уроженцами штата Миссури и рослыми жителями Кентукки среди толпы на палубах.
После двух-трех небольших остановок мимолетная память о спящем незнакомце улетучилась; вполне возможно, и он сам уже проснулся и сошел на берег. Как это обычно бывает, стечение народа стало разделяться на отдельные группы и в некоторых случаях распадаться на двойки, тройки, четверки и даже на отдельных субъектов, невольно подчиняясь естественному закону, который предписывает растворение пропорционально массе, вплоть до отдельных частиц.
Как и среди пилигримов Чосера или восточных паломников, пересекающих Красное море по направлению к Мекке в месяц Рамадан, здесь хватало разнообразия: коренные жители всех сортов и иностранцы; деловые люди и праздные гуляки; салонные эстеты и провинциальные фермеры; искатели правды и золотоискатели, охотники за славой и охотники за удачей, охотники на бизонов и охотники на пчел, искатели счастья и охотники за наследством а также еще более энергичные охотники на всех этих охотников. Светские дамы в туфлях-лодочках и индейские скво в мокасинах; северные спекулянты и восточные философы; англичане, ирландцы, немцы, шотландцы, датчане; торговцы из Санта-Фе в полосатых пончо и бродвейские щеголи в костюмах из золотой парчи с шейными платками; красивые лодочники из Кентукки и похожие на японцев хлопковые плантаторы с Миссисипи; квакеры в тускло-коричневых холщовых костюмах и американские солдаты в полковых мундирах; модные испанские креолы и старомодные французские евреи; бедные мормонские Лазари и богатые паписты;[16] улыбчивые негры и вожди сиу, напыщенные, как первосвященники; дьяконы и шулеры, суровые баптисты и веселые трудяги из южных штатов, шуты и кающиеся грешники, трезвенники и прожигатели жизни. Одним словом, это был птичий парламент, конгресс Анахарсиса Клоотса,[17] состоявший из паломников, всевозможных представителей человеческого рода.
Как сосны, буки, березы, ясени, липы, ели, и клены переплетаются кронами в мире природы, так и эти смертные смешивались в разнообразии лиц и одежд. Татарская живописность; некая языческая непринужденность и самонадеянность. Здесь царил бесшабашный, предприимчивый и объединяющий дух Запада, чьим воплощением служит сама Миссисипи, объединяющая реки и ручьи из самых дальних и противоположных краев и беспорядочно несущая их воды в одном всеобщем и уверенном потоке.
Глава 3. Где появляются разнообразные персонажи
Не самым привлекательным зрелищем в носовой части парохода какое-то время был гротескный чернокожий калека в подпоясанных бечевой лохмотьях и со старым тамбурином в руке, похожим на угольное сито. Из-за какого-то ножного увечья его рост не превышал холки ньюфаундленского пса; его короткие курчавые волосы и добродушное, честное лицо терлись о бедра проходивших мимо людей, когда он поворачивался, чтобы побрести туда или сюда, изображая музыкальные номера, вызывавшие улыбку даже на самых серьезных физиономиях. Любопытно было наблюдать за ним, ибо, несмотря на свое уродство, нищету и бездомность, он жизнерадостно сносил свои тяготы, пробуждая веселье в сердцах некоторых зевак, чьи кошельки, дома и прочие владения, в том числе здоровые конечности, не доставляли им никакой радости.
– Как тебя зовут, старина? – осведомился краснолицый гуртовщик, положив большую багровую ладонь на курчавую голову калеки, как будто она была рулевым веслом.
– Меня зовут Черной Гинеей, сэр.
– И кто твой хозяин, Гинея?
– Ох, сэр, я пес без хозяина.
– Бездомный пес, а? Ну, тогда мне тебя жаль, Гинея. Псам тяжело живется без хозяев.
– Правда, сэр, ваша правда. Но посмотрите на эти ноги, сэр, – видите? Какому джентльмену нужны такие ноги?
– Но где же ты живешь?
– Повсюду вдоль берега, сэр, где придется. Братишку на пристани собираюсь повидать, а так все больше в городе.
– В Сент-Луисе, да? И где ты спишь по ночам?
– На полу у доброго пекаря, сэр.
– У пекаря? Что за пекарь, интересно, печет такие черные сухари в своей печи вместе с со славными белыми булками? И кто этот милосердный пекарь?
– Да вот он, – с широкой улыбкой ответил калека и поднял свой тамбурин над головой.
– Это солнце, да?
– Точно так, сэр. В городе сей добрый пекарь греет камни для старого негра, когда он спит на мостовой по ночам.
– Но только летом, старина, только летом. Как же насчет зимы, когда холодные казаки звенят своими стременами да сбруями? Как насчет зимы, старина?
– Тогда бедный старый негр трясется и дрожит от холода, сэр. Ох, сэр, уж лучше не говорите о зиме! – содрогнувшись, добавил он и побрел в глубину толпы, как подмерзший черный барашек, ищущий уютного лежбища в средоточии белого стада.
Ему перепало совсем немного монет, и менее обходительные пассажиры, привыкшие к его странному облику, уже начали отворачиваться от него, когда негр внезапно оживил их первоначальный интерес, случайно или по умыслу, взывавшему одновременно к состраданию и разнообразию, поднялся на своих искалеченных ногах и принял собачью позу. Короче говоря, теперь он изображал собаку и стал вести себя подобно дружелюбному псу. По-прежнему шаркая среди толпы, теперь он то и дело останавливался, запрокидывал голову и разевал рот, как слон, которому кидают яблоки в зверинце. Люди расступались перед ним и наблюдали за причудливой игрой, где рот калеки служил одновременно мишенью и кошельком, когда он ловил монетки на лету и сопровождал каждую удачную попытку трескучим бравурным пассажем на тамбурине. Собирать подаяния – утомительная задача, а обязанность выглядеть радостным и благодарным во время этого испытания еще тяжелее, но, каковы бы ни были его подлинные чувства, он глотал монетки, одну за другой отправляя их в пищевод. При этом он почти всегда улыбался и лишь дважды поморщился, когда некоторые монеты, брошенные наиболее игривыми жертвователями, попадали ему по зубам, – впрочем, это досадное неудобство объяснялось тем обстоятельством, что вышеупомянутые монеты оказывались пуговицами.
В продолжение этой игры в подаяние, хромой, косоглазый и угрюмый индивидуум с постным лицом, – возможно, отставной таможенный чиновник, который, неожиданно лишившись средств к приятному существованию, вознамерившийся отомстить правительству и человечеству в целом за свою убогую жизнь ненавистью либо подозрением ко всем и вся, – этот жалкий бедняга, исподтишка наблюдавший за негром, заворчал о том, что его уродство, мол, есть обычное надувательство с целью наживы, чем вылил ушат холодной воды на добродушные забавы игроков, бросавших монетки.
Но, поскольку эти подозрения исходили от человека, который сам ковылял на деревянной ноге, его слова не произвели впечатления на присутствующих. То обстоятельство, что калеки более всех остальных должны дружелюбно относиться друг к другу, – или, по крайней мере, воздерживаться от ядовитых замечаний в адрес товарищей по несчастью, – не приходило в голову веселой компании.
Между тем, лицо негра, ранее преисполненное терпеливого добродушия, приобрело унылое и даже страдальческое выражение. Осознание физического уничижения по сравнению с надлежащим человеческим достоинством придало ему вид пассивной и безнадежной мольбы, как будто инстинкт подсказывал, что правда или неправда не имеют особого отношения к настроению, которому могут поддаться высшие умы.
Но интуиция, подкрепленная опытом, все же является учителем под покровами рассудка, который сам утверждает суровыми словами Лисандра, после того, как чары Пака сделали из него провидца:
«Ведь у рассудка воля в подчиненье».[18]
Поэтому, хотя люди и могут внезапно менять свое предрасположение, это чаще происходит не от своеволия, но от прояснения рассудка, как в это было в случае Лисандра.
Тем не менее, они начали внимательнее приглядываться к негру. Тогда, расхрабрившись от этого свидетельства действенности его слов, человек с деревянной ногой захромал к негру и с видом церковного сторожа, обличающего самозванца, сорвал с него лохмотья и оттолкнул в сторону; но тут он был остановлен ропотом толпы, проявившей неожиданное сочувствие к бедному малому, против которого они совсем недавно ополчились. Поэтому хромой был вынужден удалиться, в то время как остальные, обнаружившие себя единственными судьями в данном вопросе, не могли удержаться от возможности исполнить эту роль, – не потому, что одной из людских слабостей является удовольствие решать судьбу человека на скамье подсудимых, каковым несомненно был этот несчастный негр, но потому, что человеческое восприятие странно обостряется, когда вместо того, чтобы стоять и смотреть, как предполагаемый злодей терпит жестокие нападки судебного чиновника, толпа внезапно сама желает выступить в роли судей. В Арканзасе законный суд однажды признал человека убийцей, но люди сочли такой приговор несправедливым и спасли его ради того, чтобы он предстал перед их собственным судом. Но получилось так, что они сочли его даже более виновным, чем законный суд, и вынесли смертный приговор; так что виселица стала воистину предостерегающим зрелищем – человека, повесили его же друзья.
Но здешняя публика даже отдаленно не дошла до таких крайностей, удовлетворившись ненавязчивыми и тактичными вопросами; в том числе, они спросили негра, есть ли у него документальное доказательство или хотя бы простая бумага с его описанием, которая могла бы подтвердить, что его плачевное состояние не является фальшивым.
– Нет, нет, у бедного старого негра нету никаких ценных бумаг! – причитал он.
– Но есть ли кто-нибудь, кто может замолвить за тебя доброе слово? – произнес человек, недавно подошедший сзади: молодой священник епископальной церкви в длинном черном сюртуке, облегавшем его фигуру. Он был невысоким, но величавым, с ясным лицом и голубыми глазами; его облик дышал простодушием, мягкостью и здравомыслием.
– Ох, да, да, джентльмен! – с готовностью отозвался бедняга, как будто его память, замороженная немилосердным отношением, вдруг оттаяла при первом ласковом слове. – Да, да, на борту есть очень славный и добрый джентльмен с траурной повязкой; и джентльмен в сером костюме с белым галстуком, который все про меня знает; и джентльмен с большой книгой; и джентльмен в желтом жилете; и джентльмен с латунной табличкой; и джентльмен в фиолетовом халате; и джентльмен вроде солдата, и еще много хороших, добрых, честных джентльменов, которые знают меня и будут говорить за меня, благослови их Господь; и еще один, кто знает бедного старого негра не хуже меня самого, благослови его Господь![19] Найдите, найдите их, – горячо добавил он. – Найдите их поскорее, и убедитесь, что бедный старый негр достоин доверия всех этих добрых джентльменов.
– Но как мы найдем всех этих людей в такой толпе? – спросил наблюдатель, стоявший рядом с зонтиком в руке. Это был человек средних лет, судя по виду, сельский торговец, чья естественная симпатия заметно поумерилась из-за неестественной враждебности отставного таможенного чиновника.
– Где мы найдем их? – с легкой укоризной отозвался молодой священник епископальной церкви, – Для начала я пойду и найду хотя бы одного, – поспешно добавил он и удалился, верный своему слову.
– Напрасная затея! – прокаркал хромой, который снова приблизился к ним. – Не верьте, что на борту найдется хоть одна живая душа, знакомая с ним. Откуда у такого попрошайки могла бы найтись целая куча добрых друзей? Он может быстро ходить, если попробует; он может ходить быстрее меня, но врет еще быстрее. Это какой-то белый прощелыга, скрюченный и перекрашенный под чернокожего. Мошенник, как и все его приятели.
– Разве вы лишены сострадания, друг мой? – сдержанный тон методистского пастора, подошедшего к ним, разительно отличался от его непокорного вида: это был высокий и мускулистый уроженец Тенесси с пылкой душой, который во время войны с Мексикой вызвался служить капелланом в добровольческом стрелковом полку.
– Сострадание – это одно, а правда – другое, – возразил хромой. – Я утверждаю, что он мошенник.
– Но почему бы, друг мой, не проявить хотя бы небольшое снисхождение к этому бедняге? – спросил воинственный методист, которому было все труднее сохранять миролюбивый тон по отношению к человеку, чья грубость выглядела совершенно неоправданной. – Он похож на честного малого, не так ли?
– Внешность – это одно, а факты – другое, – упрямо отрезал хромой. – Что до ваших толкований, какое снисхождение можно проявить к мошеннику, если он дурит головы честным людям?
– Не будьте колючим, как чертополох, – настаивал методист, начинавший терять терпение, – Милосердие, друг мой, милосердие!
– Пошли бы вы на небеса вместе с вашим милосердием! – злобно огрызнулся хромой. – Здесь, на земле, подлинное милосердие увядает, а ложное милосердие процветает. Милосердному глупцу хватает милосердия принимать поцелуй предателя,[20] а милосердный подлец дает милосердные показания в пользу своего товарища на скамье подсудимых.
– Поистине, друг мой, – отозвался статный методист, с большим трудом сдерживавший закипающее раздражение, – поистине, вы забываетесь. Попробуйте это на себе, – продолжал он с внешним спокойствием, хотя его голос подрагивал от сдерживаемых чувств. – Допустим, я не проявлю милосердия в суждении о вашем характере по словам, которые я слышу от вас; как вы думаете, что за отвратительным и безжалостным человеком вы предстанете в моем мнении?
– Без сомнения, я предстану неким безжалостным человеком, который потерял свое благочестие, – примерно так же, как обманщик утрачивает свою честность, – с ухмылкой ответил тот.
– И каково это, друг мой? – поинтересовался методист, все еще сдерживавший в себе Адамово искушение, словно мастиффа за ошейник. – Вы сеете сомнения на пустом месте.