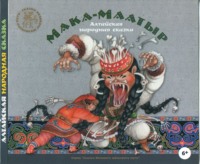Полная версия
Луноликой матери девы
– Слышишь?
Из темноты, нарастая, вдруг пошёл жуткий гул. Низкий, рокочущий, он начинался тихо, но рождал ужас, от него камни принимались дрожать и двигаться, потом становился всё громче, поднимался и рос, после уже и свистел, и визжал, и словно бы хохотал над нами… Мы переглянулись: духов по-прежнему не видели, но кто ещё мог издать эти звуки?
– Хорошо, – кивнула я, – буду звать Царя отсюда.
И стала разворачивать шкуру. Она промёрзла, мясо слиплось. Я откалывала куски ножом. Потом, разложив на камнях, взяла голову козы и пошла с ней в проход.
– Царь! – крикнула я что было мочи, чтобы перекричать ветер. – Царь, это я! Я пришла вернуть тебе твою добычу! Чтобы нить жизни не обрывалась! Я осознала ошибку, Царь! Приди и суди меня!
И кинула козью голову. Ветер унёс звук удара, и я не увидела, куда она упала. Подождала, но никакого знака не давали ни духи, ни Царь. Тогда вернулась и стала кидать в проход куски мяса, пока не раскидала все. Потом снова стала слушать и ждать.
– Он молчит, Ал-Аштара? – спросила Очи, подойдя ко мне очень близко, почти прижавшись. Она уже вся промёрзла, тряслась, как в припадке.
– Я не слышу ответа, – сказала.
– А если он придёт и убьёт тебя?
– Это будет его суд, Очи. Но кто буду я, если не верну долю? Смерть лучше.
Тут опять загудело и загрохотало, словно из чрева горы, и Очи вцепилась мне в руку.
– Это не Царь, – сказала я спокойно. – Царь молчит и ходит неслышно. Царь – это тень смерти. Нам нечего бояться: это поёт Хозяин гор, ээ-торзы, сидя в своём шатре. Он посылает зиму.
– Те! Как-то страшно поёт, – через силу усмехнулась Очи. Эхо стихло, и она сказала: – Давай ждать под шкурой. Царь найдёт тебя, если захочет, а мы согреемся. Давай меж камней натянем и сядем, как в шалаше.
Подумав, я согласилась. Мы отошли к скале. Натаскав камней, сложили их и накрылись шкурой. Устроившись, отдышались и прислушались. Вокруг была тьма, хоть открывай глаза, хоть нет. Шкура быстро задубела. Мы надышали под ней, стало теплей, и кожа на лице принялась гореть.
Так мы сидели – и время как будто отступило. Я вдруг стала странно себя ощущать. Сидела без движения, подогнув ноги и обняв их руками. Но тело моё будто от меня отделилось, окаменев, а сама я, вытянувшись, как дым, заструилась во тьме. Так удивительно и непонятно то было. Я пыталась почувствовать предметы вокруг: и камни, и шкуру, и своё тело, и Очи. Но не чуяла: такие же дымные сути, и я могла в них раствориться. «Где же тогда я?» – подумала и сразу ощутила себя сидящей, согнувшись, ногою касаясь руки Очи.
– Ты спишь? – позвала я её.
– Нет. Я боюсь спать – вдруг провалюсь в нижний мир?
– Не бойся. – Я нащупала её руку и сжала ладонь.
Мы замолчали. Потом Очи снова спросила:
– А как ты думаешь, что там – в нижнем мире?
– Вода и корни. Ещё грибы.
– Да, а ещё черви, кроты и землеройки, – фыркнула она. – То под землёй! А я о мире, где живут алчные духи. Камка говорила, чтоб не совала носа туда, пока сильной не стану. Пока не обучусь. Но мне хоть и страшно, а манит туда. Как думаешь, – спросила она, – если человека закопать в землю, он попадёт в нижний мир?
– Шеш, что говоришь?! Разве можно зарыть человека? Он не проживёт без света.
– Да, в нижнем мире нет света. Но, быть может, там могут жить мёртвые? Может, это тот мир, что после смерти?
– Камка бы тебя услыхала! Откуда только ты это взяла? После смерти мы пойдём на вышние пастбища, к Бело-Синему, в нём растворимся. Об этом все знают.
Она замолчала, ничего не ответив. Мы посидели ещё, но времени не было, как той ночью, когда упало Солнце. Потом снова тихонько стала Очи меня звать:
– Аштара, ты заснула? Помнишь, как мы впервые с тобой повстречались?
– Я столько раз тебе говорила.
– Всё забываю. Расскажи.
– Это было на Праздник весны. После торжеств я пошла в лес и встретила тебя.
– Это было на Тёмном озере, да? Там, где трухлявая колода?
– Значит, помнишь.
– Нет, я плохо помню, как будто во сне.
– Там, когда стает снег, от коряги идёт тепло. Туда сползаются змеи греться. И я, придя, увидела существо, обвитое змеями, хотя обликом было человек. Я решила, что это дух, и сказала: «Здравствуй, сестра».
– Почему ты так сказала?
– Чтобы задобрить духа. А почему ты сидела со змеями?
– Я не помню. Помню, что убежала из стана и пришла туда. А что было в тот день?
В тот день был Праздник весны. Разложили большой костёр, зарезали белую тёлку мохнатого яка, шкурой её накрыли камень для подношений Луне. Потом вывели пленников. На праздник весны мы их всегда отпускаем, кто хочет, может уйти, а кто прижился – остаться. Но сначала они должны себя показать.
Тогда были пленники после похода вниз по Пенной реке. Люди, жившие там, рыли себе землянки, как лисы, а скот держали в загонах, сколоченных из шестов. Я помню их хорошо, хотя больше таких не приводили воины – говорили, их народ снялся и куда-то ушёл. Обликом они были схожи с тёмными, но глаза круглые, а не раскосые, носы небольшие, а лица плоские и волосы светлые, как мучные. Женщины носили монисто из бронзовых круглых пластин в несколько нитей. Их клали на грудь, одну пониже другой, так что вся она сияла от чищеной бронзы. И пели они высокими голосами, сильно и резко, поворачиваясь и приседая, чтобы монисто звенели. Их было пять. Отец отпустил всех, но ушли только три: самых молодых взяли в жёны.
Но ещё один пленник в то время жил у нас: сын царя степского народа. Уже несколько лет он жил в нашем доме, его отец взял в бою и держал, чтобы степские на нас не напали. Я мала была, мамушка меня к братьям редко пускала, и я плохо помню того мальчика.
Его звали Атсу́р – «речной конь» на языке степских. Отец учил его нашим словам, нашей жизни и нашим хотел сделать. Зачем, думаю я теперь, если всё наперёд поведала ему мудрая Камка и он знал, какую беду принесёт царевич нашему люду? Или обмануть хотел Бело-Синего? Только волку собакой не обернуться: не захотел Атсур проходить у нас посвящение и стал проситься в степь. И на праздник отец обещал дать ему свободу, если отпустит сам Царь.
В тот год охотники поймали в горах молодого барса. Он попал в ловушку на барана: прыгнул в яму, поранился о колья – хорошо, жив остался. Охотники привели его в стан. Всю зиму он прожил у нас, ему сколотили клеть и через дырку кормили мясом. Это был третий пленник, которого на праздник собирались отпустить.
И сделали так: связали прочную клетку, большую, просторную, и пустили туда Царя и степского пленника. Суд Царя самый верный – это у нас всегда знали.
Драться с Царём степскому царевичу было нельзя. Барс сам решить должен был, что с ним делать, – если б не тронул, отпустили бы обоих. Но пленник испугался. Я видела это и помню: Царь, увидев людей, отошёл в угол клетки, но тут Атсур вытащил нож и напал на него.
Люди закричали. Если б царевич убил барса, мы все были бы прокляты. А Царь, прижав уши, зарычал и прыгнул. Царевич потерял нож и упал, и барс, верно, загрыз бы его, – но вдруг отошёл и не стал убивать.
Я помню его холодный, злой взгляд, как шлёпал он хвостом, забившись снова вглубь клетки. И какая-то женщина рядом сказала: всё равно степской теперь не жилец, найдёт его Царь, где бы он ни был.
Отец тут же велел открыть клетку, и барс убежал в горы. У пленника кровь текла из раны на плече. Отец сказал ему, что суд Царя – верный, и отпустил Атсура. Царевич взял коня и ушёл в степь.
– Я помню, Ал-Аштара, – сказала вдруг Очи. – Я тоже была там и видела тот бой. Но я так ненавидела его тогда, что заплакала, когда барс пленника не убил.
– Отчего?
– Он был достоин смерти! Мне было так дурно, я думала, что умираю. Я убежала из стана и отправилась к Тёмному озеру. Я хотела, чтобы змеи укусили меня.
– Как странно, Очи, – сказала я. – А вот сейчас я на суде у Царя, как когда-то Атсур.
– Мне кажется, мы уже знаем его решение, – сказала на это Очи, помолчав и послушав ветер за стенами шалаша.
Я не ответила: ночь ещё не завершилась.
Мы скоро заснули, хотя мне казалось, что я так и не закрывала глаз. Когда же проснулись, свет мутно пробивался сквозь щели в камнях, ветер по-прежнему выл. Лицо Очи я различала в полутьме – она спала.
Тело моё за ночь стало как камень. Пахло козой и сырым мясом – шкура согрелась и взмокла. Я встала, подняла её – сверху намело снега, мы сидели, как будто в берлоге.
Солнце ослепило глаза, но воздух жёг кожу морозом. Ветер всё дул, но буран прекратился, снега навалило за ночь выше колена. Только проход меж двух скал оставался чист. Снег лежал на уступах, белые облака, как дым, висели над их вершинами. Прозрачная голубизна была столь высока, столь чиста, что мне от восторга захотелось плакать.
Скрипя снегом, двинулась я вперёд. Дойдя до бесснежных камней, остановилась и крикнула в ущелье:
– Царь! Я всё ещё здесь и жду твоего суда! Принял ли ты мою жертву?
Эхо унесло слова. Ответа не было, и я пошла искать мясо. Я шла и смотрела меж камней, но не находила ни кусков, ни головы. Тут сзади меня окликнула Очи. Она показалась мне крохотной возле нашего шалаша, у ног великана-скалы. Я обрадовалась ей, будто не видались давно, и замахала руками.
– Нашла? – кричала она.
– Нет!
– Он принял, царевна! Он принял жертву! – Она начала прыгать, и визжать, и смеяться. – Он принял, принял, принял её! – вопила она и стала валяться в снегу, потом схватила ком и кинула в меня.
Он не долетел, но я засмеялась, побежала обратно, и мы долго, хохоча, кидали друг в друга снежки. Потом я упала, она бухнулась рядом, и мы лежали, шумно дыша, и смотрели в бело-синюю высь.
– Почему мы не отражаемся? – спросила Очи. – Было бы так хорошо, если бы отражались.
– Смешная: мы бы сейчас лежали и сами на себя глядели. А все вокруг знали бы, что мы делаем, – отражение издалека было бы видно.
– Да, но и мы бы всех видели. И крикнули бы Камке: ты видишь, он принял жертву!
– Она уже знает.
– Да, она именно так, через высь, на всё смотрит. Она сама говорила. И я стану камкой, тоже научусь.
Мы лежали ещё и представляли, как высь отражала бы всё-всё на земле и мы могли бы видеть: вот мой отец седлает коня и едет в соседские станы, вот наши девы разводят огонь, вот в силки попался заяц и бьётся, а вот охотник едет проверять эти силки… Потом, намечтавшись, взяли шкуру и отправились к озеру.
На сердце было хорошо и легко. Снежный лес сверкал, и мы обновляли тропу. Так и дошли до озера, и девы радостными криками встречали нас, точно с боя.
Они боролись, но остановились и бросились к нам. Они и рады были, и не верили, что мы живы, даже трогали нас. Только Камка не двинулась с места, сидела у костра, вырезая ножом по деревянной заготовке. Мы с Очи подошли к ней.
– Царь принял жертву, – сказала я. – Всю ночь я ждала его у входа на тропу духов, но он взял мясо, а к нам не пришёл.
Камка кивнула и продолжала работу. Завершив узор, она подняла на меня глаза и сказала:
– Ты вернула себе долю. Теперь ты дважды рождённый воин.
Радостью наполнилось моё сердце. Я хотела даже обнять Камку, но, конечно, не двинулась с места.
– Ты тоже родилась нынче второй раз, – обернулась она к Очи. – Но твоё наказание другое. Вот, возьми и сожги, – сказала она и протянула ей красный горит с луком и стрелами. – Ты недостойна такого оружия.
Сердце упало у меня в груди. Со страхом я посмотрела на Очи. Она же будто не верила, но Камка молчала. Тогда, бледная и одеревеневшая, она взяла горит и неуклюже шагнула к костру.
Я не верила, что она сделает это. Очи, как заворожённая, медленно достала все стрелы, по одной стала ломать и кидать в огонь. Как простой хворост принимал их костёр. Лицо Очи было каменным.
Закончив со стрелами, она вынула лук, сломала о колено деревянную накладку горита и положила в огонь. Он охнул, но скоро стал пробираться наверх, прогрызая тонкую кожу и слизывая войлок, как снег.
Тогда, прижав к земле, Очи натянула на лук тетиву, достала нож и перерезала её одним ударом. Звонко вскрикнула тетива. Только тогда Очи замерла, поняв наконец, что она делает, и не решаясь положить в огонь этот прекрасный, на солнце играющий, гнутый лук. Как на погибшего воина, прежде чем возложить на поминальный костёр, смотрела она. Потом положила его меж двух камней и наступила, пытаясь сломать. Но он только прогнулся круче. Ещё и ещё пыталась Очи преломить, но не выходило. Тогда гневом зашлось её сердце: схватив нож, принялась она терзать крутые его бока, колоть, царапать… Выплеснув гнев, швырнула поверженный лук в костёр, отвернулась и отошла.
– Девы, возвращайтесь в пары, – сказала Камка, и все, как напоённые дурманным отваром, оторвались от зрелища, медленно стали возвращаться к занятиям. – И вы становитесь со всеми, – велела она нам.
Мы повиновались и молча бились друг с другом. Я всё пыталась взглянуть в глаза Очишке. Но они оставались холодны, как и полагается воину в битве.

Глава 4. Гадание

После нескольких бурь установилась зима. Озеро замёрзло, по утрам уже нельзя было бегать – такой глубокий выпал снег. Но Камка по-прежнему будила нас в темноте, после разных занятий, сбросив сон и согрев тела, мы занимались боем.
Так прошло две луны. Как молодые волки мы были: чем больше сил прибывало, тем больше были в движении. Девы стали стрелять с коней так же метко, как пешими. Но у костра всё чаще говорили о доме, мечтали, как заживут взрослой жизнью. Иные замуж уже готовы были идти, другие о родителях вспоминали. Камка эти разговоры не пресекала, только сказала однажды:
– Воин о жизни не думает. Воин всегда помнит о смерти. Лишь в этом его сила.
Девы замолчали, а потом тихо зароптали между собой. Не хотелось им думать о смерти. Камка понимала это и не стала больше ничего говорить.
Уже ночь стояла. Небо было звёздным, ледяные вершины гор светились, и белая ровная гладь озера светилась тоже. Мы не готовили, но Камка ещё держала над огнём котёл с кипящей водой и то и дело подкидывала туда какие-то травы. Еле заметный их запах долетал до нас, но я не узнавала его: ни о еде, ни о духах он мне не говорил.
А когда стали девы собираться ко сну, Камка остановила их, вылила в котёл с отваром сосуд молока и сказала:
– Ваше время здесь подходит к концу. Пусть вещий сон вам сегодня приснится. Кто о чём мечтает, кто куда жизнь свою повернёт – пусть то и увидит.
Юные девы любят гадания. Вот и решили, что получат от Камки самое верное предсказание на всю жизнь. Обрадовались, расселись поближе к огню. Молоко закипело, разлила его Камка по чашам и раздала нам.
Пили потихоньку. Молоко было зеленоватого цвета. Вкус его оказался сладковатым, хотя оставлял горчинку. Хотелось пить его долго и медленно, прикрывая глаза и наслаждаясь, мечтая о чём-то приятном, неясном. Мир и тепло поселились в нас, так хорошо стало, что и не сказать. В сон не клонило, хотелось сидеть всю ночь, и девы все казались прекрасными, верными друзьями. Что за травы варила тогда Камка, я и сейчас не знаю. Такое чувство единства со всеми я испытывала потом только в бою.
Тут свистнуло и брызнуло снегом – стрела ввинтилась в сугроб у ноги одной девы. Мы и не поняли, что случилось. Камка первой вскочила и принялась озираться.
– О́ро, о́ро, о́ро! – затвердила тревожно, и мы тоже закрутили головами. – Оро, девы!
Ещё одна стрела, с другой стороны, вонзилась возле Согдай, та вскрикнула, словно заяц, и отскочила.
– Оружие! Нас окружили! – крикнула Камка и молнией отлетела на край поляны, стала доставать боевые гориты из скрытого в земле тайника и кидать нам.
Я повесила на пояс горит и выхватила лук – он оказался не натянут, но с ним я уже ощущала себя воином. Стрелы свистали вокруг, кто-то из дев кричал, раненный. Прижав к земле, я натянула лук, выхватила стрелу и стала целиться в лес, но никого меж деревьев не было видно.
– Оро, оро! – ободряла Камка, и я, оглянувшись, увидела, что все девы ощерились стрелами. – А́йия! – крикнула Камка сигнал нападения.
Я выстрелила не целясь.
И тут сплошной чёрной волной двинулись на нас враги – мне показалось, звери вышли из леса. Со всех сторон, чёрные, огромные, как медведи; стрелы летели дождём, мы оказались оцеплены, как олени, и двигаться надо было без остановки и стрелять. Но я быстро поняла, что целят они не на смерть, значит, не бить нас пришли, а захватить в плен.
Гневом всколыхнулось моё сердце. В огромных фигурах увидела я мужчин, облачённых в шкуры. Верно, прознали, что стоят здесь одни девы, и пришли захватить нас себе на утеху. Но для воина лучше смерть! И я закричала и выстрелила в грудь мужчины, который подошёл ближе всех.
Он остановился и упал на колени, прогнувшись назад. Ни звука не издал, но все вокруг закричали. Я поняла: теперь нам не будет пощады, – и кинулась на врагов.
У них оказались длинные и широкие мечи. Лиц не видно: их скрывали пасти медвежьих шкур. Но я только рада была, что не могу посмотреть им в глаза.
Впервые я тогда видела, как разит клевец, как пьёт он кровь и жизнь из тел выпускает. Это меня опьянило. Я билась, не помня себя, и, только оглянувшись, понимала: мы всё ещё в окружении. Иногда кричали и выли от боли девы, но, даже раненные, продолжали биться. Были убитые, но врагов будто не становилось меньше: хоть и полегло их немало, а из леса прибывали новые. Камка, точно дух войны, носилась меж нами, разила медведеподобных и верещала, как рысь:
– Айия! Айия!
Но вдруг, вонзив острую рукоятку клевца в грудь одного мужа, она выхватила его меч и двумя руками стала прорубать себе дорогу прочь из кольца. От её ярости враги расступились, а она крикнула, устремляясь в лес:
– Очи! За мной!
Та юркой лаской успела проскочить прежде, чем сомкнулось кольцо. Я видела, как кто-то хотел преследовать их, но Очи, обернувшись, одной стрелой его остановила. И они скрылись в лесу.
Бой продолжался, но, как не стало рядом Камки, боевой дух у дев сник. И я сама стала кричать, к войне призывая: «Айия-а, девы! Айия!»
И вдруг конский топот и крик Камки раздался из леса, и низкорослый табун выскочил на поляну. Вместе с Очи они мчались на передних коньках и стреляли по три стрелы кряду. Казалось, лавина новых воинов катится с гор. Враги обернулись, дрогнули и расступились. Мы вскакивали верхом и мчались в погоню. Так прогнали их до самой реки, но дальше не стали, остановились на берегу и криками, смехом и бранью провожали огромные косматые фигуры, пока те перебирались по льду и вязли в сугробах, скрываясь в лесу.
Разгорячённые, мы вернулись к костру, громко обсуждая битву и смеясь над бегством мужчин. Из нас пять дев было убито, три (среди них моя Ак-Дирьи) получили тяжёлые раны и лежали в беспамятстве. Другие же были только с ударами и порезами, но от радостной лихорадки не замечали того. Мы стащили тела врагов в кучу, дев же сложили у костра. Отдавать их огню следовало в станах, чтобы родные могли с ними проститься. Но эти мысли не омрачили нас, и, не чуя усталости, мы продолжали сидеть у огня, обсуждая битву.
Но вдруг кто-то закричал истошно:
– А-а-а! Девы! Девы! Откуда у нас эти луки? Откуда боевые клевцы? Чем мы сражались?
Этот крик был ужасней для нас, чем вопли во время битвы. Как по тревоге мы вскочили. Кто-то к чеканам потянулся – деревянные поделки висели на бёдрах, кто-то кинулся к лукам – там лежали кучей палки и сучья. Безумие охватило дев, в ужасе бросились мы к врагам – чёрные речные валуны валялись горою. Лишь холодные, заиндевелые уже трупы дев и горячечные тела раненых говорили о том, что битва и правда случилась.
– Камка! Камка! – завопили девы. – Что это?!
А она сидела у огня и хохотала. Сначала беззвучно, потом, чем больше на неё наседали с вопросом, принялась смеяться в голос, и мы замолчали наконец, вовсе опешив.
– Говорила я, девы, будет вам сегодня гадание в подарок. Окончено ваше учение, сами себе нагадали, кому каким воином быть, – ответила наконец Камка, когда просмеялась и села, стирая с глаз слёзы.
– Но наши подруги погибли! – крикнул кто-то.
– Нет, они грезят сейчас, как и вы. Один вы видите сон, во сне они пали в бою. Это о том говорит, какими быть им воинами. Или лучше в доме засесть и рожать сыновей.
Девы молчали, не зная, как в это поверить. Я смотрела на бледные, стылые лица мёртвых – пошёл редкий снег, и снежинки не таяли у них на щеках – и не могла поверить, что они оживут, встанут, опять начнут говорить… Смерть такой явной была – как и всё, что в ту ночь случилось. И тогда, осознав это, я села на землю и начала хохотать. И над тем, что случилось, и над мыслями о будущей жизни – надо всем. В тот момент так зыбко всё было в моём сердце. Девы не понимали, над чем я так тяжело смеюсь.
Когда же поднялись павшие, а раненые не нашли на себе ран, Камка сказала, что спать нам ложиться уже не время, что сегодня будет баня. Пока жили на посвящении, мы не чистились, только набивали волосы золой от насекомых. И все поняли: раз хочет Камка устроить баню, кончается у неё наше время.
Ещё во тьме мы спустились к реке. Утоптали снег, сломили тонких деревьев, составили и покрыли войлоками. Развели костёр, стали носить голыши с реки и греть в огне. Одну деву посадила Камка растирать кору кедра, другую – скорлупу кедровых орехов, а сама сложила разные травы и, добавляя пчелиного мёда, стала всё это толочь.
Так не заметили мы, как наступил день. Тогда Камка велела нам раздеться донага. Расстелила на снегу войлок, насыпала золы из старого кострища и рубленой благовонной хвои, и мы стали складывать свою одежду. Складывали и пересыпали то морозным снегом, то вновь золою и душистыми травами.
Нагие и босые, мы стояли на снегу и дрожали всем телом, отводя друг от друга глаза и тела прикрывая. Камка глянула на нас и рассмеялась:
– Что жмётесь, воины? Или думаете, сила ваша в одежде? Те! Разотрите друг дружку снегом – вмиг согреетесь!
И прыгнула к нам со смехом, стала кидаться снегом, тереть спины и грудь. И все мы смеялись и верещали, бегая по берегу.
Раскрасневшихся, Камка впустила нас в шатёр. В центре на треноге висел котёл с горячими камнями. На них стали лить воду и бросать травы и семена. Пошёл густой, благовонный пар. После мороза и снега всё тело ожгло, а потом бросило в пот, и тут же меня разморило.
Как из дрёмы смотрела я на Камку. Она же, стоя на коленях перед котлом, в большой широкой ступке продолжала растирать мазь, то бросая на горячие камни щепотку травы, то плеская воды, тихо при этом напевая.
– Посмотрите, девы, – заговорила потом нараспев, – посмотрите, как изменились вы! Девочками неразумными пришли сюда – воинами уходите. Посмотрите на себя и запомните. Время это не повторится. Девочками сюда вы вошли – взрослыми выйдете. Посмотрите же на себя, девы!
Так же протяжно, напевно стала она поучать, как жить в стане, как выбрать оружие и коня, как мужа приветить, как готовиться к материнству. Не останавливая рассказ, раздала мазь. Ею натёрли мягкую, распаренную кожу с пяток до лба. Я ощутила жар, будто упала в крапиву, он через кожу проникал в тело, пробирая до внутренностей.
Я оборачивалась на дев, но все будто спали и плыли в тумане видений. Одна Камка ходила, то напевая, то что-то бормоча, словно её не брал жар.
И вдруг я с изумлением заметила, что вижу её не одну, а будто три женщины соединились в ней. Одна была дряхлой старухой. Ноги её подгибались, смуглая кожа обвисла на тощих и страшных ляжках, груди болтались, как мокрые тряпки, волосы на голове – пепельные и клочками, остальные повылезли – голое сморщенное тело. Словно дерево, костлява, все сочленения торчали узловато и жутко. Но было в ней что-то такое, что не отпугивало, а завораживало, не отталкивало, а внушало уважение.
Другая была женщина прекрасная, закалённая в битвах: сильные ноги, одинаково привыкшие быть и на коне, и в беге, сильные руки, способные поднять и откинуть врага. Третья же была ещё дева, тонка и худа. Стройны были её ноги, груди – малы и остры, плечи, шея и стан худы, красивы и гибки. Как рысь, чутка и нежна. И как другие две женщины, прекрасна.
Все три образа сливались, один уживался в другом. И меня в тот миг это словно не удивило. Помню, подумала я, что этих трёх женщин любая из нас носит в себе, но одна лишь Камка настолько гибка, что может в себе одной соединить мудрость первой, силу второй, юность и притягательность третьей.
Несколько раз она выходила наружу, приносила котёл с горячими камнями, и опять шатёр наполнялся жаром. Плоскими скребками мы сняли остатки мази вместе с грязью, потом волосы мыли растёртыми семенами горчицы с сывороткой.
Наконец Камка сказала: