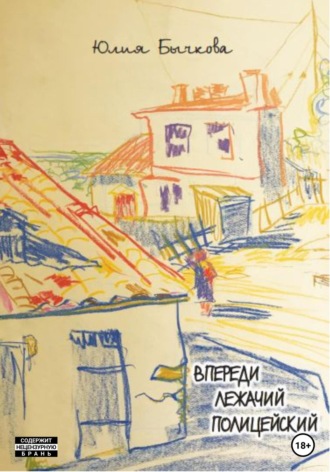
Полная версия
Впереди лежачий полицейский
Я посмотрела скользящему брюхом трамваю вслед, когда он вписался в пейзаж с олеандрами, пассажир в окне помахал мне рукой, тихо удаляясь в свою эмигрантскую жизнь. Перешла трамвайную улочку к чёрному офисному зданию, обойдя его слева, спустилась через садик вниз к раздвижным воротам в Novotel. Внутри на ресепшен меня встретил портье элегантный чернокожий со сверкающим взглядом и длинной шеей. Он не спеша взял мои документы и начал хмуриться, лениво заглядывая в компьютер. Я подумала, что весь мой сломанный маршрут и далее должен идти криво по такой логике: или он не найдет подтверждение брони, или это окажется отель-двойник, тогда мне придётся ехать через весь город куда-то в другие предместья, я вызову такси, таксист с большой долей вероятности будет чёрным, и я буду неизбежно снова думать про многочисленных чернокожих, о том, что моему свежему взгляду кажется, как некоторые из них удивительно красивы, совсем иной красотой – животной пластикой и блеском чужих глаз, а у женщин у всех без исключений спинка ровная, и как же они гениально умеют никуда не спешить. Никогда никуда вообще не спешить, даже на Гар дю Нор. И надо перестать уже прислушиваться к их загадочному языку – все равно ничего не понятно.
В прошлый раз на День Бастилии 14 июля на Марсовом поле в толпе среди зрителей, кто пришёл на праздничный салют, совсем не было чёрных лиц. Пожалуй, ни одного. Тогда я спросила рядом стоящего случайного французского поляка: почему? А он сказал, они не считают это своим праздником, и никогда сюда не приходят, потому что мы их завоевали. Тогда, в тот знойный вечер, а точнее глубоко за полночь, пробираясь после праздника сквозь плотную толпу хоть к какому-нибудь метро, почти как люди в рассказе «Южное шоссе», которые фатально застряли, поселились в пробке в Париж в воскресенье вечером, “едва миновав Фонтенбло, еле-еле ползли, то и дело останавливаясь…” Все станции в округе были закрыты, а Uber выдавал только ошибки. Тогда и теперь единственной моей целью было обрушиться в гостинице на белую постель, зарыться в подушку с незнакомым запахом, пересматривая в памяти восхитительную галерею прогулок по большому городу, перечисляя яркие выспышки под джаз-сюиту Шостаковича, которую тогда под взрывы праздничного салюта со всех уровней Эйфелевой башни исполнял русский оркестр Гергиева – образный микс великого города, в котором ты никак не можешь быть сильно чужим, и тем самым уже полностью растворенным в импрессии изящного летнего стильного немного «русского» Парижа.
2018 г.
С вашего позволения, я – Дороти
Завтра будет свобода. Я иду по длинному серому коридору. Весь день думала, что нужно успеть собраться, упаковать нужные мелочи – духи, зарядку, вазочку для подаренных цветов не забыть, четыре пары туфель разного цвета, под настроение, и одни открытые босоножки для бессмысленных дефиле в летней шифоновой юбке. Я нервничаю, как бы ни хотела относиться к этому ровно, и думаю, что это естественно – не каждый же день увольняешься. Дохожу до лифтового холла, нагруженная своими одиннадцатилетними пожитками, и вижу сбоку, как мужская рука прижимает кнопку, задерживая лифт для меня. Это последний десятый этаж, но я не знаю, как работает эта теория лифтов, нам иногда приходится его довольно долго ждать. Я вхожу в кабину, одновременно возникая в отражениях металлических стен и большого зеркала. А там – он! Сердце-то застучало-затарабанило, ведь я давно приглядывалась к нему с интересом, ну как давно… столько, сколько мы знакомы. Когда произошла наша первая встреча, он показался красиво-высокомерным, таким человеком, которому зачем-то надо определять себе цену, пусть по привычке, будто он всегда общается только с противниками. На меня он тогда не смотрел, и мельком показалось, что всё же смотрел, каким-то боковым радаром, мужским «нюхом», интересующимся всеми, как новенький, – а что если на этот раз, бывает же, так случается, и влипнешь…
Я вытянулась в струну, молчаливо подкидывая ресницы, резко опуская их в пол, подброшенная в воздух «загадочность», ни фига мы не понимаем в жизни – таем, когда рядом есть интересные мужчины. Таем и гибнем. Потом ещё пару раз мы виделись мельком в этом же лифте, он, не церемонясь, пилил улыбающимися глазами, и мне казалось, что он уже всё решил, и даже если не на далёкую перспективу, но теоретическая возможность того, что снова влюбиться – словно приобщиться к волшебному накрывающему, со сладким страданием, – была ясно видна на горизонте. Это же как радость озарения, словно о тебе небесные силы вспомнили. Это как выходишь из душной комнаты на улицу – кажется, теперь есть кислород и дышится легче, какая-то разбежавшаяся вмиг из пылинки новая туманность, и всё, что ты хочешь и ждёшь, вот-вот оно и начнёт происходить. И всё будто бы для тебя, но не теперь, ведь оно таким и было, просто не всегда можно это понять, так как понять можно лишь, если ты готов. А готов ты, если свободен. А свободен ли ты, этот вопрос уже решай сам.
Автоматическая дверь плавно закрылась. Мы стояли вдвоём – друг против друга. А вот в башнях Москва-Сити – там в лифтах даже кнопок нет, входишь в чистую коробку, и всё – барокамера по пути «в небо». Но у нас всё же есть. А мне бы хотелось, чтобы сейчас мой попутчик тихо заговорил, будто он давно думал меня пригласить на ужин, и не оправдывать, что мы остались одни случайно, и ещё, что не такой уж он строгий, но в этом змеином «театре» ведь нужно держать марку, иначе нельзя, и к коллегам, и ко мне это прямого отношения не имеет, это вообще параллельная реальность. Нужно научиться проживать эти роли разными, конечно, не пересекая чужих интересов и не выступая против системы, боже упаси. По правде говоря, для меня похожие декларации тоже звучат как мораль. Я прихожу, надеваю наушники, слушаю Брамса, делаю работу – получаю за это деньги, и почему я ещё должна играть в чьём-то «театре», не понимаю. Ведь каждый сам себе придумывает нужду чему-то соответствовать, а некоторые даже иногда лезут везде и кажутся ужасно озабоченными по этой причине, не думая, что выглядят неадекватно.
– Мы едем вниз? – робко спросила я, потому что я вдруг поняла, что ухожу отсюда в первый и в последний раз и молчать глупо.
Он, улыбаясь, покачал головой из стороны в сторону и сказал:
– Вверх некуда.
Я притихла, наблюдая за ним, и подумала, что у него в этих четырёх стенах нет выбора. Такой спокойный, видный, голубоглазый, красивый прямой нос – ископаемое! Небрежная трёхдневная щетина с рыжиной, светлая рубашка, синяя полоска, джинсы, холодное – деним, шик миллионера и бездомного – «смотри, детка, как я свободен!». Ах, эти голубые глаза, подтянутый, мужественный и милый. Он милый, вот и всё определение. Ми-ми. Соблазнитель. Такой человек. Как если бы одежда была сшита сложно, но ни одной ниточки господа придирчивые не найдут. Я сразу его вычислила. И даже будто он не хочет казаться, а только жить на вымышленной обложке журнала, как если бы он мог существовать собранным, как гамма, и если бы он цвёл, как вишня на радость всем, кто пришёл к нему. Как ходят японцы по весне любоваться сакурой, у них в языке такой глагол есть. Я уверена, возраст нисколько не портит мужчин – если в нём нет внутренних противоречий, всё расцвет…
Бицепсы, мужской аромат и взгляд свысока. Я делаю вид, что о чём-то задумалась, сама у себя спрашиваю как есть: «Готова ли ты, раба божья, умереть сегодня от любви к этому двуногому великолепию?» Боже, как бьётся сердце, щёки вспыхнули невозможно, даже думать трудно, как это называется… подбирать слова… собирать буквы, ясно думать… – ничего не выходит, я – затуманенное, неразумное. Это сказочное превращение? Я – Дороти. А ты – Волшебник? Как долго мы будем лететь в эту вечность? Тут что-то надо шептать, чтоб хоть как-то поддержать интерес к себе, и не показать виду, как мне страшно, и сказать, что меня сегодня уволили с грустью, немного сонным голосом… Вот бы в таком состоянии можно было бы ещё шутить, да какой там! Я даже забыла, куда еду, если бы не он… Зачем так сильно бьётся сердце? Пожалуйста, ровнее. Если заговоришь – то тихо и мало, меньше, чем знаешь, и не хвастайся! Он же не решит, что ты чересчур стараешься, перетопила, хочешь нравиться так сильно, как только начинаешь переигрывать не себя, тут всё: сразу – ложь. А вдруг у него сложится впечатление, что ты тихоня, гадкий утёнок, и это тоже правда. Некоторые умеют вести себя нагло и уверенно, но хорошо гремит только пустое ведро. Умоляю себя: никаких шуточек, никакого громыхания, не нужно историй – ни старых повторялок, занимашек, длинных очерков о детстве и пересказа кино-ошибок и интернет-приколов! Ровнее. Мы будем ехать долго – всю жизнь… Сердцебиение в горле, не хватает воздуха, офисный кофе всегда возбуждает, а мне бы чего успокоительного… поле маков, маковое поле всегда алое, ярко красное – растворится в лете сахарная нега, я на седьмом небе от чистого твоего голоса, и у него, этого тембра, кстати, такой же яркий оттенок – дурманный маковый.
– Э-э.
Он, медленно поворачиваясь к зеркалу, предъявляет мне самый лучший свой ракурс – рабочей стороной, как говорят фотографы. Звери мои, где вы?! Поднимите меня и несите, ведь я сплю – это сон с погружением в сладкое мгновение, когда ты вдруг знаешь, что схватил эти редкие секунды за хвост, обычно так нельзя, но тут можно, в любовном сне, примерно как сегодня. Унесите меня, ведь такие сны смертельны!
– Нажмите пятый, – сказала я дрожащим голосом, – пожалуйста.
Я вдруг вспомнила, какая неловкость – кажется, его зовут Владислав, Влад. Банально, но я бы тебя звала Волшебником. Пока беззвучно, затем, когда придёт время, – я смогу произносить это громко, я буду кричать, выйдя на балкон из твоей гостиной: ВЛАДшебник, ВЛАДелец, Владыка, Владуня, Владюсик, Владмир, да ты же Влад всея Вселенной, ёпть!
Ах, если бы ты знал, как во мне всё бунтует – не о том, не о том, мимо, я скоро уйду навсегда, нужно как-то пригласить тебя в сказку, больше знаков внимания – их вообще в жизни так мало, ну, давай, с головой – поговорите о чем-нибудь, только без банальностей! Трусливые львы, железные дровосеки, говорящая собачка, летающие обезьяны, они одни лишь реальны, все вместе, ребятки, спасайте, летим по лифту навстречу к моему волшебнику. Будем делать для него всё, что он любит, сегодня, завтра и всегда. У него чёткое имя и трёхдневная щетина, он мог бы быть моим союзником! А знаете, в моём детстве была большая чёрная собака, породы… не ризеншнауцер, но тоже с волосиками. Мы перебрали разные клички: Дорис, Берри, Трейсси, Бруно, Флеш, Тото, но мне нравилось Ричард или the George. Когда мы садились за большой стол обедать, папа командовал в сторону «младших»: «Кажется, Ричард недавно поел, или у меня плохо с памятью?» И мама передавала команду по кругу: «Ричард, за периметр!» И Ричард послушно отползал на жопе чуть-чуть – на десять сантиметров дальше от стола, а мы повторяли ему: «Ричард, дальше за периметр»! Он делал ещё десять сантиметров, этого хватало. А когда папы не было, мы надевали на пса его галстуки, кепку и трусы.
Лифт затормозил, дверь открылась. Он посмотрел на меня вопросительно.
– Я передумала, мне вниз! – виновато улыбаясь.
Получается, потянула время. Так получается.
Дверь лифта не хотела закрываться, пропуская невидимых пассажиров и всех моих зверей заодно. Это мгновение кажется таким длинным, когда ты осознаёшь, что он мог выйти на каком угодно этаже, но он всё ещё с тобой – «предмет» твоей невозможной радости. Будто бы кошку сажаешь на колени, а она ведь независимая, не любит директивных действий – иногда категорически против, а то возьмёт и свернётся калачиком, и ей почему-то хорошо. А ты знаешь, Влад, как бы я хотела назвать кошку? Грейс, Долорис, Барбара, Энди, Роуз, Розмарин или Дива! Когда-то в деревне у бабушки была кошка. Я помню, её принесли котёнком в два месяца. Бабушка бесцеремонно перевернула её брюшком, как в магазине: «Смотрите – это у нас Ксю-ю-юша». Я помню, кидает ей на пол целлофан от сосиски, а я говорю: «Бабушка, зачем её кормить целлофаном? Чтоб какашки сразу упакованными выходили? Может бы, ей еды надо?» И эта Ксюша всё время жрать хотела, но ей по деревенскому правилу кидали одни объедки или что-то подпорченное. Бабушка хоть и придумала ей ласковое имя, а не могла избавиться от манеры называть всех, кто не несёт яйца и не идёт на мясо, мордами и кабыздохами. Кошка как-то выкручивалась и постепенно выросла. Однажды утром на кухне стоит она на столе обеими лапами в большой миске с творогом – там, наверно, было килограмм – и ест жадно, заглатывает в себя большущими кусками, ещё больше: «Наконец-то… я всё это сливочное буду жрать-глотать, хоть пристрелите меня, всё равно буду». И мы с бабушкой такие, на пороге, немного онемев, и бабушка как закричит: «Воровка!» И замахнулась бросить в неё поленом. Я спасла её тогда, кошку, схватив под передние лапы. Мы улизнули в дальнюю комнату, она, облизываясь, дрожала от счастья, а я убаюкивала её, как куклу, тайно радуясь нашему общему успеху, и говорила: «Ксюшенька, ещё свои лапки оближи – они у тебя тоже в твороге». Я всегда считала, что кошки – маленькие люди. А потом в городе была кошка Сольбинка, она же Сольба, хотя ей больше подходило имя Розмарин. Такая аккуратненькая, умненькая и вся из себя чёрненькая с белой грудкой, как у артистки из немого кино. Винтаж. Я тоже думала, что она маленький человек, и мечтала ей нацепить красную бабочку, отороченную золотом, и как только надела на неё, на утро проснулась – а кошка исчезла, сиганула из окна. Я только по факту поняла, что дом пустой, лето, жара – окна настежь. Во дворе её не было, у меня так сильно сжималось сердце, весь день мне казалось, что я поднимаю голову, а на меня сверху летит пушистый белый животик с растянутыми как крылья лапами и красный галстук-бабочка на шее, с золотом. Она, как летяга, жмурится от страха и только лапы трепещутся на сильном ветру, от которого даже деревья гнутся и из ушей вырывает наушники с музыкой. Она, неудавшаяся Розмарин, маленькая меховая дурочка, летит с десятого этажа, не догадываясь, как это больно – шлёпнуться со всей силы. Мне становилось не по себе, когда я представляла, как она должна была расплющиться о землю, как бомба разорваться на кровавые куски. Это был кошмарный сон. Вечером я бродила по дворам, мне её, глупую, было так жалко. Я заглядывала в подвалы, под лестницы, под машины, даже в мусорку, где много этих «ароматных» тележек. Только когда стемнело, она выползла из тайника и начала мяукать громко и жалобно, и я её принесла домой. «Бомба» моя ожила, а бантик красивый где-то потеряла.
Мы едем в лифте целую неделю, падаем и падаем, растопырив невидимые крылья. Есть такое чувство, когда держишь в руках тяжести, на плече – сумка, ноутбук, и голоса в голове – тоже такая тяжесть, как плохая музыка: «Ты уходишь? Как жалко! А почему? По какой причине? Сколько лет! Не переживай, всё только начинается!» – голоса, всюду призрачные голоса… Хотя догадываюсь, что через пару дней обо мне уже перестанут вспоминать – ведь этот офис, как и любой другой, – человеческая мясорубка.
Лифт дёрнуло, меня затошнило кофе, головокружение. И кто-то в моей голове снова заговорил с тем интересным мужчиной: «Эй ты, мой попутчик в лифте, красивая модель человека, ты хотел бы узнать всю правду? Ведь никто, кроме меня, тебе её не расскажет – есть ещё половина пути – твой единственный шанс ожить в этом мёртвом доме. Хочешь или нет – слушай, ты мой заложник, пока не приедем вниз или пока я тебя не расстреляю из невидимых пушек, сучьё ты высокомерное, бессмысленный омертвевший памятник имени Ленина.
Итак, по порядку: я не люблю зонты. Утром я шла на работу, не догадываясь, какой это будет трудный день. А к вечеру громыхнуло – казалось, что вот-вот с небес должно хлынуть. Схватила у двери такой некрасивый зонтик компании, в которой будто бы ты и я вдвоём работаем, хотя теперь это вообще не так. Ты добился заоблачных высот, очевидно своей внешностью, высокомерием и уверенной хитрожопостью (стандартный набор), а я… меня сегодня уволили – вот почему это трудный день. Зонтик… четырёхлистный, четырёхсюжетный, четырёхчёртовый синий зонтик с четырьмя спицами… Некрасиво. Неловко. Инфернально… Однако собирался нешуточный дождь, я, убитая, шла по коридору и думала, что лучше поторопиться и вызвать такси. Ты, нажав кнопку, держал дверь открытой, потому что увидел меня. Тут подскочила я. «Ты со мной?» – «Что за вопрос, красавчик! Да это не ты со мной, а я с тобой! Уедем, куда прикажешь!» Ты измерял взглядом, а я хлопала глазами, всего одно мгновение – всё уже было решено, так же как и новое руководство нарисовало свои «расстрельные» списки три месяца назад и держало всё в страшном секрете. В лифте моё настроение улучшилось. А ты, наверно, подумал: «Красавчиком меня давно никто не называл, и это не совсем так… По рангу не положено, но приятно, поэтому, пожалуйста, продолжай, пока нас никто не слышит, красавчик так красавчик – хоть мы и на работе». А я подумала: «Боже! Абсолютный красавчик». И совершенно забыла, что сегодня особенно плохой день. Мне кажется, я тебя принимаю как себя – у тебя случаются возвышенные настроения, как у каждого мещанина, и тебе примерно раз в неделю хочется купить новые часы Swatch – хорошо и недорого, так, чтобы с подчинёнными, с этими лояльными сучками, держаться ещё строже и значительно холоднее. А безработная сможет жить на эти часы целый месяц. Я просто не хотела мокнуть. «Мы едем вниз?» – Тупейший вопрос, но он прозвучал не так уж бессмысленно, учитывая, что жаловаться малознакомому человеку я не могу, а продемонстрировать свою фрустрацию имею право. В лифте ты был тих и корректен, ни грамма сомнения, нисколько, ни о чём. А я не вижу в тебе притворства, не то что лизоблюдства или этих кошмарных манер… но ты всё равно часть этой долбаной системы. И ты сдержанный, и аккуратный, и ни разу не вспомнил про рабочие склоки, футбол или, не дай бог, доктора Хуса. Это был бы провал! Да ты вообще помалкивал, что меня и радует, даже страшно, что я втрескаюсь, потеряю голову и ты будешь вить из меня верёвки ближайшее время, пока всё не наладится. Ты тут крутишь головой, как на фотосессии, – я почти влюблена и растеряна. Я сбрасываю маски! Я – обычная девочка, а ты – просто мужчина – соломенное пугало, имеешь наглость просить у меня «мозги». Мои мозги взамен на чувства. Молчи, красивое ничтожество! Волшебник страны Оз, ты немилосерден, но ты исполнишь все мои желания, при условии: девочка должна доказать, что она этого достойна. Кое-кто даже направил на меня проклятье, чтобы лишить боевого духа, и списал меня! Да мало ли в природе помех! Приняли-уволили, снова приняли – вся возня вокруг того, чего нет. А есть одно только моё чувство, и я не вынесу твоего обаяния, ты подхватишь меня… и это реальный шанс сегодня узнать, какого цвета твоя спальня. А завтра на работу мы приедем вдвоём, и все будут шептаться, эта та самая бывшая сотрудница, не прошло и ста лет – теперь она твоя подружка!
Лифт, издавая глухие звуки, стал притормаживать, видимо перед первым этажом. Стоп. И стало тихо на мгновение. Волшебник как-то поник и выглядел уставшим.
– Я должен вам сказать, что… эээ, я… это было моё решение – вас уволить. Может быть, вам это и не нужно знать… сокращение коснётся многих.
И он, опустив голову, вышел.
Собака! А какая была ми-миленькая собачонка… Да нет же, просто дворовая говняная Тото, в которой настоящего только блохи. Капиталистическая шлюха. Это же была не сказка, ведь я не ошибаюсь?
Я вышла на улицу. Ливень кончился, над сквером взлетели голуби – их было много, они резвились в закатном солнце, как дельфины в тёплой воде, – ансамбль, танцующий в небе без музыки, точнее, под музыку волшебного часа, когда человеческий глаз всякий раз с неизменным удивлением видит самый выразительный вечерний свет. Это было очень красиво – то на одну птицу попадает оранжевый, пока у других спинки чёрные, то на другую, а потом они белеют, и вдруг, резко подрезая первых, пролетают сквозь луч и становятся апельсиновыми с мокрым, каким-то праздничным блеском – и так они кружили долго в своей идеальной геометрии, столько, пока я смотрела в небо, онемев от этой простой свободы. Тогда поняла, что мне нужно домой. Дороти – это та, кто вернётся счастливая домой.
А голуби кружили и кружили, и всё у них было отлично.
2016 г.Подрыв кадра
Она широко распахивает глаза большими вишнями. Ресницы всегда накрашены так аккуратно, они взлетают вверх до самого неба и потом вниз. В ней есть что-то от клоунессы, но без актёрского притворства. Она пышка такого маленького роста, и это делает её как будто бы наивней, но вопрос открытости её не беспокоит, она просто хочет нравиться тем, кто к ней приходит по делу и просто так.
Мы знакомы давно и поверхностно, по случаю, как коллеги из соседних отделов. И она всегда была такой пухленькой и с походкой ребёнка. Многочисленные богини-начальницы и самый главный питерский босс, от кого многое зависит, записали её во второй сорт, мол, простовата, не дружит с английским, не карьеристка, не леди, не фонтан. Так и говорили: «Пока мы тут «десижен-мейкеры»[1] – она роста не получит». А что считать этим, как они выражаются, ростом? Чуть больше денег, а всё остальное – режим приходов и уходов, горы бумаг, переработки и оскорбительно короткий отпуск, приседания перед генеральшами, дабы улучшить «визибилити»[2] (как можно любить это визжащее слово?). Выйди на улицу, а там – вялое московское небо и вялое московское метро, забитое недовольными лицами, сопли по осени, и всё это, очевидно, навсегда. Я много раз после шести видела, как она идёт одна до метро, устало, обречённо. Маленькая пухлая фигура и твой рост – тоже навсегда.
Она в тот день пришла попрощаться. Был полдень. «Я всё», – сказала она очень сдержанно. Мы вместе подошли к лифту, я вызвалась её проводить. Вот так это и происходит: «всё» или «ну всё». Радикальная линия отрыва. «Как?!» – «Меня сократили». – «Зачем?! Ещё два месяца!» – «Нет – сегодня». – «Не может быть! Ты расстроилась?.. Ведь это безобразие». – «Нет – уже смирилась, держусь. У меня мама тяжело болеет, я постоянно должна быть с ней – то по врачам, то в больнице. Эти врачи… они мучают маму исследованиями, а ей только хуже. Я потратила все сбережения на мамину операцию, которая, как оказалось, была не нужна. Разрезали и зашили. Что-то вроде «проверки вероятности». Видимо, так совпадает, всё одно к одному». – «За это же не увольняют!» Она, задумавшись, опустила глаза, хлопнула ресницами и нажала кнопку лифта. Всё это грустно: трудись двадцать лет, ничего не требуй и уйди тихо, не пикнув, не оставив следа. Лифт где-то застрял. Что вертится в её рыжей голове? Оправдания? Или логические ряды: работа, больница, теперь работа в больнице, мама, ты уже не молода… сколько же лет прошло с тех пор, когда я стала главнее, когда и я уже немолода, вдруг так решительно… Как жить дальше, как исправить возраст, хоть чуточку поменьше, чем сильно за сорок… Сократили одним днём, черти… И ведь сами такая же срань господня! Уже не время ли думать о работе, да ты ж не бизнес-леди, не фонтан.
Я смотрю на её поникшую фигуру… Когда-то мы всё потеряем. Мужа нет. Нужны деньги. Нужны постоянно. Я с ужасом думаю, что мне когда-то тоже будет пятьдесят и потом шестьдесят. Я чувствую боль внутри, мне её жалко, и вместе с этим я понимаю, что всё неизбежно. Любой может оказаться на этом месте, хоть завтра. Также придёшь, а тебе скажут – это не прорыв и не победа. И, вообще, есть ли другая жизнь? Что вот это такое среди кабинетов и людей? И почему-то оно с каждым днём кажется всё более близким и естественным. Такие мысли разрушают. Я не имею отношения к кабинетам, ведь я здесь случайный человек, и мне на самом деле всё равно, что вы, коллеги и начальники, думаете, что вы хотите и чем живёте. Тем более что и рассказать вам особенно нечего. Так – пустой трёп, интершум – нефть, политика, чаще о ремонте и домашних покупках, подробные рассказы о том, как припарковался или как съездил в отпуск, что едино – полнейший тлен. Преференции, ожидания, зависть к чужим премиям, твой гнев и твоя обходительность, расчёт на рост благосостояния, и порой – «а вдруг всё уляжется» – это только твоя роль в социальном театре, то есть спланированный обман. То есть не суть, не твоё родное и вообще не твоё. Типичное не то. А где ты – подлинный? И где истинная жизнь?
Когда-то она рассказывала мне, что начинала акушеркой в центре планирования семьи на Обручева. Это была мирная профессия. Конечно, сложная, но во многом приятная – детские щёчки, благодарные бабушки, папы, цветы… Потом настали варварские девяностые, жизнь пошла сложная, все стали бухгалтерами. И она, окончив заочно плешку, стала тоже бухгалтером. Вот и вся история – двадцать пять лет будто бы пролетают в момент нажатия одной лишь кнопки лифта. Точка невозврата, где обнаруживаешь себя совсем не той, не там и кажется – уже слишком поздно, чтобы быть такой одинокой, правда, есть ещё мама…

