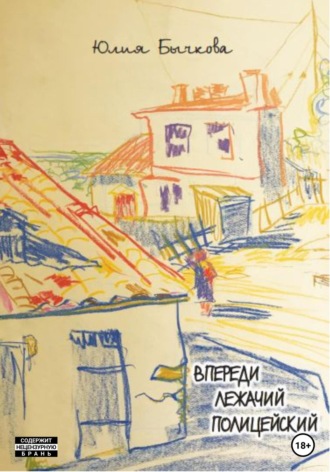
Полная версия
Впереди лежачий полицейский
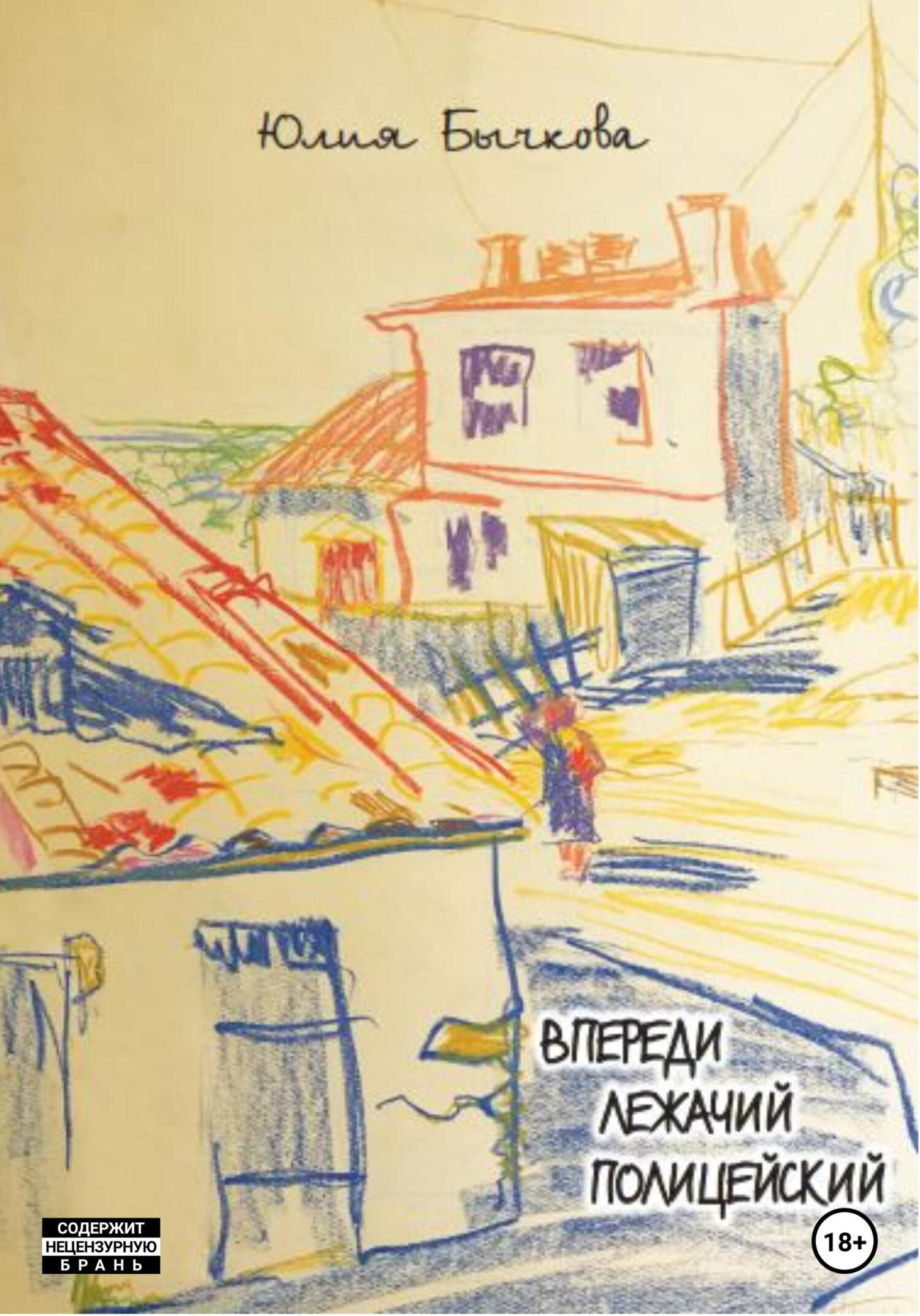
Юлия Бычкова
Впереди лежачий полицейский
Цикл «Белым по чёрному»
Перспектива лохматого зайца
О боже, дрянь! Надень перчатки, прежде чем рыться в моих преосвященных вещах, прежде чем копаться в моих конец каких золотых приисках лабутенов и, еб* его, лавендуччи и говносруччи. Вы будете отделяться, а я – отделять. Перчатки нужны, чтобы не пачкать мои чудодейственные вещи вашими бедными таможенными руками. Итак, отделить вас от моего гнева и от моих самолётов, как их там называют, небесных лайнеров, от моей дрянной золушки, воспитанной на преодолении обыкновенной судьбы и примитивной надежды. Я всё ещё думаю, что я – избранная дива, прилетевшая из Америки, Аргентины и Антарктиды командовать, никому не прощая вольности. Да, у меня тоже есть начальники – европейцы, эти тупые евродурки, они так же, как и я, думают, что вы все тут креветки глупенькие, существуете с памятью две секунды, однако я от них завишу, поэтому их уважаю, хоть они и строго-настрого запретили проявлять инициативу в чём бы то ни было и особенно передавать исходные коды, ибо нефига размандюкивать имущественные и другие права праведных акционеров. И ещё нам не следует заниматься коррупцией за зарплату и вообще ничего делать бесплатно. Ведь так устроен этот свет. Хотя не понимаю, почему бесплатно, нас за это крепко накормят в ресторанчике, вероятно, и напоят крепко…
Короче, я – гениальная, дайте мне грамоту и ещё больше денег, ведь это я придумала не передавать коды, а просто показать их на большом таком экране, как хотели наши партнёры. Ну как же это весело, как, заебись, грандиозно обманывать самих себя: берёшь и жёстко порешь полное фуфло, но так, чтоб самой себе поверить! Провести все свои дальние дали, что есть, называется совесть, – вот она, цель. А Европа не догадается. И даже обломись чего-то этим нашим мальчикам, которые генералы в чести и без царя в голове, русская мафия, матюгающаяся по какому-то праву постоянно, они же не будут против. Ибо ведь они не зря ходят по карьерной лестнице, щедро покрытой жирным слоем льда, похожим на сахарную глазурь, присыпанную снежком новогодним, отчего ступеньки источают мозгосотрясающий страх и зубодробильную боль, питаясь скользкой любовью к деньгам и наслаждением упоительной силой власти. Это страшные черти их манят вверх, назойливые и дерзкие, оказывая всякие почести, очаровывают обещаниями, прикармливают карпаччо и севиче из сырой рыбки – ах, как там её стряпают, трудно даже запомнить; угощают тончайшим прозрачно порезанным сальцем и севрюжкой на гриле. Всё чинно, это вам не икра кабачковая с нижней полки супермаркета. Хотя, если приправить майонезом и чесночком, с хорошим настроением намазанная на горбушку чёрного и она бывает вполне себе очень, так слюнки и потекут. И да – лестница эта совсем без перил. А вы как хотели? Дьявольская сила работает не только вверх, но и вниз, и в стороны. Все Демиурги ночные, ваши друзья с прищуром, всех ведьм выслеживают тщательно – согласно договору. Пусть хотя бы и с напускным добродушием, но лёд нужно содержать в идеально скользком состоянии, необходимом для колдовства, чтоб был порядок – происходила смена времён года, а челядь помалкивала. Чтоб неудачники регулярно сыпались вниз, кто помощнее – выползали выше, впиваясь ногтями, ломая их больно, преодолевая унижение и ужас, и всё такое, и так далее, пролезая однажды на самый что ни на есть высший верх. Право слово, перспективная эта штука – любовь, а любовь к деньгам тем более!
Всем добрым компаньонам и собутыльникам про ледяную лестницу также хорошо известно, потому пусть прильнут лбами к экрану – увидят свои исходники, им, конечно, просто нужна стратегия, до которой им, тупым, догадаться сложно, но здесь это вслух произносить не стоило, и шарах, хитроумные, сделайте лица попроще – мы ничего не передавали, а вы, твари, ничего не видели. Просто тупо, как последние незнайки из солнечного города, – взяли и случайно собрались на семинар и совершенно неожиданно включили на экране исходные коды вместе с архитектурой – вот, лунатики, гляньте, вы ведь не способны врубиться, что за чем было построено. Эти блоки маршрутизации, такие прочные, и как они во времени-пространстве существуют самостоятельно и гармонично… Правда же офигенно! И тут гневные вскрики: «А кого мы хотели наебать?!» Да никого, товарищи, просто передали секреты и денег за это не взяли (всем говорим, что не взяли). Да что там деньги, мы только любим своё дело, себя, и полёты наяву, и свою покупательную способность, и себя, и способность, и себя, и себя, а потому что мы онанисты-капиталисты, мы – бессовестные мошенники, всем вам классовые враги, владельцы всего, что есть в этом здании, и даже в клозете. Известное дело, вы бы посетили и другой такой клозет, но вакантной возможности, увы, нет. Итак, мы будем говорить, что это наше дерьмо, ведь вы пользуетесь корпоративной туалетной бумагой, купленной на наши «сраные» евро-деньги! И да, это правда, «деньги» – лучше это слово произнести негромко, ну его на фиг. Ведь, когда всё не очень заебись, можно в них тайно купаться и достигать общего улучшения изобильным питанием. Приятного аппетитца, пока ваше хреновое, но честное резюме не рассмотрел кто-то другой!
В общем, когда настала роковая дата, этот гениальный чел заболел. Сказал, что не выйдет на работу, но многое в его уникальной голове пока ещё наличествует, естественно, пока он жив, даже если он и болен. Нет, он не чародей, и он не стремился обеспечивать себе преимущество, но компьютерный код был известен только ему. Вот и всё. И когда был назначен день этого важного семинара, постепенно переходящего в конгресс, а затем и в межконтинентальный симпозиум, и должны были съехаться все заинтересованные руководители и эксперты из Тулы, Нижнего и Питера, и даже, может быть, Новосиба, как вдруг он, по правде говоря, мучаясь совестью и с большим трудом договариваясь со своими внутренними предателями, вдруг сильно заболел, не выдержал и подхватил пневмонию, ибо любил всегда поступать справедливо и не передавать даром то, что нажито непосильным трудом. Как бы это назвать с должным пафосом… не разбазаривать всё, на что ушли лучшие годы, лучшие силы, даже если он об этом тогда и не подозревал.
Примечательно, что кто-то очень хитрый и борзый получит за эту неоднозначную сделку конкретные ощутимые привилегии, смысл которых до сих пор держится в большом секрете. И это явно не стодолларовая прибавка к жалованью, иначе бы они так сильно не бились, не упорствовали.
И вот ситуация: это дерьмо вроде бы его, архитектора, не касается, однако чем больше оно его не касается, тем сильнее разъедает внутри что-то важное, сущностное и, может быть, даже абсолютное, что-то такое скрытое, бессознательное и настоящее, как день рождения, как резкую тень на стене от твоей руки в лучах закатного солнца, и всё то, что делает тебя человеком, созидателем, даже новатором и, можно сказать, свободным мыслителем и творцом, подобным богу – такому богу, который никого не боится и творит, потому что не может не творить, и создаёт всё вокруг себя, потому что счастлив видеть, как получается лучший из миров. Где-то оно так и есть, не слишком постоянно, но, в сущности, так и есть. А они, сатанинские отродья, могли бы жить в изрядном достатке, не зазнаваясь, но нет, их изменчивые, но твёрдые жизненные правила требуют не забывать о благотворном разнообразии и собственной выгоде в быту, поэтому для жалких душонок всегда говорится, что нет ничего важнее подчинения, и добавляют жёстко так: «Не было бы нас – не было бы вас». И это на полном серьёзе! Такая игра очень развивает их величие, главное, не выходить за пределы высоких моральных амбиций, широких, но узких интересов родной группы. А победителей не осудят.
А дива, та, что с перчатками, предчувствуя нехорошее, потребовала срочно поднять на уши районную поликлинику и проверить «факт грубого саботажа», правда ли «этот подлец» болен или только купил больничный лист в переходе метро и сидит где-нибудь греется на солнце. Затем она даже сделала несколько контрольных звонков с угрозами, дабы все вовлечённые хорошенько испугались «вылететь», как она выразилась, «по статье».
– Придёт время, я с вами покончу! Вы сами мне всё расскажете!
И они, конечно, пугались, и даже те, кто в компьютерных кодах ничего не понимал. Ведь она очень грозно требовала, орала, как настоящий полковник, в жопу раненный, сведя на нет все свои нравственные качества, но это её вообще не смущало, поскольку поорать она очень любила, и малая группа из крупных шефов была не против. А те, испугавшиеся, пытаясь смягчить её гнев, очень по-доброму сказали:
– Столько шума из ничего! Да покажет он этот код. Жалко, что ли?
Так не хочется ссориться с глупой бабой, ведь и у самой дурной из них найдутся качества, полезные для мужчины, этого отрицать никак нельзя. Так они хитро думали, масляно улыбаясь, но вслух не сказали, потому что это была солидная компания. И именно в этом году она получила даже мировое признание на каком-то там рынке. Это ведь что-то да значит! Без сомнений. Это явно о многом говорит!
Но тут намеки лучше оставить, лишь бы выйти из этой переделки с достоинством. Не ровён час, дива снова разгневается, начнёт «мылить» письма и кидаться чем под руку попало. Ведь она моралистка, из тех, что только для вида торгуют добрым именем, так запросто, словно имбирем, а по ночам, чует сердце, может совершить даже что-то незаконное, так, для благости… А потом с утра снова сражаться с карьерной лестницей, не видя ничего лучше такой судьбы. И для поддержания суперстатуса постоянно увеличивая покупательную способность, день ото дня и каждый вечер удваивать объёмы покупок и получаемых услуг. Она всенепременно должна была приобретать ещё больше вещей – обоев, кондиционеров, пошлых маленьких, но неприлично дорогих сумок, больших и тяжёлых автомобилей, труб, кирпичей и тёплых полов, стометровых квартир с шестом для стриптизов в просторной прихожей, много обуви и резиновых щёточек для ухода за ней, и прочих мелких знаков отличия, и далее, и по новой в таком стиле… Такая вот дурная бесконечность – словно проклятье.
А он, предаваясь философским размышлениям, благо времени на это было полно, никак не мог понять, как это они так легко, будто бы даже естественно, делят всё пополам по двоичному принципу, а по сути – грабят, даже грабастают. Куда взгляд ни кинь – наши и ваши, лояльные и чужие, и почему-то кругом правы только те, у кого власть и кто в эту власть пылко влюблён, а остальные – автоматически беззащитны, их держат на поводке, чтобы ими прикрыться и затем выкинуть после дела. И это, с позволения сказать, в общественном договоре широко распространено, и будто бы это так и надо!.. Может, мы сами виноваты, что подчиняемся любой глупости, если она звучит уверенно? Может, кто на кого учился, тот так и живёт, а точнее сказать, кто кем родился? Ведь всякая тварь развивается сообразно своей природе, как бы сказал Дарвин. Или не Дарвин?.. Но это имя звучит здесь абсолютно уместно.
Архитектор закрыл глаза и незаметно для самого себя уснул от непреодолимой усталости. Плавно, как в лифте, погружаясь куда-то глубоко, он увидел такой сон, словно бы обнаружил себя одиноким Робинзоном на острове. Сначала он стоял и долго всматривался вдаль, наблюдая, как беззаботно мерцает апельсиновое солнце в воде, затем он медленно брёл вдоль берега. Под ногами хрустел тёплый песок, высоченные деревья слева приветственно махали ветвями, словно сказочными руками, вскидывая их по очереди, в том порядке, в каком он к ним приближался. И голубой ветер шумел изо всех сил, издавая звук: «Привееееет!» И ему вдруг стало очень хорошо, оттого что этот пустынный берег оказался таким наполненным и гостеприимным. «Так, выходит, вы меня ждали?!» И он тоже помахал рукой, и почувствовал трогательную такую любовь к этим деревьям, и к ветру, и к морю, такое забытое переживание, будто что-то сжалось в груди, как когда он спустя тридцать лет нашёл в родительском доме собственную смешную игрушку – лохматого зайца и две поделки – вышитую «назад иголкой» голубую салфетку с одним цветком и надписью детскими буквами «маме» и кривой деревянный брусок в виде треугольной призмы с выжженным домиком и надписью «папе» на модном тогда аппарате для детского творчества, который раскалялся докрасна, и тогда от деревяшки струился едкий дымок. От него щекотало в носу, деревяшка оплавлялась и чернела. И от этого сжатия в груди всё становилось таким родным, таким, что невозможно было объяснить, как получилось, что эти трогательные вещи были преданы. Как?.. А если бы он забрал их в город, это бы выглядело крайне нелепо, и потом, меняя квартиры и города, никогда бы их не сохранил. А они… почему они всё равно остаются, эти напоминания из того ясного времени, когда твоя уже крепкая мужская рука ещё принадлежала милому шестилетнему мальчику?
Так он долго брёл, проваливаясь ногами в песок, и вдруг понял, что стал одним целым вместе с природой, дыша одним воздухом, наполняясь общим настроением, будто кто-то главный напомнил ему, как же всё вокруг на самом деле едино и потому божественно. Ведь если бы вещи в нашем мире возникали каждая сама по себе самостоятельно и бессвязно, то никогда бы они так хорошо не сочетались и не уравновешивали друг друга. Всё выглядело бы подобно залежавшимся товарам в заброшенном магазине. А здесь ведь всё едино! Значит, ты никогда больше не будешь таким, как прежде, – брошенным или, как бывало, одиноким! Ты станешь цельным, огромным, как этот берег, как мир, в перекличке повторяя всю его сложную красоту. Хотя это ошибочно, думать, что ты станешь, ведь ты им и раньше был – подлинным, непридуманным, когда родился, рос, бегал с друзьями, весь пропитанный зелёными и оранжевыми бликами, морским бризом, радужными птичками и музыкой. Как радовался, получив в подарок лохматого зайца, разговаривал с ним, как с другом, да и с деревьями ты тоже любил разговаривать. Ведь это же так естественно.
И тут архитектор, наполненный этим новым восторгом, вдруг понял, что слишком давно он не был таким живым, неделимым и таким искрящимся, и ему захотелось петь прямо во сне, раздавая энергию повсеместно. «Па-ба-ба-баам!» – запел он Бетховена, и сам от своего голоса проснулся. Сколько длился этот сон, минуту или час, неизвестно, но он почувствовал себя отдохнувшим и здоровым.
Он открыл глаза и вдруг понял: «Так что же получается, когда потеряно всё, кроме чести, ничего не потеряно?!»
Он спокойно решил, что, в конце концов, уволиться можно всегда, не теряя самообладания. Это, как и смерть, даётся даром. Когда пробил час, через неделю гений уволился, а исходные коды остались в его голове.
2016 г.Чистая вода
В центре улицы красовалась длинная аллея кожистых нежно-розовых олеандров в цвету – поразительная цветочная легкость, хоть они были выше домов, элегантно прижимаясь к тротуару, словно они садовые розы, а не деревья. Велизи настолько зеленый и воздушный, будто ты находишься в каком-то парке, и поблизости море, окутывающее улицы удивительным соленым вперемешку с хвоей ароматом. Наконец-то можно дышать.
Утром захотелось пойти пешком, даже несмотря на проливной дождь. Трамвай долго не появлялся, небо замерло бетонно-хмурым. У них на остановках всегда обозначено время, сколько тебе ждать: минут пять или шесть, умеренно, не более, чтобы выкурить сигарету или побыть с собой ранёхонько – вспомнить какую-нибудь глупость, как ночной сон, что всегда хочет быстрей забыться. В прошлый раз мы были приглашены на «званый» ужин в одной простой, но приличной по местным меркам пиццерии – здесь недалеко на широком перекрестке. Странное сочетание окраинной заурядности с невозможностью отказаться от мысли, ты же в Париже, всё равно в Париже. Поразительные местные порядки, когда начальница настаивала на ужине, задолго заказав столик на один из вечеров нашего приезда, но не выбрала себе в меню ничего, разве что чистой воды. Мы сидели впятером и пили неизменное Бордо. Через некоторое время принесли большие тарелки с горячими салатами, а она вдруг сказала, что муж без нее не сядет ужинать, есть она ничего не будет, и пить тоже, потому что за рулём. Французская притязательность. Выждав еще чуть-чуть, примерно через час извинилась и ушла, шепнув с краю стола, что заплатит за одну бутылку вина. Ужин. Муж. Он её не поймет. Но теперь поймёт, но не поймём мы. Культурная чехарда. Мне это показалось крайне необычным, но коллеги сказали – всё по-французски естественно, то есть в норме и по этикету. «Не парься»: relax.
Я прошла остановку мимо, где стояли двое – один чернокожий, другой чернявый худой, типично французский флегматик, глаза вцепились в асфальт, а в них страх. Они оба сильно как-то страдали – в юных лицах такая фрустрация, тоска и уныние: работяги в восемь утра обдумывают свою неблагодарную работу на ближайшие пятьдесят лет или клерки представляют ненавистное совещание и аудит. Но, скорей, они больше похожи на работяг, причём с разных строительных объектов одинаково больших и пугающих, таких знакомых, что походят на московскую экспансию, так сильно поглощающую любого маленького горожанина, что хочется уйти от них поскорее прочь. Ну, его, своего хватает. Тут тоска какая-то незнакомая.
Мое путешествие началось вчера – когда я заплутала на станции метро Гар дю Нор – узкие ступеньки на платформу вниз словно в запретные подвалы, плохо читаемые мелкие вывески, темень повсюду и огромное количество чёрных лиц, как в Африке, точно в самой Африке только такое и возможно. Это надо было поезду вдруг остановиться: «поезд дальше не пойдет»! Я направлялась на самый юг, с пересадкой на Сен-Мишль, там, за рекой, а потом мимо Д’Орсе, мимо Ренуара и Эдгара Дэга. Гар дю Нор, как мне потом сказали местные, это просто исчадие, «ты попала в самое пекло, хуже трудно придумать». А я сказала, да не так уж там было ужасно, был белый день, пока я перепрыгивала через узкие ступеньки переходов, почему-то думая про черных балерин из музея Д’Орсе, как я неуклюже взлетаю с рюкзаком и комьютером Grand temps leve passe. И о том, кто же меня больше привлекает, Сезанн или Ренуар (ответ неочевиден, но Сезанн). Не сразу, все же я нашла нужный поезд, ощутив маленькую победу. И отправилась дальше, когда было ровно двенадцать, подумав, вот оно самое время погулять по Парижу, подняться на башню, потом доехать туристической дорогой до Версаля, где по расписанию кажется около пяти, обещают светомузыкальное шоу. Но одной всё же ездить в тематические места рискованно только потому, что ты можешь неожиданно поменять маршрут, ни с кем не согласовывая, даже не обсуждая. И Гар дю Нор в мои планы не входил, только погрузил в фрустрацию, пока погода за окном уверенно портилась. Тучи сгустились совсем низко, заморосил прохладный дождь и всё пошло не так. У башни Эйфеля была беспросветная стройка: заборы и перекопанные тротуары, не подойти. Кругом назойливые чёрные с сувенирным хламом, так, что башня мне даже показалась какой-то уставшей, придавленной мрачным туманом. Сделав круг по другому берегу, и по старинному мосту Бир-Хакейм, я вдруг подумала, а ведь это тот мост, где снимался фильм «Последнее танго…», там, где они расходились вдоль тяжелых колонн с отливом зеленой меди, она была в фетровой шляпе с цветками и белом пальто, он – красивый такой, взъерошенный. Знакомое место… и самая запоминающаяся кино галерея. Я всё думала, как это странно, что недавно будто также случайно пересматривала Бертолуччи, но неужели Мари и Марлон они могли здесь так же, как я гулять…. Это чувтсво родом оттуда, будто Париж торжественно-долгожданный, даже будто хорошо знакомый. Я остановилась оглядеться, мимо промелькнул черный велосипедист, я обернусь в его сторону. И если дальше пройти туда мимо Ситэ до острова Сен-Луи – там, где на мысе расположился зеленый сквер из рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола». То там… Наверно такая же была праздная прогулка с фотоаппаратом на шее, о которой позднее Антониони снял свой шедевр Blow up, переместив, правда, действие в Лондон.
Потом он все же разразился – сильный майский дождь, мне пришлось спуститься в метро, ошибиться и уехать не на том поезде. За границей этот неприятный номер случается часто, если ты не знаешь названия последней станции по ветке движения. А ты его точно не знаешь. Этот ехал в Сен-Дени. Но я не сразу поняла в чём подвох: пустой поезд, ни одного туриста, да ещё повернул за реку, изящно так втиснулся в узкий просвет между домами на другом берегу.
Для нашего человека это так просто – сесть, не глядя в поезд метро, которого ты ждёшь двадцать минут, и он никуда не свернёт. Но мне пришлось возвращаться; и снова долгое ожидание в пустом холле, где метро без стен и вообще без холла. Я на станции Авеню дю Президент Кенеди, с ударением на последнем слоге, как тут принято, какие-то катакомбы под старым мостом, холодный пустой тоннель, такая станция – без станции. Железобетонные колонны, небрежно расписанные краской из баллончиков – не мудрено, тут даже служащих нет, не метро, а брошенный промобъект для киносъемок. Что это за место такое…. Я сидела совсем одна на пластиковом сиденье без спинки, одно слово – неловкость. Вспомнила про мою тётку из деревни. Как-то они с подругой приехали в Париж туристками. И у неё около башни выхватили сумку с плеча, она пыталась её силой удержать. Грабитель несколько метров протащил её по асфальту, но все же, вырвав сумку, убежал. Тогда они отправились в полицию, на допросе через переводчика им говорят: опишите. И тут они сильно задумались – как описать убегающего чёрного? Она много лет и до сих пор разводит руками, вспоминая со смехом эту криминальную историю: «Вот ведь, как его можно описать? Негра и негра.» Сумку вернули через несколько часов без потерь. Им пришлось только полдня провести в участке, отказавшись от некоторых экскурсий.
Наконец, пришёл мой двухэтажный поезд на Версаль – чуть более удобный, в таких всегда есть искрящиеся любовью к прекрасному туристы, «фотики» на шее как в Фотоувеличении, и лица заинтересованные. Заинтересованные в Париже.
Дождь пошёл ещё сильнее. Я села в электричку, в предвкушении длинной дороги от старинной станции Версаля до желтого Версальского дворца. Представила большую площадь с автобусами, вулканических пород массивную брусчатку под ногами и опять эти назойливые чёрные с сувенирным мусором – «мадам бонжууур, бонжууур мадам». Из всего этого загородного пейзажа, я бы хотела снова увидеть торжественную аллею гиганских платанов. Она растянулась на несколько километров на подъезде к Дворцовой площади, так что по дороге ты заранее начинаешь превращаться в кого-то большого и важного. Если есть сомнения, что деревья оживляют, нужно проехать по этой аллее на чём угодно, хоть на драндулете, вы почувствуете себя королевской особой – уважаемой фигурой. Их будто вырастили для вас, выращивали последние двести лет, когда еще вас и не было, не было ни ваших тёток, ни дедушек никаких – вот такая исключительность! А что, если вдруг они и были для тебя посажены? Сегодня это будто для тебя. Они волшебные, не наш лес, они огромные – как три русских дерева одно над другим. Стволы серо-пятнистые с зеленовато-ботолтным глянцем, как шкуры больших животных. Они точно живые.
У ворот Версаля толпилась полиция, парк оказался в это воскресенье закрыт. Я должна ехать в Велизи, раз уж ничего не сходится. Сначала на автобусе, затем на длинном трамвае, ожидая каждого дольше прежнего – бывает такое от отчаяния, когда знаешь, что, например ты теряешь время в пробке – хоть пару часов, а день как-то автоматически летит под откос. Хотя можно было вызвать Uber, а там в белом-белом Renault мог бы быть болтливый маленький алжирец – пятьсот слов в минуту, или лучше грациозный черный с грустным взглядом и тонкими изящно изогнутыми пальцами на баранке, ни слова по-английски.
А «вечер никак не наступал» – это фраза Кортасара. В трамвае внимательный русский пассажир подсказал, дорогу к моему отелю. Я очень удивилась, что он понял по мне, что я не «бонжур мадам». А он так страстно моргал, когда мы проезжали мимо вывесок и множественных нечитаемых французских указателей. С ним случилось такое эмигрантское «счастье», столкновение с родиной, будто встретилось что-то необычное, он даже не спросил из какого я города. Как много у них ностальгии в глазах и такого забытого у нас соучастия. Он заговорил со мной первым, будто оправдывался чисто русскими словами, что они тут все очень непонятно понастроили, и этому нет конца и края, и столько запутанных дорожных «лепестков», словно завязок, а не развязок, что заблудиться легко и пешком, и особенно на машине. Я выходила на какой-то маленькой улице – La petit rue, а он продолжал что-то говорить, перегнувшись и выглядывая в закрывающиеся двери трамвая. Он так хотел ещё поболтать, рассказал бы мне про политику ассимиляции и неприязнь к чёрным, как они в офисе при слове «работа», угожают обвинить тебя в расизме, рассказал бы про особую французскую депрессию, от которой якобы лечится каждый второй. А я бы спросила, давно ли он тут и чем занимается, а он скажет, что сильно скучает по соотечественникам. Но я совсем измученная длинной дорогой, этими майским «церемониалом» в Версале и метро, я только кивала и мучилась мыслью, как смог распознать, что я русская – незаметно подсмотрев надпись (надо всегда быть очень внимательным). Видимо по одной только надписи на бутылке «чистая вода» в боковом кармашке моего рюкзака, надписи, которая дома бы у нас вообще ничего не значила – пустое место, а здесь это оказалось культурным кодом. А иначе бы он и не понял, меня всегда признают за немку или шведку.

