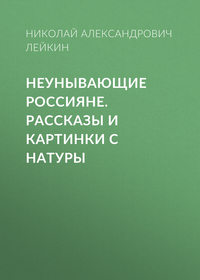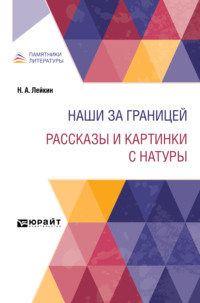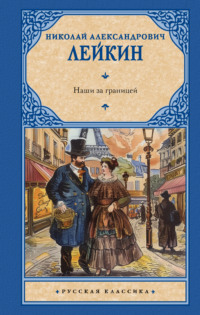Полная версия
Гуси лапчатые. Юмористические картинки
– Из каких доходов таки шелка да бархат! Вишь, ряской-то как посвистывает! Словно иеромонах из Невского монастыря. А жалованья всего триста целковых в год.
– Может быть, неразменный рубль нашла, – откликается другой актер с одутловатым лицом и порезанным подбородком от усердного бритья.
– Бабушка у них колдунья и им ворожит, – с таинственной улыбкой наклонился к актерам старичок-капельдинер и звонко понюхал табаку.
Проходит скромно одетая дама.
– Марья Савельевна! – окликает ее актер с красным носом. – Какими судьбами? Я думал уже, что вы умерли.
– Что вы! Типун бы вам на язык. Все еще служу.
– Служите? Ах, это очень интересно! Но, должно быть, вы в шапке-невидимке служите, потому что вот я с вами в одной труппе состою, а года два вас не видал.
– Очень может быть и больше, потому что я с семьдесят шестого года не была занята. Что ж делать, коли обо мне забыли. Да оно и лучше, спокойнее.
– А жалованье-то вы не забываете?
– Зачем же забывать, коли дают. Да и как же не давать? Разве я виновата? Нет, я служу.
– В чем же заключается ваша служба? Манже, буар, дормир, сортир?
– Подите вы! Вечно с глупостями.
Дама отходит от актера и стремится к чиновнику.
– Вон Бубыркин глубокомысленно сморкается! – продолжает актер с красным носом. – Знаете, о чем он мечтает? – спрашивает он товарищей. – Тут хозяйственные интересы: «Получу 40 рублей и 66 копеек, сейчас, мол, на Сенную и куплю себе половину мороженого борова». Вася! Почем ноне керосин?
– Пенсильванский за шесть копеек фунт отыскал! – отвечал Бубыркин.
– Видите, как твердо хозяйство-то знает! Он тут как-то в роль вошел, так даже на сцене крикнул: «Кочан капусты – двугривенный!», а нужно было крикнуть: «Король со свитой!»
Хористы в рваных шубенках сгруппировались вместе и сбираются спрыскивать получку жалованья.
– Давайте сейчас по двугривенному, пойдем в Коммерческий трактир, поймаем леща в бассейне и велим его зажарить в сметане – вот нам и закуска к водке, – говорит один из них. – Разсупе-деликатес! Ни король Лир, ни Гамлет, принц Датский, такой закуски не видали.
– Вы ступайте, а я не пойду. У меня насморк, – отвечает другой.
– Важное кушанье – насморк! Ведь ты не носом леща-то будешь есть. Что, брат, верно, жена на улице дожидается?
– Жена! Поди посмотри, ждет ли меня жена! А как я могу леща есть, коли у меня переносье болит?
По конторе ходит бедно одетая женщина и спрашивает:
– Федор Михайлович Бровенчиков ушел?
– Не только ушел-с, сударыня, а даже убежал, – отвечает ей кто-то. – Схватил жалованье, расписался впопыхах вместо «артиста» «трубочистом» и убежал.
– Ну, скажите на милость! Вот мерзавец-то! А я на Театральной улице его жду. Делать нечего, надо по трактирам искать! Кажется, все ваши в Коммерческий ходят?
– Да уж он туда, куда все ходят, не пойдет, ежели тайком от вас убежал. Хитер тоже. Знает, что вы прежде всего туда за ним броситесь.
– Какая, право, неприятность! А я даже с детьми жду… Все люди как люди, а он…
– А вы в следующий раз его на цепи… Надежнее будет.
– Ну вас! Вам смешки, а мне горе! Послушайте, да, может быть, вы нарочно его от меня скрываете?
– Ищите, коли не верите.
Женщина направляется к выходу. По поводу отыскивания женой мужа у актеров является воспоминание о каком-то комике Калмыкове.
– Того тоже, Царство ему Небесное, не тем будь помянут покойник, жена за получкой жалованья водила, – слышится рассказ. – Отнимет деньги, закупит провизии всякой и ему на баловство четвертную водки купит, чтоб на месяц хватило. Ну, и даст ему в первый-то день нализаться до основания, а потом по рюмочке и выдает. И какой казус вышел. Купила раз керосину и водки и об спиртности в четвертных бутылях. За обедом это он выпил по-настоящему и уснул, а она ушла ко всенощной. Чудесно. Просыпается без нее – глядь: бутыль на окне стоит. «Ну, – думает, – забыла запереть». Берет стакан, подбирается к бутыли, налил, хлоп залпом – керосин! Свету не взвидел. Сгоряча-то не расчухал и полстакана отворотил. Ну, заорал. Сбежались соседи. Молоком поить… И что ж вы думаете? День прохворал, а потом ни в одном глазе!
– Прежние-то актеры здоровее были, – откликается басом коренастый актер с седой щетиной на голове вместо волос. – А теперь что? Жидконогие, слякоть, дрянь, одним перстом его свалишь. Не только с керосину, а с рюмки голого спирту ногами задрыгает. А покойники Купоросов и Хватилов, бывало, голый-то спирт стаканами пили, а разыграются, так давай тумбы тротуарные выворачивать. Да ведь с корнем выворотят. Вот это сила!
– Значит, два десятка наших Федоров Алексеевичей на одну руку бы взяли? – послышался вопрос.
– Федор Алексеевич что! Федор Алексеевич – обезноженный человек. А Купоросов на таких, как ты, на пятерых бы вышел!
– Ну, уж это оставьте! Я раз на охоте с медведем боролся да и того с ног свалил!
– Во сне, может быть?
– Нет, наяву. Выстрелил, промахнулся, а он на меня! Ну, и обнялись. Кричу своей собаке: «Фингалка! Пиль его!» Собака схватила за шиворот медведя, а я спереди. Ну, вдвоем и повалили его.
– Свежо предание, а верится с трудом!
– На, посмотри, вот и шрам у меня на шее остался от его когтей. Разумеется, он меня поломал, но все-таки победа за мной.
– Как же ты мне раньше про этот шрам рассказывал, что на тебя балка с колосников упала, когда ты в Тифлисе Велизария играл!
– Никогда я этого не говорил. Балка в восемь пудов весом упала на меня в Кременчуге и позвоночный столб мне вывихнула, а с медведем я боролся в Тифлисе. Об этом я тебе тоже рассказывал, но ты перепутал.
– Куда отсюда?
– В «Европу» кровь биллиардом полировать.
– Ну, и я с тобой. Авось ты мне расскажешь, как ты в Гельсингфорсе крокодила в море на удочку поймал. Прощайте, господа!
Актеры уходят.
На Алексея митрополита
– С ангелом, моя тумбочка! – возгласила, проснувшись поутру 12 февраля, жена мелкого чиновника Алексея Перфильевича Чернильникова, проживающего на Петербургской стороне, выглянула из-за ситцевого алькова и закивала головой.
– Мерси, моя вазочка! Только бога ради никому не рассказывай, что я сегодня именинник. А ежели кто спросит, то отвечай, что я не на Алексея митрополита, а на Алексея – человека Божьего. Я и сам так буду говорить, – отвечал Чернильников, стоящий против окна и бреющийся перед маленьким зеркалом, привешенным на оконной раме.
– Но не могу же я, например, от тетеньки Варвары Захаровны скрывать твои именины, ежели она тебе даже сюрприз готовит и уж даже бисерный чехол на мундштук связала.
– И ей не признавайся! Бог с ним, с бисерным чехлом! Ей-ей, денег на угощенье нет, а на все такая дороговизна. Вон, говядина двугривенный фунт, четверик картофелю рубль с четвертью. Тетенька сама по себе ничего, она прекрасный человек, но ведь за этот бисерный чехол она ужо вечером притащит с собой восемь человек чадов и домочадцев, которые по своей прожорливости акулу за пояс заткнут. Например, хоть бы ее старший гимназист… Он только рот за чаем разинет, и уж трехкопеечной булки нет. Муж ее, Петр Иваныч, хоть паралич-то ему повредил левую руку, а не желудок, прошлый раз в твои именины только подошел к закуске, и уж фунта семги нет. Я тащу из-за карт выпить нашего столоначальника, хвастаюсь ему маслянистой семгой, подвожу к столу, а вместо семги одна кожа осталась.
– Ну, пошел-поехал! Это ты оттого так говоришь, что Варвара Захаровна моя тетка, а не твоя! – с неудовольствием заметила жена и вышла из-за занавески надевать на себя юбки, положенные с вечера на стул.
– Анечка, уйди! Уйди за занавеску. Иван Наумыч с полчаса ходит мимо нашего дома и может тебя увидеть декольте, – сказал муж. – Ты забываешь, друг мой, что мы живем в первом этаже.
– Зачем же он ходит? Вот еще наблюдательный пост нашел!
– А затем, что дожидается, когда я отбреюсь, чтоб ворваться к нам в квартиру – поздравить с ангелом и выпить водки рюмку перед отправлением в должность. Но шалишь! Я и ему не признаюсь, что я сегодня именинник. «На Алексея, мол, Божьего человека», да и делу конец!
– Не понимаю, что тебе за расчет откладывать. Ведь тогда все равно и на Алексея – человека Божьего все акулы соберутся.
– Нет, тогда уж не соберутся. На Алексея – человека Божьего наш столоначальник именинник и все к нему бросятся. Я и сам уйду из дома с раннего утра, а на другой день отличная отговорка: был на именинах у начальника, так как не могу же я пренебречь его приглашением. Вот и вторая акула появилась: Василий Тихоныч Ведерников, – кивнул он на улицу, – стоит рядом с Иваном Наумычем и на наши окна пальцем указывает.
– А ты вот что: ты продолжай бриться, коли уж на то пошло. Пусть их мерзнут на улице. Померзнут-померзнут, будут видеть, что ты все еще бреешься, и побегут в департамент, – посоветовала жена.
– Нельзя, друг мой, я уж и так три раза намыливал и три раза по всему лицу бритвой прошелся. Продолжать, так можно и кожу до крови проскоблить. Пусть уж они выпьют по рюмочке водки, но я не буду сознаваться, что я именинник, чтоб они вечером не приперли.
Жена оделась. Муж уже вытирал лицо полотенцем и корчил перед зеркалом гримасы.
– Люшенька, обернись, моя вазочка!
– Изволь, моя тумбочка, – отвечал муж, обернулся и воскликнул – Ну, уж это напрасно! Зачем изъяниться! Эти деньги и тебе на тряпки пригодились бы.
– Ничего, носи на здоровье, моя крыска! Дай тебя только поцеловать.
Жена вручила мужу шитые по канве туфли и чмокнула его в щеку. Он влепил ей тоже безешку. Последовало обоюдное целование рук. Старые туфли были сейчас совлечены с ног и надеты новые. Муж прошелся по комнате.
– Ах, как они тебе к лицу, эти туфли! Я нарочно выбрала пунсовый цвет рисунка, так как ты брюнет.
– Еще раз мерси, моя бомбошка!
– Можно войти, дяденька? – послышался возглас за дверями спальной, и в комнату влетел гимназист с бумагой в руках. – «Добрый дядя мой бесценный, именинник дорогой…» – начал он читать поздравительные стихи, кончил и вручил имениннику рукописное поздравление на бумаге с изображением Исаакиевского собора внизу и памятников Петра Великого и Екатерины Второй по бокам.
– Спасибо, спасибо, Андрюша! – сказал дядя. – Только, бога ради, никому не рассказывай, что я сегодня именинник. Ежели кто спросит, то говори, что я не на Алексея митрополита, а на Алексея – человека Божьего. Видишь ли, я не хочу, чтобы ко мне гости приходили.
– Да я уж, дяденька, вчера, покупая бумагу, табачнику нашему Афанасию Михайлычу сказал, и он собирается к вам на пирог. «Нельзя, – говорит, – надо поздравить».
– И охота тебе было говорить! Ах ты какой!
– Да он сам спросил. «Кому, – говорит, – будешь поздравление писать?» А я ему: «Алексею, мол, Перфильичу».
– Ну, вот еще третья акула! Этот как подсядет к графину, так до дна.
В кухне раздался громкий кашель, и кто-то с шумом сбрасывал с ног калоши. Именинник вышел в гостиную. Там стояли Иван Наумыч и Василий Тихоныч.
– С ангелом! Желаю тысячу лет здравствовать! – заговорили они.
– Да я, господа, не на Алексея митрополита, а на Алексея – человека Божьего, – отвечал хозяин.
– Врешь, врешь! А туфли-то новые зачем на ногах? Будто мы не понимаем, что это подарок жены в день ангела!
– Вовсе и не сегодня она мне их подарила, а к Новому году.
– Толкуй тут «к Новому году»! Так у тебя с Нового года белые подошвы и останутся! Ну, а поздравление это чье на раскрашенной бумаге? Тоже к Новому году? 12-м февралем помечено – и к Новому году. Нет, брат, не отопрешься! Доставай монаха и подноси нам по рюмочке.
– Не в поднесении сила. Это я с удовольствием и без именин, а только я на Алексея – человека Божьего, а не на Алексея митрополита, – стоял на своем хозяин. – Что же касается до поздравления, то племянник ошибся.
– Значит, и мы в прошлом году ошиблись, когда в этот самый день ели у тебя кулебяку?
– В прошлом году я нарочно делал кулебяку на Алексея митрополита, чтоб не пришлось ее делать на Алексея – человека Божьего, так как столоначальник наш в этот день именинник, так чтобы не пришлось в один день.
– Нарочно? Ну, и нынче нарочно сделай. Но врешь! Все указания есть, что ты именно сегодня именинник. Например, зачем ты так тщательно брился перед окошком? Три раза взмыливался и три раза скоблился. Ведь мы стояли на улице напротив и видели. А четвертная бутыль, запечатанная в девственном состоянии, зачем на окне стоит? Так ты и станешь покупать новую четверть без именин! Тащи ее сюда, тащи! Сейчас мы ей бракосочетание и сделаем.
Хозяин развел руками и, сняв с окна бутыль, стал ее распечатывать.
На выставке картин Верещагина
Выставка картин Верещагина. Отделение эскизов из жизни Индии. Вход на выставку бесплатный, а потому в залах много и простой публики. Есть чуйки, сибирки, солдаты, женщины, покрытые платками. Виднеется и ундер в отставном военном сюртуке и с нашивками на рукаве. При ундере жена, а с ней мальчик лет пяти. У ундера в руках каталог.
– «Женщина средних лет в Ладаке, имеющая пять мужей, родных братьев – по обычаю полиандрии»… – читает он перед картиной за № 1.
– Ах, чтоб ее! Вот греховодница-то! – восклицает ундериха и плюет. – Как ее зовут?
– Полиандрия.
– Вишь, подлая, и имя-то какое себе выбрала! Пять мужей и даже родных братьев. Срамница!
– Чего ты ругаешься? Вера такая у них индейская – ничего не поделаешь. У турок, к примеру, чтоб не меньше пяти жен на одного мужчину, а у них наоборот: не меньше пяти мужей на каждую бабу, – хладнокровно отвечает ундер.
– Вы говорите, служивый, что у этой шельмы пять мужей? – спрашивает стоящая сзади чуйка.
– Пять. Так и в книжке пропечатано. Они народ бедный, ну и женятся вскладчину.
– То-то рожа-то у ней!.. Будто горох молотила, – негодует чуйка и прибавляет: – Да и то сказать, один муж за косу поучит, другой – по сусалам съездит, третий – ребрам нравоучение сделает, так откуда красоты-то наберется! При пятерых мужьях наука тяжелая. От каждого по одной подмикитке в день – так пять подмикиток, а по две – так десять. Только уж и бабе же нужно быть пронзительной, чтоб от всех мужей отругаться! Много нужно словесности в себе содержать.
– Калина Калиныч, вы до этих самых мест походом доходили? – спрашивает ундериха мужа.
– Семь верст только не дошли, – отвечает тот.
– Это дальше Балкан, где этот самый башибузук зверствовал?
– Совсем в другой стороне. Индия – это за Ташкентом, около Бухарского царства.
– Тут как-то в войну писали про Дели-бабу. Надо полагать, вот тут-то Дели-баба эта самая и царствует, – делает догадку чуйка.
– Ну, пойдем далее, – говорит ундер. – Что около одного места стоять! Постой, что это такое? Номер двенадцатый… «Три главных божества (Троица) буддистов»…
– Ах, страсти какие! Идолища поганые! – восклицает ундериха. – Плюнь, Васенька, плюнь! – говорит она ребенку. – Не гляди и плюнь. А уж ты, Калина Калиныч, и подвел же к картине, нечего сказать! Сам в сторожах при церкви служишь, а никакого у тебя подозрения нет. Не гляди туда, Васенька. Вот сюда смотри. Калина Калиныч, вот эти черненькие-то картинки какой манер изображают? – спрашивает ундериха.
– «Подземный храм на острове Элефант» и «Подземный храм на острове Эллоре»…
– Тоже по поганой вере?
– Само собой.
– Ну, что же это такое! Куда ни сунься – идольская вера! Отвернись, Васенька, вот сюда, на арапа смотри. Калина Калиныч, читай-ка в книжке-то про арапа.
– «Священник Парси, огнепоклонник».
– Опять. Тьфу ты, пропасть! Неужто и в самом деле они огню поклоняются?
– Коли написано, так, значит, верно. Ведь он не арап, а индеец белой масти, а закоптел до черноты оттого, что огню поклоняется. Ну-ка, всю жизнь над дымом-то… так какая хочешь прочная шкура на сига копченого смахивать будет.
– Тут уж у него лик на манер наваксенной голенищи, – делает свое замечание чуйка и прибавляет: – А ведь и по нашей вере на огонь грех плевать.
– Пойдем дальше, Калина Калиныч… – говорит ундериха.
– Да куда ж идти-то? Тут куда ни сунься, везде языческие образа, а ведь ты на них смотреть не хочешь. Ну, вот, постой… Тридцатый… «Молитвенная машина буддистов»..
– Как? Да разве у них машиной молятся?
– Постой, не перебивай… «Весь вал туго наполнен молитвенными листами; когда он вращается, молитвы сообщаются воздуху и затем Богу», – читает ундер и прибавляет: – Вот так оказия!
– Выдумают тоже! – улыбается ундериха.
– «Чем более буддист вертит вал, тем более молитв возносится от него к небесам», – продолжает читать ундер.
– Калина Калиныч, кто это в красной-то шапке? – указывает на картину ундериха.
– «Баниан. Секта, отличающаяся состраданием ко всем тварям, от слона до блохи включительно, но в то же время известна их слабость к обмериванию и обвешиванию». Купцы, значит. Ну, так мы и запишем.
– Значит, уж они жен своих не бьют? – спрашивает какая-то женщина в шляпке.
– Кто ж их знает, сударыня! Жена – не блоха и не слон. Отчего ж ее не бить? – откликается чуйка. – По торговому сословию ежели существуют, так уж как не бить. Без этого нельзя.
– Почтенный, вы говорите, это купец ихний в красной-то чалме? – задает вопрос ундеру казинетовая сибирка с бородой клином.
– Купец индейский. И прибавлено, что очень любит обмеривать и обвешивать.
– Да ведь купец индейский только индейками и торгует, так какой же тут обмер или обвес? Нешто индейка четвериком или на фунты продается? Пустое.
– Блох, говорит, очень любят и всякую насекомую тварь, – замечает чуйка.
– Блоха от бабы. Ее люби не люби, а она все равно перескочит, – заключает сибирка.
– «Лама, наряженный божеством», – читает ундер.
– Батюшки, с рогами! Не гляди, Васенька. Еще ночью сниться будет, – заслоняет ундериха глаза мальчишке. – Это что ж «лама» – то значит? Черт ихний, что ли?
– Какое черт! Впрочем, пес их знает! А вот еще «Лама так называемой красной секты в полном облачении». Нет, значит, лама-то – что-нибудь вроде татарской мурзы. Ну, мелкие-то картины мы пропустим, а вон там, в той комнате, большие картины виднеются, так мы туда.
Вся партия переходит в другую залу и останавливается перед большой картиной «Процессия слонов английских и туземных властей в Индии».
– Вот так штука! – вырываются восклицания. – Ведь это, пожалуй, на четырех двуспальных простынях наворочено! А краски-то, гляди, с пуд пошло.
– Вон вверху на слоновой спине англичанский генерал в красном мундире сидит, – указывает ундер жене. – Этих птиц я уж по крымской кампании помню.
– А это что за картина, вот где пустое-то место? – спрашивает ундериха про картину.
– «Утро до восхода солнца на озере Кашмир». Видишь: небеса, туман и вода.
– На кашемире, ты говоришь, эта картина нарисована? Ну, конечно, где же на кашемире рисовать. Оттого ничего и не вышло.
– Просто она еще не докончена, – замечает чуйка. – Видите, только еще грунтовка положена. А здесь он, наверное, тоже слона нарисует. Кто ж такую картину купит?
– А может, из-за рамки и из-за полотна. Пустого места – гибель. Коли ежели сходно продается, то отчего же? Тут вывесочник из мордомазок какой хочешь тебе патрет намалюет, и выйдет картинка, чтоб над диваном повесить.
– Господа, пять часов! Выставка закрывается! – возглашает сторож.
Публика начинает выходить из залы.
Дева Дуная
За полночь. Жена уж спит, на двуспальном высоком и широком ложе. Она совсем утонула в пуховиках и подушках. Ни тела, ни лица ее не видать; только и виднеется жирная и белая рука с обручальным кольцом, на которой ни один врач не сумел бы прощупать пульса, да слышно сопение с легким присвистом. Вошел муж – не то мелкий торговец, не то амбарный артельщик большого торгового дома. При свете лампады он снял с себя шубу и повесил ее на гвоздь, сбросил длиннополый сюртук, начал стаскивать высокие сапоги бутылками, заскрипел стулом, и в это время жена проснулась.
– О господи! Андриан Данилыч, это ты? – проговорила она спросонья, поднимаясь на постели сфинксом и выставляя из пуховиков голову.
– Я, я… Кому ж чужому об эту пору войти! – отвечал муж.
– Где ж это тебя неумытые, не к ночи будь помянуты, до сих пор таскали?
– Уж и неумытые таскали! В балете был, «Деву Дуная» смотрел. И не думал, и не гадал в театр попасть, да Василий Прохоров подвернулся. «Пойдем да пойдем», ну и забрались в галдарею. Неужто на Масленой-то сходить нельзя?
– Сам ходишь, а жену свою единородную дома взаперти держишь. Нет чтоб с собой взять.
– Да пойми ты, что я и не сбирался. А у Василия Прохорова билет лишний был. Купил он для жены, а у той утробу с блинов подвело, ну, он мне и спустил с уступкой.
– Все-таки вот другие своим женам билеты покупают, а ты никогда.
– Куплю. Я тебя в Александринку пару раз на Масленой вывожу. Там, по крайности, словесной разговор, а здесь балет и разговоры ножные и ручные на глухонемой манер, так какой тебе интерес? Что за радость бабе на женское голоножие смотреть. Этот вкус вы и в банях видите.
– А сам-то небось смотрел.
– Сам! Билет случайно выдался, да и, кроме того, я думал, что оперное происшествие будет, ан оказался балет. Знал, так бы и не пошел. Ведь одно ногодрыгальное мелькание перед глазами и больше ничего. Языкочесальная игра много лучше. А в балете даже и понять трудно, что происходит.
– Полно мне зубы-то заговаривать! Поди, сам так и впивался буркулами в женскую декольту эту самую.
– Ну вот, стану я впиваться! Что мне декольта! Не видался я декольты! А ежели и смотрел ножную игру, так чтоб своей собственной декольте все это балетное происшествие рассказать. Вот моя законная декольта лежит, так зачем мне чужую? Не жалей, что не была. Убытка немного!
Муж нагнулся к жене и чмокнул ее в щеку.
– Фу, как винищем-то от тебя разит! – проговорила жена.
– А уж без этого нельзя. Ау, брат! После представления зашли в трактир двух балетных утопленников помянуть, ну и выпили по паре собачек померанцевой горечи. Хоть и театральное потопление было, а все-таки нельзя без поминовения. Дева Дуная с конюхом утонули, так по ним тризну справил. Да вот я тебе сейчас расскажу, как дело было, – говорил муж, лег в постель и продолжал: – Только ты не пугайся насчет покойников. Балетные покойники по ночам сниться не будут. Ну-с, первым делом представлена река Дунай, та самая, через которую наши к туркам переходили, а на берегу хижина и в ней болгарская маменька с дочкой Девой Дуная от турецких зверств спасаются. Чудесно. Выбежала эта самая Дева Дуная из хижины, посмотрела по сторонам, видит: турок нет – и давай танцами ноги расправлять. А ей навстречу конюх турецкий и глухонемым манером показывает, что очень, мол, я вас, Дева Дуная, люблю. А она ему ногами: «Полно, – говорит, – тебе врать-то». А он: «Ей-богу, не вру, и так как ты большую меланхолию к русским солдатам чувствуешь, то я даже мухоеданскую веру могу бросить и в россейские егаря пойду служить». А Дева Дуная ручками ему машет: «Так, – говорит, – тебя твой турецкий паша и отпустит в русскую веру и в русские егаря!» Завертелся это после этих слов конюх на правой ноге, а левой и говорит ей такие глухонемые слова: «Да я теперь в конюхах не у турецкого паши служу, а у Бубнового валета. Что мне паша! Плевать мне на пашу». – «Ну, коли веру мухоеданскую бросишь и в егаря поступишь, то давай перевенчаемся». Сказано – сделано, и давай плясать с радости. К ним на подмогу выскочили другие болгары и болгарки и стали им подсоблять плясать. Плясали, плясали, но так как радость у них чужая, то бросили и убежали по своим делам. Чего из-за чужого дела ноги ломать! А Дева Дуная с конюхом все пляшут да пляшут, и доплясались они, мать моя, до того, что упали на скамейку от усталости да и заснули. Из пещеры вышли девушки, должно быть, белье там стирали, начали у них в носу соломиной щекотать, а они все спят и ничего не слышат. Вдруг выскочила мать Девы Дуная и кричит конюху по-балетному: «Селифонт! Тебя Бубновый валет ищет и даже сюда идет!» Ну, тут они сейчас проснулись, а матка Деву Дуная начала ругать: зачем она спит, вместо того чтоб работать. Хотели даже подраться, да Бубновый валет этот самый пришел, и с ним прислуга разная и народ мужской и женский и у всех юбки и штанины подсучены выше колен. Должно быть, рыбу неводом в Дунае ловили. Вошел Бубновый валет, и сейчас лакеишки евонные развернули на палках пригласительный билет такого свойства: «Господин Бубновый валет покорнейше просит к себе весь народ пожаловать на чашку чаю и на смотрины, так как он из женского сословия, при своей холостой жизни, хочет выбрать невесту, чтоб перевенчаться». А билет на простыне напечатан. У нас по новой моде на атласных лентах приглашение печатают, а у них на простыне. И тут Бубновый валет пятку кверху поднял и такие слова пяткой сказал: «А кто, – говорит, – ко мне из женской нации на выбор не явится, на того я первым делом турецкие зверства напущу, а потом голову с плеч долой. Только чтоб на смотр непременно при всем голоножии являться».