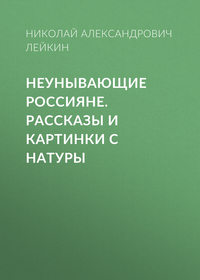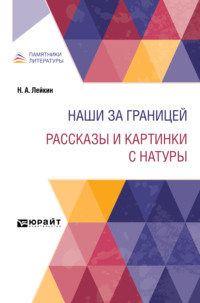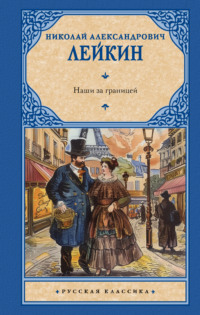Полная версия
Гуси лапчатые. Юмористические картинки
– Да ты в уме? Ежели каждый возьмет по свечке, то выйдет такая иллюминация, что тараканы испугаются света и разбегутся. Пятеро ребятишек и по свечке! Шутка!
– А что; пожалуй что и так. Этого я действительно не сообразил, – согласился муж, подпоясал плотно пестрым платком халат, прошелся несколько шагов по комнате и сказал: – Теперь этим проклятым халатом только ноги себе спутал, и никакой расторопности не выйдет. Знаешь что? Лучше я совсем сниму халат. Так мне будет свободнее.
– Это ты хочешь в развращенном-то виде при всех своих дезабильях? Да полно, как тебе не стыдно! Там все-таки кухарка, так неловко при ней.
– Важное кушанье – кухарка! Она замужняя женщина и до нас в мамках жила.
Муж распоясался и сбросил с себя халат.
– Там, папенька, и соседская горничная пришла, чтоб помогать тараканов морить, – заметила отцу взрослая дочь.
– Ну, так что ж из этого? Не прикажешь ли мне из-за горничной в мундир вырядиться! Ну, тронемтесь… Вот только табаку понюхаю. Буры сколько купили?
– Четверть фунта.
– Мало. Что же мы с четвертью фунта поделаем? Где так уж ты, Арина Федоровна, расточительна, а где так на обухе рожь молотишь. Возьми, Мишутка, мою табакерку и держи ее у себя. Как мне вздумается табаку понюхать, так чтобы готово было.
– Я, папенька, лучше светить буду… – заныл мальчишка.
– Свечка свечкой, а табакерка табакеркой. Уж и лень же у вас!.. Ах, какой народ! Ни в чем отцу помочь не хотите. Ну, куда же я положу табакерку, ежели у меня ни одного кармана нет? Только, чур, прежде всего, не кричать. Тараканы крику боятся. Особливо вот ты, визгливая… – погрозил он дочери. – Голос как валдайский колокольчик.
– Пожалуй даже, ежели хотите, то я и совсем в кухню не пойду, – обидчиво сказала дочь.
– Эта еще отчего? Чем больше народа, тем лучше. Одни обметают, другие бурой посыпают, третьи ловят беглецов. Иди, иди! Нечего губы-то надувать!
– Нет, не пойду! Мне черных тараканов жаль, они наше счастье. Вот ежели бы вы одних прусаков морили, то дело бы другое было. А то вместе с прусаками и черные тараканы погибнут.
– В самом деле, черных-то тараканов жалко, – согласилась с дочерью мать.
– Чего их жалеть! Ну их к черту! – кричал отец.
– Зачем же к черту? Они счастье приносят и, главное, никому не мешают. Днем ты их даже и не увидишь. Кроме того, у нас взрослые дочери. Вдруг девушки задумают на святках погадать черным тараканом, а ни одного и нет. Ты, Никон Ульяныч, вот что: ты сядь и продолжай пить чай, как пил, а я пойду в кухню, отберу десяточек черных тараканов в коробку и спрячу их на развод. Потом мы их выпустим, и они живо расплодятся.
– Видали вы дуру-бабу! Вот так дура! На мерзкую тварь сердоболие разыгралось.
– Ну, уж ты там как хочешь, а десяточек я уберегу. Без черных нельзя… Они, кроме счастья, обилие дома показывают. Перед пожаром или перед каким-нибудь несчастием они сами из дома уйдут. Пей чай-то. Чай еще крепкий. А я сейчас…
– Запри поплотнее фортку в кухне и дверь на лестницу. Это главное, чтоб свежий воздух в кухню не попадал! – крикнул вслед жене муж и прибавил: – Эх, нет при мне теперь моих верных слуг Хобаренки и Иванова; а то с этими бы двумя городовыми у меня в один миг ни одного таракана не стало. Иванова поставил бы к дверям, а Хобаренку взял бы с собой на печку, и ни одна каналья бы не ускользнула. Золотые люди!
– Да ведь ваши городовые, папенька, привыкли мазуриков ловить, а тут тараканы… – сказала дочь.
– Расторопный человек, матушка, что на мазурика расторопен, что на таракана. Ему все равно. Он пришел, взглянул – и готово. Раз я с ними шестерых беспаспортных на сенной барке… И безо всякой облавы…
– Все-таки тараканы – больше женское дело…
– Ну, молчи! Полицейской службы ты совсем не понимаешь и потому не можешь о ней судить.
– Ну иди, Никон Ульяныч! Теперь все готово! Десяток самых крупных я наловила и спрятала на развод! – крикнула из кухни мужу жена. – Да надень ты, бога ради, что-нибудь на себя. Здесь в кухне посторонняя женщина.
– Плевать! Пусть вон идет, ежели много о себе думает. Ну, Господи благослови! Тронемтесь! Сеня, к дверям! Вася тоже… Один к наружным, другой к тем, которые в комнаты выходят. Да не зевать и, как побегут, – давить беглецов! – послышалась команда вошедшего в кухню хозяина. – Где бура? Давайте сюда крылья! Анисья, держи таз! Ванечка со мной на печку!.. Светите! По сторонам не зевать! Раз, два… Ты здесь, милая, зачем?
– Я, сударь, соседская, я посмотреть пришла, – отвечала женщина.
– Быть только свидетельницей недостаточно. Ежели пришла глазеть, то бери веник и заметай их во второй таз. Падать будет их много. Жена, ты что рот разинула? Бери половую щетку. Батюшки, да сколько их тут! Видимо-невидимо! Целая туча! – воскликнул хозяин, влезая на печку.
И начался великий мор.
Человек-муха
Публика Зоологического сада стоит, задрав головы кверху. По зеркальному потолку ходит вниз головой акробат, названный на афише «человек-муха».
– Так это-то муха! – слышится возглас в публике. – Вовсе даже и не похож. Хоть бы костюм мушиный на себя напялил, что ли, так все-таки было бы под кадрель мухе.
– А разве мушиные костюмы есть? – задает кто-то вопрос.
– А «Орфея в Аду» в театре представляли, так там в мушином костюме. И крылья, и голова мушиная, и даже жужжал по-мушиному… А этот и не жужжит.
– Мушиные костюмы есть-с, это верно, – поддакивает третий голос. – Даже в табачной с проката отдаются. У нас один извозчичий сын с Лиговки рядился в него на святках. И что смеху-то было! Четырнадцать закладок у них и двадцать лошадей… Посватался он к монуменщицкой дочке около Волкова кладбища, да в мушином виде к невесте и приехал, но только тайком от своих собственных родителей мушиную образину надел, так как они по старой вере и скоморошества этого самого не любят… Ах, чтоб тебя черти склевали! И в самом деле, по потолку ходит, словно наш брат по полу! Хоть бы упал на счастье.
– Так что же родители-то? – интересуются слушатели.
– Приехал к невесте в мушином образе, а родители евонные тамотка сидят, – продолжает рассказчик. – Увидал – сомлел от страха. А тятенька, человек грозный, сидит на почетном месте и чаем с вареньем балуется… А непременно, братцы, у него эти самые ноги чем-нибудь смазаны.
– Ну, и что же отец-то? – подгоняют рассказчика.
– А отец признал сына по перстню на пальце, да бац его в ухо, да потом вареньем ему всю рожу и вымазал. «Коли, – говорит, – ты муха, то сладкая смазь тебе – первое удовольствие!» Скандал был такой, что ужасти подобно! А только как хотите, братцы, а у него или магнит этот самый на ногах, или крючья приделаны – вот он за кольца крючьями на подошвах к потолку и прицепляется.
– Да ведь потолок-то стеклянный, так какие же кольца? Просто глаза отводит. Уж кто свою душу продал черту…
– А ты почем знаешь, может, он праведнее нас с тобой.
– Праведник ломаться не станет, акробатское оголение на себя не наденет.
– А из юродства. Есть тоже которые и юродивые праведники.
– Да ведь он немец.
– Ну, немецкий праведник. Для нас он не праведник, а для немца праведник. А то уж сейчас и душу черту!.. Не больно-то ноне черти души-то покупают! И за дешевую цену продавать будешь, так напросишься.
– А ты продавал?
– Дурак! Да нешто я о себе? Я к слову… Зачем теперь душу черту продавать, коли можно и машинами глаза отвести? Машины есть. Стоял у меня на квартире один живописец, так у того такая машина была: поставишь в нее портрет, как следовает, а взглянешь в стекло – портрет кверху ногами висит. Так и тут… Теперича мы этого самого человека-муху видим кверху ногами, а может, через машину это только, а на самом деле он, как и мы, кверху головой ходит.
– Да где же машина-то эта самая? – пристают к рассказчику.
– Где… где… машина спрятана и для нас невидима. Химики все могут, ежели науку знают…
– Иван Макарыч, а полетит этот человек-муха по поднебесью? – спрашивает жена мужа и при этом щелкает кедровые орешки, вынимая из горсти.
– На чем же ему взлететь-то? Коли ежели бы крылья были, дело другое, – отвечает муж. – А тут ему и взмахнуть нечем.
– А ручным инструментом. Ведь уж ежели он такое потаенное слово знает, чтоб по потолку вниз головой ходить, то, значит, и летать может. Иначе зачем же ему мухой называться? Муха и по потолкам ползает, и летает.
– Да что ты ко мне-то пристала! Ну, поди и спроси его… – огрызается муж.
– Я разочарована насчет мухи… – говорит какая-то девушка кавалеру. – Когда я сюда ехала, я думала, бог знает что будет, а в сущности, ничего нет.
– Но ведь это физический опыт науки в применении к акробатскому делу, – дает ответ кавалер. – Мои догадки те, что у него гуттаперчевые подошвы и выдолблены внутри. Вы изволили видеть, как простой наперсток можно присосать к руке? Так и тут, но только в больших размерах. В резинковых магазинах есть вешалки, которые безо всякого гвоздя прикрепляются к стене, единственно с помощью гуттаперчевых присосков. Поняли?
– Нет, я не поняла. Но зачем же он мухой называется, ежели он только ползает, а не летает? Скорей же он таракан, чем муха.
– Таракан… Таракан как-то звучит неловко. И наконец, он, прежде всего, немец, а немцы не любят, кто их тараканами называет.
– Таракан, барышня, тоже летать может… – вмешивается в разговоры длиннополый сюртук.
Кавалер скашивает на него глазами.
– Тебя спрашивают? Ты чего лезешь? Какое ты имеешь право к посторонней девице приставать! – наступает он.
– А что ж, не принцесса какая. Мы у княгини Граблицкой кабак в аренду брали, так и с ней разговаривали.
– Нет, человек-муха ничего не стоит и вся ему цена – грош! – говорит один купец другому. – Может быть, это и удивительно, что человек вниз головой висит, а только приятной видимости никакой тут нет. Человека-муху посмотрели, теперь пойдем человека-рыбу смотреть.
– Да нешто есть такой?
– Есть. Вон там в отдельной будочке показывается. Вот уже это, Никифор Карпыч, по твоей части. У тебя два живорыбных садка. Тут ты его сейчас уличишь, коли ежели что не так.
– А какую он рыбу разыгрывает?
– Да, говорят, может и стерлядь, и ерша, и налима. Только насчет сига и лососины без понятиев… Учился, но ничего не выходит. А стерлядь в лучшем виде… Уткнется рылом в землю и лежит.
– Чем кормят-то его?
– Червем. А ежели налима разыгрывает, то мелкую рыбешку глотать ему дают.
– Господи, до чего люди ухищряются! – вздыхает купец. – Человек-муха есть, человек-рыба есть… Скоро, пожалуй, в здешних местах и человека-свинью показывать будут.
– Да уж показывают. Извольте только в буфет заглянуть, – замечает кто-то. – Там пара таких боровов сидит, что настоящим свиньям не уступят. Нажрались этого самого винища до того, что раздеваться начали. Гонят вон – нейдут; пробовали выводить – хрюкают что-то и дерутся. Сейчас за околоточным послали.
– А что, Аверьян Савельич, ведь надо и человека-свинью посмотреть. Пойдем… – говорит первый купец. – Там и сами этого свиного пойла ковырнем.
– Приятные речи приятно и слышать. Жги!
Купцы направляются к буфету.
Перед тирольками
– Тра-ля-ля-ля-ля… – отрывисто аккомпанируют голосами солисту-тенору тирольки на эстраде сада «Ливадии».
– Тру-ли-ли-ли-и-и-и! – выводит тоненькой фистулой тенор.
Жирный бас, выпялив вперед брюхо в красном поясе национального костюма, отбивает такт на нижней октаве. Публика сидит на скамейках перед эстрадой и слушает. Не уместившиеся за недостатком места слушают стоя. Тут сгруппировалась компания длиннополых сюртуков, сапог бутылками, купеческих «пальтов-размахаев», картузов с глянцевыми козырями. Хотя погода и ясная, но большинство из этой группы в калошах с медными машинками и с дождевыми зонтиками.
– Завели теперича эту самую тирольскую модель, а только Молчанов со своими ребятами, ей-ей, лучше! – слышится мнение одного из картузов. – Там и песня русская, и на загладку танец с дробью. А здесь что? Какой скус? Тявкают голосами – вот и весь блезир.
– Для пьянственного удовольствия действительно несподручно, но ежели в трезвом виде, то и тиролька любопытна, – откликается сюртук.
– Для пьянственного образа лучше цыган и пения нет, – вставляет свое слово ярко начищенный сапог бутылкой. – Слушаешь, а у самого так и зудят руки, чтобы кому-нибудь в нюхало съездить или во что бутылкой шваркнуть. Я раз при цыганах такой душевный вопль в себе почувствовал, что на четырнадцать с полтиной посуды разбил.
– И французинка при хмельном составе сердца интересна, – делает замечание пальто-размахай. – Особливо ежели это она в поросеночного цвета триках обута и юбочкой на публику потряхивает при пении.
– Французинка хороша, но она только на грех супротив женского пола подмывает, а чтобы воинственный восторг от нее в себе чувствовать, за ней этого нет, не водится.
– Вот немка, так та совсем рыба и даже сон на человека нагоняет.
– Ведь эти самые тирольки за один счет что и немки.
– Ну нет. Немка – особь статья, а тиролька – особь статья. У них и словесность разная. Я спрашивал как-то нашего булочника Карла Иваныча, так он говорит: «Тиролька у нас в неметчине – все равно что ваша олончина». Немка завсегда с арфой. Ты заметь: как в синих чулках, скула подбита и с арфой – ну, значит, немка. По ярмаркам на арфяночном продовольствии и ежели в трактире – все немки. Она же со скрипкой. На цимбалах – непременно жид. А тиролька – она только голосом выводит и разве вот перстами по гуслям перебирает. Зато уж супротив голосового вывода, чтоб трель – чище их нет.
– Поди, ведь свистульки у них в глотках вставлены, чтоб эта «трула» – то выходила?
– Нет, без свистулек. Просто голосом играют. Порода уж такая, сызмальства учатся. Лесная страна у них, так он промеж себя дома голосами и перекликаются. Ау да ау!
– А эти настоящие тирольки – вот что теперь перед нами поют?
– Нет, поди, не настоящие. Мелки больно ростом. Тирольская порода должна быть вся крупная. Вот у моего свата в Ямской тирольская корова. Дорого дали, но зато…
– Так ведь то корова, а я про баб спрашиваю.
– Ну, друг любезный, что корова, что баба, все едино. Уж ежели в каком месте корова крупная родится, то и баба крупная, корова мелкая – и баба мелкая. Возьмем наш Холмогорский уезд, так там что народ, что скот – одинаково крупный. Посмотри потом лимонский скот и сравни с чухонцем из Лимонии – мелочь, глядеть не хочется. А ямбургская или, там, гдовская баба по здешним местам – вот что по огородам полоть ходят. Нешто это баба? Иную бабу-то из хорошего места не заколупнешь, до того она гладка, а в один обхват и не обнимешь. А здешняя баба жидконогая, сухопарая, не лучше вот этой тирольки. Еле пару ведер с водой на коромысле тащит. А из хороших местов баба – она два ушата сопрет. Теперича будем говорить так: чухонская ли лошаденка или доморощенный жеребчик из Орловской губернии? В чухонской лошаденке только одна толстопузость и есть.
Логика была окончена. Тирольки все еще продолжали петь. Послышались опять рассуждения.
– Чего они все одно слово твердят: «уриан» да «уриан»? И словно у них что заколодило на этом слове!
– Слов мало в ихнем языке. Переберут все тирольские слова, ну и опять за «уриана» хватаются, – дает кто-то ответ.
– Ведь, поди, тоже что-нибудь обозначает этот самый «уриан»?
– Да выпивку, надо полагать, обозначает, потому вон тиролец все себя по галстуку перстами хлопает.
– Канитель! И то есть, я тебе скажу, слушаешь-слушаешь теперича всякие иностранные слова, а ей-ей, лучше русских слов нет! И круглее-то они, и понятнее. По-русски все понять можно, а попробуй разбери тут, что бормочут.
– Американские, говорят, слова хороши. Хмельные изображения у них те же самые, что и у нас, ну и насчет ругательств.
– Слышал я и американские слова на голландской бирже, только все не то, что наши. У нас, к примеру, русский человек выругался, так даже и китаец поймет, что он выругался. А у американца этого не разберешь, потому у него хладнокровная антипатия в разговоре. Что он ругается, что выпить зовет – все на один манер.
– Вот армянский разговор насчет ругани-то чудесен! Покупывал я у них в Москве товары, так знаю. Иной армянин и ласковые-то слова говорит, а ты слушаешь и думаешь, что он ругается. Все на один ругательный манер.
Тирольки продолжают петь. Вышел вперед перед шеренгой толстый тиролец и начал запевать басом.
– Этот с узорчатым-то брюхом, надо полагать, самый набольший у них в таборе? – идут догадки.
– Само собой. Оттого он громче всех и рубит голосом. Вон у него и присяга на шляпе длиннее, и вид зверский.
– Какая присяга?
– А глухариное перо. Ведь это тирольская присяга. Что для татарина ермолка, то для тирольца – глухариный хвост. Без этого он даже запнется голосом и никакой «уриан» у него не выйдет. Даже ежели галочий вместо глухариного в шляпу засунет – и то препона.
– Однако, довольно бы уж этих «урианов» – то слушать, а то даже зевота начинает разбирать, – делает кто-то замечание.
– Дай им надсадиться-то вволю. Вон уж одна тиролька поперхнулась.
– Ну, и пущай ее поперхивается еще десять раз, а для меня довольно. Я пойду к буфету и опрокину самоплясу баночку средственную.
– Тогда уж вместе пойдем, только погоди малость. Ну, пускай эти самые тирольки с «уриана» хоть на какое-нибудь другое слово перескочат – вот тогда мы и пойдем. Авось иной какой-нибудь крик выдумают.
– Ну их в болото! Неприятно, братец ты мой, слушать, когда словесности не понимаешь. Шут их ведает, что они такое поют? Может быть, нас же за наши деньги ругают, а мы слушаем и думаем, что это комплимент. Вон одна тиролька даже пальцем начинает грозить. Нет, я пойду, а вы как хотите!
– Эх, сколько в тебе этой самой нравственности! – восклицает длиннополый сюртук. – Что вот захотел, то сейчас и вынь да положь. Ну, ребята, делать нечего, не отставай от него, пойдем и мы. Уж ежели пришли вместе, то надо вместе и действовать.
Компания удаляется от эстрады. Кто-то оборачивается назад и говорит:
– Господа! А ведь тиролька-то все еще грозит нам перстом. «Пить, мол, ребята, пейте, а напиваться не сметь!»
Маскарад с цыганами
В клубе художников маскарад с цыганами и живыми картинами, как значится в афише. Публики много, но она как-то вяло двигается по залам и гостиным. В узких дверях, при переходе из одной комнаты в другую, теснота и давка, и кто-нибудь непременно вскрикивает:
– Ах, боже мой! Шлейф оторвали!
В толпе и два китайца из посольства, неизбежные посетители всех увеселительных мест.
По пятам китайцев следуют две маски: одна толстая, другая тощая. Маски любуются национальными костюмами и косами китайцев.
– Я думаю, что ведь и китайцы насчет кос-то тоже с грешком, – говорит тощая маска толстой. – Поди, и у них, как и у нашей сестры, подвязные…
– Само собой! – отвечает толстая. – Один из них раз даже сидел-сидел с маской в маскараде, понравилась она ему, так он и снял свою косу да и подарил ей, а сам с крысиным хвостиком на затылке остался. Ведь они даром что китайцы, а очень добрые насчет женского пола. Сейчас угощать начнут.
– Подойти разве да заговорить?
– Подойти не расчет, но как ты с ними заговоришь? Ведь они никакого языка, кроме китайского, не понимают.
– Подойти и сказать: «Здравствуй, мосье китаец». Для маскарада других слов и не надо, а это-то он поймет. Слышишь, Маша, я подойду вот к этому длинному. Может быть, он и мне свою косу подарит. Тронуть разве его за косу?
– Оставь. Пожалуй, еще обернется да ругаться начнет.
– Ну что ж из этого? Ведь ругаться будет не по-русски, а по-китайски, так нам не стыдно. И наконец, важная вещь – тронуть в толпе! Всегда отречься можно и сказать, что он сам своей косой задел мою руку.
Маска трогает китайца за косу. Тот обертывается и грозит пальцем.
– Видишь, даже и не ругается. Послушай, мосье китаец, угости нас чем-нибудь.
Китаец не откликается.
– Ну, что, гриб съела? – поддразнивает маску ее подруга.
– Вовсе даже и не гриб, а в маскараде, само собой, приставать надо. С двух слов никакая интрига не может завестись. Послушай, мосье китаец, это не я тебя дернула за косу, а ты ее в дверях прищемил. Бонжур! Гут морген! – треплет его маска по плечу.
– Бонжур! Бонжур! – отвечает китаец и присаживается к столу, около которого сидят цыганки.
Те протягивают ему руки. Он пожимает их.
– Вот это племя косу у него вымаклачит, это верно. Даже и тогда вымаклачит, ежели бы коса была настоящая, – прибавляете толстая маска.
Проходят двое: один в пенсне, другой с моноклем. Оба зевают.
– Хочешь, я тебе скажу каламбур? – говорит монокль. – Маскарад – маске рад. Ну что, хорошо?
– Глупо очень.
– А где же ты умного-то наберешься? Сам маскарад – глупая вещь, ну, из него глупый и каламбур выходит.
Китаец между тем, сидя около цыганок, потребовал бутылку шампанского и угощает их. Невдалеке от стола, за которым сидят китаец и цыганки, поместился купец с орденом в петлице фрака и с расчесанной бородой, упер руки в коленки и пристально их рассматривает. Мимо проходит другой бородач и трогает купца складной шляпой.
– Чего глаза-то выпучил, Иван Федосевич? – спрашивает он.
– Сижу и думаю… – отвечает купец.
– О чем?
– А вот ежели китайца на цыганке поженить, какие дети будут?
– А я думал, горюешь, что китаец у тебя компанию цыганок отбил.
– Это у меня-то? Нет, брат, шалишь! Не родился еще тот, кто бы от меня корыстолюбцев отбить мог. Хочешь, я этого китайца сейчас похерю? У него вон одна бутылка шипучки выставлена, а я сейчас подсяду к цыганскому столу и пару потребую да на закуску вазу с дюшесами. Вот на моей стороне правда и останется! Сейчас цыганки в мою сторону и обратят свои улыбки.
– А вдруг китаец тоже пару бутылок потребует и на закуску вазу? Ведь китайцы богатые.
– Тогда я ему полдюжиной редера нос утру.
– И он может переду тебе не дать! Распояшет кацавейку, вынет оттуда пару лиловых бумажек и тоже полдюжины выставит.
– Тогда я каждой цыганке по синему билету в стакан опущу.
– Китайца не удивишь. Он в ответ тебе и шампанским настоем на розовом кредитном билете угостит. Откуда к нам самодурство-то перешло? Из Китая.
– А вот хочешь, мы сейчас начнем с ним денежное сражение на пробу?
Купец вскочил с места и полез в карман за бумажником.
– Не надо, не надо! Верю. Насчет безобразия тебя никакой китаец не переспорит, – остановил его бородач. – Пойдем лучше в залу. Там живые картины показывают.
– Ну, то-то. Я, братец ты мой, с их цыганским начальником-то приятель, я у него лошадей покупаю. Стоит мне ему только пару слов насчет двух рысачков сказать, так по его приказанию и китаец-то из-за цыганского стола кверху тормашками полетит.
В галерее играют военные музыканты. Останавливаются две маски и слушают музыку.
– А ведь это пожарного полка музыканты, – говорит одна из масок.
– Уж и пожарного! – сомневается другая маска. – Да разве у пожарных есть музыканты? Зачем им? Ведь им такого артикула не полагается, чтоб под музыку маршировать.
– Ничего не значит. А все-таки у них музыка есть. Как большой пожар, она всегда играет для отчаянности пожарных.
– Ну что ты врешь! Да это не пожарные.
– Да неужто ты мундира-то не можешь отличить? Видишь, синие оторочки. У них и трубы так устроены, что ежели играть, то на них играть можно, а как что нехватка, то навинтил их на кишку и заливай пожар.
– Да ты пустое мелешь.
– Душечка, я была знакома с одним пожарным музыкантом, и он сам мне рассказывал.
В зале показывают живую картину «Мороз Красный Нос», освещенную красным бенгальским огнем. В картине стоит женщина в армяке, прижавшись к стволу дерева.
– Уж хоть бы накрасила она красной краской себе нос-то, а то и незаметно, что красный. Да, наконец, нужно бы для такой картины выбрать актрису с большим носом. А то на афишке красный нос, а на деле какая-то набеленная луковица, – слышится у глазеющей публики.
– Думаю, что картина тут просто аллегория: «Дескать, идите-ка, господа, в буфет и наклюйтесь до красного носа». Ходить, Сеня, насчет буфета и красного носа?
– Вали!
При получении жалованья
В театральной конторе выдают жалованье актерам и служащим при театре. Народу в залах столпилось множество. Встречаются знакомые, раскланиваются друг с другом, толкуют, сплетничают, переливают из пустого в порожнее. Некоторые сидят и курят папиросы. Есть и пальтишки, подбитые ветром, есть ротонды, опушенные соболями, енотовые шубы, бобровые воротники и собачий мех. Чиновники делают дамам предпочтение и стараются отпустить их поскорей.
Вот показалась кокетливая шляпка, из-под которой виднеется хорошенькое свеженькое личико. Шуршит шелковое платье из-под тяжелого бархата пальто. Личико кой-кому кивнуло, кой с кем из женского пола чмокнулось в губы и направилось к чиновнику, раздающему жалованье. Вслед женскому личику послались завистливые взгляды. Какой-то актер, с красным носом, с большой папироской в мундштуке, в сильно поношенной шубе, кивнул головой и сказал: