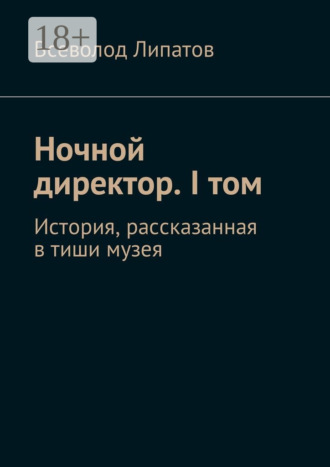
Полная версия
Ночной директор. I том. История, рассказанная в тиши музея
В итоге город разделился на два вооружённых лагеря. После вооруженной стычки, посадские люди осадили воеводский двор. Война велась с применением орудий. За время этих боевых действий, центральная часть города в районе гостиного двора превратилась в груду развалин. Сам гостиный двор и десятки амбаров, служивших пристанищем для приезжих торговых и промышленных людей, тоже были разрушены, сильно пострадало много жилых домов.
Среди всеобщего хаоса у обоих воевод наконец-то появилась здравая мысль – воспользоваться мирской организацией для временного управления Мангазейским уездом. Впрочем, сам Григорий Кокорев, ещё в самом начале раздора предлагал:
«А выбрали б с обоих сторон для государевых великих дел кого пригоже и велели б делать тем выборным людем всякие государевы дела… и посылки в ясачные волости для государева ясачного сбору и денежной и соболиной десятинной сбор и их промыслы не стали».
Он отлично понимал, что в Москве смогут понять все их раздоры, но за убыли в государеву казну не простят, и за несобранный ясак по голове не погладят, скорее наоборот.
Бахрушин отмечает, что с того момента, как торговые и промышленные люди «миром стали за государьское пресветлое имя» и укрепились «одиношною записью», в дальнейшем стали выступать «миром».122
Даже «мирскую челобитную» на Григория Кокорева, которую отправили в Москву в июле 1630 года с Ерофеем Хабаровым-Святитским, писали «всем миром».
Главной особенностью «мангазейского мира» было то, что он объединял не территорию, не волость и не уезд с постоянным населением, а тех торговых и промышленных людей, которые в данный момент находились в Мангазее. Сохранилась их челобитная от 1636 года, в которой они так охарактеризовали свою общину:
«И мы, … по приказу твоих, государевых, воевод, выбирали их своей братии заказчиков и сборных целовальников и между собой сбирали поживотное и поголовное и соболей сороковое, тысячи и по три и больши, а тех, государь, соборных денег расходилось в Мангазейском городе и на Турухани по тысячи и с прибылью на твой государев обиход: на лодки казакам, и аманатам, и сторожем наем, для, государь, твоего ясачного сбору с тунгусов и гуляшей, а достальные, государь, денги расходились по воевоцким дворам на их воевоцкую всякую издержку».123
Надо особо отметить, что эта община была создана искусственно, по приказу государевых воевод. Таким образом, воеводы и здесь нашли свои выгоды, перекладывая расходы на содержание административного аппарата, не покрывающиеся из статей обычного государственного бюджета, затраты на сбор ясака и многое другое, на плечи мангазейской общины. Поэтому ими, сначала преследовались исключительно фискальные интересы.
Со временем было выработано три формы «мирского обложения»: 1) «поголовное», то есть поголовная подать с приезжих людей; 2) «посороковое» – каждый сороковой соболь, добытый на промыслах; 3) «порублевое» – взимался определённый процент стоимости привезённых русских товаров. Эти сборы устанавливались по взаимному соглашению мирских людей, но с санкции администрации – «по приказу» воевод.124
Несмотря на то, что количество денежных поступлений напрямую зависело от времени года «неровно, смотря по приезду торговых и промышленных людей», суммы собирались большие, более двух – трёх тысяч рублей в год. Но практически весь доход уходил на три статьи расходов: 1) различные «государевы мангазейские расходы»; 2) расходы «на воевод»; 3) «земские издержки», именно эта ничтожная сумма тратилась на самообеспечение мирской общины.
В дальнейшем эти народные деньги сыграли для всей Мангазеи весьма негативную роль.
В Москве об этих местных сборах узнали совершенно случайно. В Сибирском приказе даже предположить не могли, что большие суммы денег утекают мимо казны. Присланные в Москву документы открыли факты злоупотребления воевод. Оказалось, например, что в 1629 году более четырнадцати процентов, а на следующий год уже более одной трети, собранных мангазейской общиной денег, ушло на нужды воевод. Поэтому в январе 1635 года последовал государев указ:
«Мангазейские и туруханские мирские лишние денежные сборы, и заказных и сборных целовальников отставить, и впредь таким целовальникам и денежным сборам не быть, а для своих государевых всяких мангазейских и туруханских дел на всякие расходы велел государь к мангазейским и туруханским доходам в прибавку имать приезжих торговых и промышленных людей… по полуполтине с человека».125
Далее в этом указе шло предписание записывать все сборы в таможенной избе, а все расходы вести таможенному голове, хотя и с ведома воевод и дьяка, «а воеводам и дьякам, и их детям и племянникам, и людям тех денег не давати и никакие воеводские дворовые расходы не держати».126
В Мангазею указ о запрещении сборов привезли назначенные воеводы Борис Иванович Пушкин и дьяк Павел Спиридонов.127 Они и сказали «государево жалованье», что «…не велено нам, твоим последним государевым достальным людишкам, заказных целовальников и сборщиков выбирать и никаких разрубов не разрубати…».128
Несмотря на то, что воеводы пытались мирскую кассу вести в съезжей избе, в Москве решили по-своему. Таким образом, в Мангазее появилась третья реальная власть – таможенный голова. И правительство, и общество стало на них смотреть как на защитников торговых людей.
Также в Москве сильно не понравилось, что мирское самоуправление играло слишком большую роль во время распри воевод, и естественно, там могло показаться, что эта народная власть ведёт себя слишком независимо. Или может стать таковой, если не принять срочных мер.
Со временем, мирская община приобрела особое значение для людей, собравшихся на далёких берегах Тазовской губы, оторванных на долгие годы от дома. Её значимость трудно переоценить, и сложно сравнивать с такими же «мирами» в исконно русских городах, хотя общие черты и сохранились. Кстати, в Сибири, такая же мирская община образовалась только в Енисейске, где также скапливалось большое число русских, и вполне вероятно была занесена из Мангазеи. Особенность мангазейской общины была ещё и в том, что параллельно их действовало две: в самой Мангазее и в Туруханском зимовье, возникшем недалеко от острога. Во главе мангазейской общины стоял заказной целовальник, или заказчик. Эта должность была выборной на год, выражаясь словами воеводы Г. Орлова «по мирским выборам выбирали меж себя погодно».129
Таким образом, и в этом случае Мангазея стала сильно отличаться от сибирских городов, здесь установилась своеобразная форма правления, эдакая вторая ветвь власти, при которой практически всё управление и руководство текущими делами отошли к мировой общине, а общее руководство взял на себя таможенный голова. Этому способствовало ещё и то, что для этого городка начальники таможен назначались в Тобольске, обычно по два купца, причём с таким расчётом, чтобы один обслуживал саму Мангазею, а другой Туруханское зимовье. При этом внимательно следили, чтоб каждый раз таможенники присылались из других городов. Благодаря этому они практически не зависели от самодурства воевод, и могли хоть как-то контролировать аппетиты местного начальства.
Как и все выборные мирские должности, эта была тяжёлая повинность, от которой простые люди старались уклониться, не жалея расходов. В конце концов, они приезжали сюда, чтобы заработать, а не выполнять общественные поручения. Но местная администрация была кровно заинтересована в том, чтобы мирская власть существовала и соответствовала поставленным ей задачам. Поэтому нередко воеводы вмешивались в выборы, и тем самым сводили на нет сам принцип выборного начала, заменяя его простым назначением. Сохранились свидетельства подобного добровольно-принудительного назначения.
Казанец Спирька Афанасьев жаловался:
«Как де он, Спирька, приехал в Мангазею, и Гр. Кокорев велел его, приметываючись к нему, для своей бездельной корысти, выбирать в заказные целовальники, и де он, не хотя промыслу своего избыть, дал ему 50 руб., от того, чтоб его в заказные целовальники выбирать не велел, а взял де у него те деньги Гр. Кокорев сам».130
Вообще-то, надо особо сказать, что у мангазейского народа к печально знаменитому старшему воеводе Григорию Кокореву накопилось немало претензий. Его склока с младшим воеводой Палицыным, может быть, мало бы кого заинтересовала, ведь людям надо было работать, зарабатывать деньги, чтобы вернуться домой хоть с каким-то капиталом, поэтому интриги государевых ставленников их практически не касались. Но Кокорев использовал свою власть на полную катушку. Например, он спокойно мог неугодного, или в чём не потрафившего ему целовальника, сменить и «велеть выбрать» на его место другого. Ещё осенью злополучного 1630 года, он вызвал к себе вновь избранного «заказчика» Бажена Максимова: «бил и увечил и из целовальников его отставил, а в его место велел поставить в заказных целовальниках Карпа Степанова Вологжанина, и в те поры он с иных торговых и промышленных людей имал посуды великие, чтобы в заказные целовальники не поставили».131
Таким образом, в большинстве своём выборы были фикцией, лишь слегка прикрывавшей простое назначение. То же самое могло произойти и с «денежными сборщиками», которых выбирали в помощь целовальнику. А так как они собирали большие суммы, то воевода, конечно, хотел видеть на этом месте своего человека. Например, всё тот же воевода Кокорев Савку Заборца «из целовальников выкинул» за то, что он «выискал у его советников (торговых людей, принадлежавших к его партии) многие утаенные товары». «Вор де ты и негоден де быть у государева дела», – кричал воевода.132
Надо особо отметить, что в Мангазее заказной целовальник только юридически был председателем мирских сборщиков денег. Особые условия жизни в городке выдвигали таких людей в первые ряды активных жителей. Поэтому, фактически он был главою «мира», представителем его нужд, выразителем желаний. Вокруг него объединялись торговые и промышленные люди. Но в то же время он был подчинён «миру», и нёс всю ответственность за свои действия перед ним. Ему приходилось вести всю отчётность за сборы, причём приходно-расходные книги проверялись особой выборной комиссией – счётными целовальниками, или счётчиками. Сам же «счёт» производился под непосредственным наблюдением воевод, которые вполне могли вмешаться в эту процедуру. Кстати, и на этот произвол жаловалась ревизионная комиссия, «считавшая» заказного целовальника Андрея Левонтьева Палмина в том же приснопамятном 1630 году:
«А воевода, Кокорев у нас, у счетчиков, книги сильно отнял и отписи и всякие книги приходные и расходные мирския». Левонтьеву пришлось рассказать, что его заставили совершить ряд подлогов «по велению» того же Кокорева.
Так что для русских людей нелёгкие времена были всё время. Многие воеводы грабили их нещадно, пользуясь своей полной безнаказанностью и зависимым положением народа. От домогательств местной администрации были освобождены только представители крупных купцов и посланцы царствующего дома. В Москву, конечно, пытались жаловаться на воеводский беспредел, но это мало помогало. Назначаемые на два года руководить Мангазеей, воеводы должны были всеми правдами и неправдами сколотить капитал.
Доставалось и местным аборигенам. Сохранилось письмо местного князца Ледерейко:
«Нас сирот твоих грабят и обидит всякою обидою. Берёт с нас насильством и грозя всякою грозою со всей самояди за пять лет – соболя и бобры. И нам сиротам твоим ни топора ни ножа ни котла купить и промышлять твоего государева ясака стало нечем. А иная, государь ясашная самоядь от насильства и грабежу стали наги и босы и вконец погибнем. А иная самоядь от насильства и грабежу разбежалась».133
Обращает внимание на себя то, как хитро князёк обратил внимание на своё бедственное положение, чётко указывая царю, что в случае чего его казна может не получить вожделенный ясак.
К сожалению, так и не ясно, кто писал все эти слёзные челобитные царю, ведь инородцы русской грамоты в то время не знали.
Ночной Директор продолжая размышлять о причинах внезапного упразднения Мангазеи, вспомнил как его научный руководитель Анатолий Тимофеевич Шашков как-то заметил, что подобным письмам верить нельзя. На Руси в то время, да и гораздо позже, это был своеобразный эпистолярный жанр. Шашков говорил, что мол, читаешь подобные слёзные челобитные и аж жуть берёт, и как человек может выживать в таких тяжёлых условиях, а почитаешь иные документы и выясняется, что всё у него хорошо, и живность в стойле есть, и сам здоров. Но по-другому выжить было не просто, ведь царский, а особенно чиновничий гнёт не знал жалости. Вот и исхитрялись мужички, писали слезливые челобитные воеводам, князьям да царям.
Человек поёжился, становилось зябко, и чтоб разогнать морозную тишину произнёс:
– Но всё равно за этими жалобами что-то да стояло. Ведь проблемы не могли возникнуть на пустом месте, как говорится, дыма без огня не бывает. А русский человек долготерпелив, и значит, уже припекало, если отваживались писать подобные письма. Тем более знали, что его проблему, скорее всего, будет решать тот же самый человек, на которого он пишет донос. Ничего не изменилось в этой стране, вот что печально. – Внезапно констатировал Ночной Директор и поплотнее запахнул меховую безрукавку.
Мангазейские воеводы боялись докладывать в Москву об истинных причинах, приведших городок в бедственное положение. Они оправдывались тем, что сложно завозить провиант, почти исчез соболь и другой ценный зверь. К тому же отношения между тазовскими племенами и мангазейцами накалились до предела, возникла реальная угроза вооружённого восстания аборигенов. Они видели только один выход из создавшегося положения, оставить городок и укрыться за крепкими стенами Новой Мангазеи.
Об этом свидетельствуют и сами мангазейские воеводы:
«В прошлом 180-м году, (1672 году), … велено город Мангазею поставить вновь на Турухане и прежнего города Мангазеи жилецких людей в тот новый город перевести… А во 1669 – 1672 году те служилые люди из прежнего города Мангазеи от шатости юрацкой самояди выехали и город остался пуст».134
Так что мангазейские воеводы приняли давно вынашиваемое решение о переводе стрелецкого гарнизона в Туруханское зимовье и постройки там Новой Мангазеи.
Впрочем, ещё в 1671 году указом царя Алексея Михайловича, городок Мангазея был упразднён. Этим же указом было велено построить «Новую Мангазея на р. Турухане, вследствие чего Туруханское зимовье было укреплено и туда переселился воевода Наумов со всем управлением».135
Через несколько лет после того, как мангазейцы окончательно перебрались в Туруханск, некоторые инородческие племена поняли, какие выгоды они потеряли, их князцы заявили, что они хотят возвращения русских в Мангазею. Они даже пообещали воеводам:
«Великого государя мангазейским жителям и приезжим всяким людям никакой тяготы не будет, что ясачная самоядь будет надежна».
Ещё они добавили, понимая насколько важен для русских сбор ясака:
«А ясачного сбору будет большая прибыль, и та прибыль будет прочна и состоятельна».136
Воеводам ничего не оставалось делать, как поверить в эти многообещающие речи и рискнуть отправить стрельцов в покинутую Мангазею. Увы, не получилось самоедам быть «надёжными». На стрельцов вероломно напали, а их жён и детей, захваченных в зимовье, утопили в проруби. После такого жестокого вероломства о возвращении даже не могло идти и речи.
Впрочем, историки уже в XX веке обратили внимание на ещё одно немаловажное обстоятельство, в результате которого Мангазея стала нерентабельна. В России стали складываться другие экономические отношения. Рынок перепрофилировался с товарно-натурального обмена на денежное обращение. И вследствие этого, «мягкая рухлядь», которая долгое время выполняла роль своеобразной национальной русской валюты, утратила своё значение и таким образом «златокипящая государева вотчина» стала никому не нужна.
Вот весь этот комплекс многочисленных причин в итоге привёл к тому, что в 1672 году администрация всё-таки перебралась из Мангазеи в Туруханск, а сам город через несколько лет полностью прекратил своё существование.
Кстати, ликвидация поселения на берегу реки Таз, открытие новых дорог и городов, привели к непредсказуемому результату – потребность в строительстве кочей в Западной Сибири отпала. А со временем у местных русских старожилов почти стёрлись воспоминания о «Златокипящей Мангазее», а слово «коч», – как символ её расцвета, по образному выражению учёного Е. В. Вершинина, вышло из широкого употребления.137
Но нельзя забывать, что именно за эти семьдесят лет существования Мангазейского городка, во многом проходила апробация новых административно-хозяйственных отношений между государством, инородцами, служивыми людьми и купцами.
С удовольствием вдыхая полной грудью свежий морозный воздух, Ночной Директор вдруг вспомнил одну крылатую фразу: «Мавр сделал своё дело! Мавр может уходить!».
Может, она прозвучала и некстати, но ведь действительно, Мангазея сыграла свою роль до конца. И исчерпав все свои ресурсы, исчезла в глубинах истории, оставив только пышный и красивый след из легенд и мифов. К тому же она была не только центром пушной лихорадки, разгоревшейся в начале семнадцатого века. Но и важным форпостом Руси. Отсюда уходили землепроходцы всё дальше на восток, в неизведанную тайгу, знакомясь с новыми народами, о которых ходили жутковатые слухи, и приводя их под высокую государеву руку.
Действительно город-загадка, город-легенда. А сколько ещё тайн хранит в себе земля, куда со временем ушли все постройки. Ведь археологи каждый год там находят что-то новое и удивительное. И конца краю этому нет.
Человек резким щелчком выбросил окурок. Он красной дугой прочертил ночную чернь и исчез в урне.
Тяжело хлопнула музейная дверь, вновь отрезая реальность ночного города от невидимой никому жизни музея.
VII глава
Сибирская таможня и стёжки-дорожки Сибири
Ночной Директор закрыл входную дверь и остановился. Как обычно, когда заходишь в тёплое помещение с холода, запотевали очки. Когда-то, в девстве, это раздражало, а теперь, по прошествии многих лет он уже притерпелся к этой особенности оптики.
По привычке, беззлобно и тихо ругаясь, протирая чистой тряпочкой помутневшие стёкла, он, близоруко прищурившись, вслушивался. Как всегда, в его отсутствие в музее активизировались различные звуки. Это скучавшие весь день вещи, населяющие музей, воспользовавшись редким случаем, начали своё общение с соседями. Всё-таки они так до конца и не привыкли к нему. Он, как обычно, сделал вид, что ничего не слышит и не торопясь, повесил меховую безрукавку на вешалку.
В общем, всё привычно. И ничего нового
Закрывая замок входной двери, он вдруг подумал, что двери любого дома самое слабое звено. Ну, ещё окна. Но всё же злоумышленники проникают гораздо чаще именно через двери. Почему-то сразу подумалось о государственных границах. Вот так всегда, вроде граница на надёжном замке, а вот дырочку в ней, при желании завсегда найти можно.
Человек снова поднялся на второй этаж и зашёл в зал, посвящённый жизни старого Обдорска. Ёще раз остановился около витрины, походя немного удивившись, что сегодня эта витрина прямо-таки его притягивает, и посмотрел на хорошо знакомые экспонаты, повествующие о том, как русские осваивали Сибирь.
В 1653 году Великий Государь Алексей Михайлович подписал Указ о «О взымании торговой пошлины с товаров в Москве и городах с показанием по сколько взято и с каких товаров». Дело в том, что на Руси с древних пор таможенные заставы стояли не только на границах государства, но и в каждом городе и местечке, выполняя много функций. Государственная пошлина на провоз товара, на который накладывалось специальное клеймо «тамга» – на тюркском языке это означало знак собственности, существовала ещё с XIII века. Таким образом, государство контролировало движение товаров через свои границы, тем самым исправно пополняя свою казну.
Тут ещё надо учесть, что вплоть до XVIII столетия европейские государства рассматривали Россию просто, как свою сырьевую базу, считая её как бы своей очередной, отдалённой колонией, из которой по дешёвке можно было вывозить многочисленные богатства, то есть сырьё. Вот на этом грабительском торге ушлые иноземные негоцианты, при известном везении, могли быстренько сколотить немалые состояния. К тому же внешние и внутренние торговые связи в самой Руси были развиты очень слабо. Так что возможностей для «немцев» было предостаточно. Лишь начиная с воцарения Петра I и проводимых им реформ, внутренняя и внешняя торговля стали меняться в лучшую сторону.
До этих петровских реформ управление таможнями распределялось между различными приказами в Москве, в том числе и Сибирским. Это весьма усложняло торговлю, принося дополнительные расходы купцам и внося путаницу в дела. Чтобы привести эти дела в порядок, со временем был образован приказ Большой казны, куда и поступали все таможенные сборы и другие доходы.
Разглядывая, сквозь стекло витрины карты, человек вдруг подумал, что Сибирь большая, а вот дорог в ней мало. И чем дальше на Север, тем сложнее и опаснее становился путь для рискнувшего добраться сквозь непроходимые дебри тайги, болота и тундру, по рекам и речушкам да озёрам, до низовьев Оби, куда в XVII веке были устремлены горящие взгляды многих, желающих нажиться на торговле с инородцами. Но, пожалуй, одной из самых трудных, в те времена, была дорога в вожделенную Мангазею.
Самая первая таможня в Сибири была поставлена в Верхотурье, так как долгое время этот городок был воротами в новые, только осваиваемые земли, и других обходных путей пока не было найдено. Но когда было проведано о «потаённых проходах торгашьих», то в Москве решительно запретили этот переход через Уральские горы. Все купцы обязаны были идти не иначе, как через ворота Верхотурской таможни.138
Позже таможенный пост был организован в Берёзово. В 1607 году этому городу была «дана канцелярская печать для наложения слепков на товары, пошлиною очищенные».139 Таким образом, он стал не только военным и административным северным форпостом метрополии, ведь одной из важнейших задач берёзовских воевод стал надзор за начинающей набирать обороты сибирской торговлей, собирать таможенные пошлины, контролировать проезжающих торговых людей, и многое другое.
Казалось бы, проблема была разрешена. Но начинающаяся в Сибири, и особенно в Мангазее, «пушная лихорадка» внесла свои существенные и весьма неожиданные для российской короны коррективы. Местные племена охотно покупали железные изделия, оружие, вино и многое другое, нужное в хозяйстве. Но государство запрещало частникам торговать этими «заповедными» товарами, считая их своей монополией. Но если есть спрос, то будет и предложение, таков уж суровый и непреходящий закон любого рынка. Тем более если государственная торговля этими товарами была весьма скудна. Поэтому в Сибири все пытались вести свой бизнес, и по возможности приторговывали всем, чем можно и чем нельзя. В конце концов ситуация начала выходить из-под контроля местной воеводской власти, не говоря уже о многочисленных приказах Кремля, на которые все, в общем-то, наплевали. К тому же в эту контрабандную сферу оказались вовлечены практически все, начиная от последних крестьян-переселенцев и купцов и заканчивая лицами духовного сана и воеводами.
Особенно интерес к сибирским дорогам проснулся в кремлёвских палатах, после основания Мангазеи. Этот городок надолго стал центром внимания не только московских царей, русских купцов, но и иностранцев.
В эту «царёву вотчину» можно было попасть тремя дорогами.
Морской путь шёл через «Большую океанскую пучину», то есть вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Он был опасен и сложен, хотя при благоприятных погодных условиях и ледовой обстановке из Поморья на берега реки Таз можно было пройти за одну навигацию, то есть за три – четыре месяца. Дело в том, что даже летом там можно было попасть в ледяную ловушку, или встречные ветра не давали спокойно ходить отважным мореходам. А попутных ветров приходилось ждать по нескольку недель, ведь климат тогда был намного суровей, чем в начале XXI века. Лишь немногие смельчаки пускались в этот путь, вокруг Ямала, по морю, чтобы попасть в устье Оби.
Сохранился акт за 1618 год, где описывались все сложности этого пути:
«А в прежние де годы, ходил Москвитин Лука гость с товарыщи проведывати Обского устья тремя кочи, и те де люди с великие нужи примерли, а осталось тех людей всего четыре человека; и то де они слыхали, что от Мутныя реки и до Обскаго устья и к Енисейскому устью морем непроходимые злые места от великих льдов и всякие нужи».140
Но был и другой путь. Ещё в 1601 году воеводы описывали царю путь торговых и промышленных людей, которые плыли с Двины, Мезени и Печоры в Обь и Тазовскую губу:

