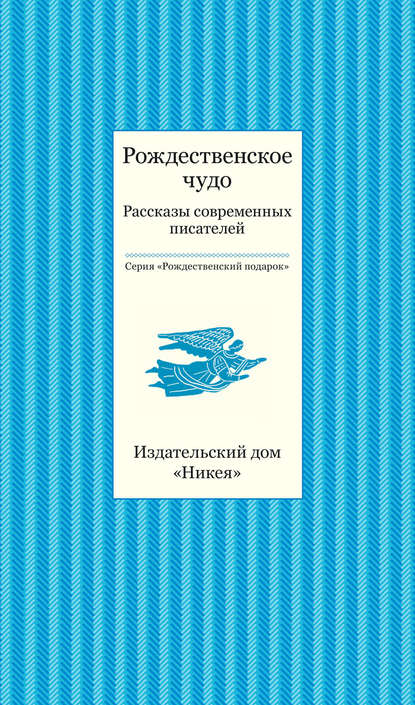Полная версия
Рождественские рассказы о детях
– А я знаю, кого он вам напоминает и почему нравится! – с возрастающим задором заявила Маруся.
– Да ты пресмешная! Пресмешная, – все еще пристально оглядывая ее, процедил Строев. – Ну, кого же напоминает мне твой ротик?
Под этим взглядом его Маруся чувствовала себя очень неловко; незнакомая улыбка Строева смущала ее, и недавняя радость мало-помалу заменялась непонятным чувством тревоги, почти страха. Она стояла рядом с человеком, которого привыкла считать более чем другом, она видела знакомое, милое ей лицо, слышала любимый голос, и вместе с тем ей опять стало казаться, что в этой огромной зале она одна, что все окружающие ее, и даже этот друг с его лицом и голосом, как будто чужды и враждебны ей.
– Вы заинтересованы одной девушкой… пансионеркой, – с отчаянной решимостью сказала она.
«Все равно! – тут же успокоила она себя. – Он никогда, никогда не узнает, что это была я». Строев удивленно приподнял брови, сделал круглые глаза и, словно желая лучше разглядеть ее, откинулся немного назад.
– Вот видите, я знаю! – не помня себя от волнения, подхватила Маруся.
«Пусть, пусть он признается!» – внутренне молила она.
– Я? Пансионеркой? – спросил Строев, указывая пальцем на белоснежную манишку своей рубашки. – Ха-ха-ха!
– Я знаю, знаю… не отрицайте, – твердила Маруся. – Я знаю…
– Ха-ха-ха! – заливался Строев. – Ну, ты, по крайней мере, оригинальна.
– Но разве нельзя… нельзя заинтересоваться пансионеркою? – с обидной дрожью в голосе чуть не крикнула Маруся.
– Можно еще и не то, – все еще смеясь, ответил Строев, – но я признаюсь. – Он наклонился к ее лицу, смех его оборвался, голос стал глуше, вкрадчивее. – Признаюсь, я не увлекаюсь пансионерками.
Маруся вздрогнула.
«Как вы смеете! Как вы смеете лгать!» – чуть не крикнула она Строеву, но его лицо, склоненное к ней, так испугало и озадачило ее, что она только глядела на него и не могла произнести ни слова. Это он? Строев? Это глядит, улыбается, говорит с ней Строев? Отчего она не узнает его? Отчего она раньше никогда не видала его таким? Тот, прежний Строев, и мил, и дорог ей, а этот, новый, только страшен и противен. Притворяется он теперь или притворялся раньше?
– Прелесть! – чуть слышно, одними губами произнес Строев.
Маруся отшатнулась. Глазами, полными мольбы и отчаяния, обвела она залу.
«Где папа? Где папа?» – чуть не закричала она.
Навстречу ей непрестанным однообразным движением шли маска за маской; из глазных отверстий блистали зрачки, из-под легких кружевных оборок показывался край подбородка. Шли мужчины во фраках с широкой белой грудью рубашек, одни равнодушные, скучающие, другие оживленные, с той странной, незнакомой Марусе улыбкой на губах.
– Куда ты, малютка? – позвал ее Строев, но она уже не слыхала его.
Из большого пестрого павильона грянул хор; послышались дикие, неестественные крики, словно дразня и подстрекая кого-то, понеслись они в душном, пропитанном ароматами воздухе, и этот воздух, эти крики, блеск зрачков и жуткие лица мужчин слились в одно невыносимое, подавляющее общее, в один тяжелый, ужасающий кошмар. Словно не люди двигались и говорили кругом нее: навстречу ей шли все новые и новые чудовища, одно страшнее, одно враждебнее другого. Маруся прижалась к барьеру крайней пустой ложи, опустила голову, и под маской ее по побледневшим щечкам быстро покатились слезы.
– Ну, едем скорей, – картавил где-то недалеко от нее молодой женский голос. – Строев пропал, едем без Строева.
«Строев!» – с горьким чувством повторила про себя Маруся.
– Строев!..
– Он идет, Додо, идет, – говорил другой голос.
Маруся резким движением подняла голову: прямо перед ней, под руку с нарядной маской, стоял ее отец и, повернувшись в сторону залы, делал кому-то выразительный, призывный знак рукой.
– Одну секунду, Додо…
Маруся замерла. Неожиданность, радость, стыд и еще что-то грустное, горькое и обидное, как разочарование, захватили ей дух, ударили в голову. Дрожа, задыхаясь, она сорвала с себя маску и, делая над собой невероятное усилие, бросилась вперед.
– Папа! – крикнула она. – Увези меня, скорей, скорей!
* * *В комнате Маруси горела лампа. Ее заслонили большой полураскрытой книгой, и белая кроватка девушки оказалась в тени. Маруся лежала лицом к стене. Как только она начинала засыпать, ей чудились дикие, разнузданные крики, жгучий блеск зрачков, и новое, отталкивающее лицо Строева склонялось к ее лицу, обжигая его своим дыханием.
«Я дома, я дома», – успокаивала себя Маруся, стараясь преодолеть тяжелую дремоту. И тут же из какой-то темной, безграничной дали выплывали к ней непонятные маски, доносились взвизгивающие, назойливые голоса.
«Не буду спать», – решила Маруся. Быстрым движением спустила она с постели ноги, и, вся содрогаясь от холода и необычного нервного напряжении, она закуталась в одеяло и тоскливо, сосредоточенно уставилась перед собой. Что за беда, что она испугала, быть может, даже рассердила папу? Не важно, пожалуй, и то, что Строев узнал ее и ей стыдно будет теперь взглянуть ему в глаза. Маруся чувствовала, сознавала в себе что-то другое: то, именно то, было и важно, и серьезно, и больно… Еще больней, еще тревожнее оттого, что не находила Маруся слов для передачи своего нового чувства. Серьезно и вдумчиво глядели ее глаза.
«Это ты там какой-то отшельник, святоша, а то ведь мы мужчин тоже знаем», – вдруг вспомнились ей ее же слова. Она быстро закрыла лицо руками. Холодные ладони ее почувствовали жгучий прилив крови к лицу, и опять перед ней ярко встала картина бальной залы, и отец ее, молодой и красивый, делал кому-то выразительный, призывный знак рукой.
«Отчего больно? Отчего?» – тоскливо пытала Маруся свою встревоженную душу. И в новом полусне она пыталась приподнять дрожащими руками невидимые ей маски с знакомых когда-то, понятных и милых ей лиц.
1894
Евгений Салиас (1842–1908)
Две елки
I– Ну… Господи благослови!.. Может, и отдаст… Завтрева к ночи оберну… А ты, Хфедор, сиди-тко дома, родной. Без валенок – куда же? Да и мороз-то здоров.
– Ладно.
– То-то, родной, посиди. Отдаст Захар – я не замешкаюсь. Машу поглядывай…
– Ладно.
– Сенца-то зараз не вали. Теперь с нее буде. А с солнышком подложи. Смотри, родной.
– Да уж ладно… Ты, матка, зря не запропастись.
Солдатка Авдотья собралась за двадцать верст к куму Захару, что в рассыльных у барина живет. Об осень взял у нее кум холста на рубахи, а деньги пообещал к Покрову, а там к Миколам и до самых вот праздников проводил. Жалованье сам не получал которое уже время. Почитай, с Петровок барин задолжал, не платит. Сам он еле чем пробавляется. Бьется не хуже крестьянского состоянья.
Деверь Авдотьин, мужик Антон, из соседней деревни заехал за ней по пути, взявшись ее свозить и обратно доставить. Вот и собралась она за долгом. Деньги тоже немалые – пять рублей. Из них два с четвертью отдать надо, зато остальные к празднику пойдут. Авдотья умащивается на розвальнях, хлопочет, возится, и так сядет, и эдак… Захлопоталась баба. И не от спеха, а куражится на радости. Будто посаженой на свадьбу собралась и в купецкие сани усаживается. А важность эту она на себя напустила не зря… Должок-то давно желается и давно на куме терпится… А теперь отдаст. Беспременно отдаст. Праздники.
Парнишка Федюк, солдаткин сын, провожает мать к крестному и тоже доволен, но не ухмыляется, как мать, а брови сдвинул и руки на груди сложил, вот как писарь волостной на сходе, Миколай Миколаич, когда собирается мир выругать «гольтепами».
– Глянь-ка, Федюша, гужи-то… – сказал мужик.
– Чего глядеть, трогай… – важно говорит Федюк.
– Не ровен час, родной.
– Ничего… Ладно все… С Богом! Ну…
– Господи благослови…
Мужик тронул лошаденку, и шагом двинулись они от избушки, на самом краю деревни, и тотчас выехали в открытое белое поле.
– Машу-то… Машу смотри поглядывай! – вдруг визгливо закричала баба, обернувшись из розвальней к сыну.
Федюк, глядя вслед, пробурчал тихо, будто себе одному:
– Ладно. Заладила.
Парнишко мамку свою, вестимо, любит, да все ж таки она баба. У нее все будто семь пятниц, швыряется, лопотошит, разов десять скажет одно слово, разов десять начнет какое дело, бросит и за другое возьмется. И так весь день, к вечеру умается, и все зря, по бабьей своей сноровке.
Федюк, хоть ему и всего тринадцатый годок пошел, совсем деловитее матери выглядит. Зря не тормошится, не болтает языком попусту, работает не хуже большенького какого. Все умеет и все смыслит. Когда кому нужно парнишку смышленого, мужики на всей деревне всегда Хфедора Солдаткина норовят взять. И живут Авдотья с Федюком не голодают, разве что от Фоминой до уборки, когда мука на убыль, а нового-то еще жди. Да и у всех его мало, и поделиться с солдаткой всякий боится.
Но теперь куда жить лучше. Вот прежде житье было каторжное, как жив был муж Авдотьин. Все тащил в кабак. Чего уж лучше… Зазвал сынишку купаться. Вылез первый из воды, взял рубашонку Федюшкину, новую, что мать ему состроила, да смехом унес… Попужать… Смехом, смехом… а рубашонка осталась у кабатчика до завтрева. До завтрева, да опять, значит, до завтрева. Так и сгинула. Родного сына раздел пьяница непросыпная.
А вот, как помер тятька Федюка – замерз в Великий пост на дороге, тоже спьяну, – так благодаря Бога жить стало солдатке с сыном куда легче. Не прибери Господь мужа – совсем бы по миру иди.
IIАвдотьина избушка на отлете от деревни с самого краю. Стоит она, здорово покосившись набок. Сдается, вот ляжет совсем. А уж вот семь годов так-то валится. И чудный вид у избенки. Крыша старая сколько годов уже не сменялась, и солома вся почернела и взлохматилась, будто вихры у мужика спросонья, и два оконца, будто два глаза, смотрят на улицу из-под лохматых нависших кудрей. И один глаз будто подбит и мигает. Одно оконце, где разбили ребятки стекло в третьем годе, заделано дощечкой.
И смотрит избушка на улицу, будто пригорюнившись своего сиротства ради. Одна-то она в сторонке. И чего она не изведала тут! Подымется буря, завоет вьюга, заметет метель и в одну минуту завалит избушку с поля так, что выше окон нанесет сугроб, и не вылезешь, откапывайся прежде у дверки… Да нет худа без добра. Зато от пожару лучше. Раза четыре горела деревня, один раз вся дотла сгорела, и головней не много осталось. А Солдаткина осталась цела и невредима. У нее же староста, перебравшись, месяц прожил…
Федюк, проводив мать, сдвинул шапку на самые глаза и стал чесать за затылком, зевнул и выговорил:
– О Господи, Царь Небесный… О-о-ох-хо-хо… Грехи тяжки…
Так всегда делает сосед их Аким, мужик богатый и первая голова на деревне. Непьющий. В город часто ездит.
Мужики его часто в пример ставят и с него пример берут – но в пустяках, что полегче…
Вот и Федюк, оставшись один-одинехонек хозяином в избе, ради важности зевнул и слова Акимовы сказал.
«Пойти на Машку глянуть», – подумал он и, обойдя избенку, приотворил тесовую дверцу в закуте… Теплом навозным пахнуло…
– Маша, а Маша… Чего?.. Жуешь?.. Жуй.
Маленькая пеструха корова обернулась на зов, поглядела своими большими навыкате глазами… Зорко, пристально глядят эти глаза, а ничего не говорят. Будто стеклянные. Видно только, что они, глаза, твари безгневной, безобидной… Знай день-деньской жует, чтобы молоко дать – выдоят, опять за жвачку. И стоит Маша так недвижимо, неслышно от Покрова и до Егорья, более полгода, покуда не выгонит пастух в поле. Всю зиму молчит Маша, но весной уже мычит не переставая, чует теплынь, траву, чует пору иную, и после закуты на свет Божий захотелось и ей…
Рядом с коровой в своем углу стоит привязана Сивка, маленькая, шершавая, грива косматая. Ей житье хуже. Она и голодная бывает в зиму. Машу нельзя не кормить. А Сивка бывает часто почти без корму… А все-таки запрягают, коли нужда. Гонять ее зря Авдотья не любит, а нельзя же… Бывает, сосед попросит в город съездить по делам и овсецом зато покормит ее.
Федюк оглядел корову, оглядел и лошадь, поправил сено у обеих и вспомнил про поросенка, что в избе под печкой сидит. Надо его выпустить побегать, небось скучает.
Затворил мальчуган закуту и, обойдя угол, вошел в избенку. Одна горница всего, да и мала. Темна, сыра, угарна… Пол, стены, потолок, углы – все-то черно, будто сажей вымазано. Все-то кажет корявое, только лавка да стол гладки, будто глянцем покрыты.
– Ну, хрюшка, подь, побегай, разомни косточки! – сказал Федюк, отнимая доску, которой была заставлена печка.
Поросенок захрюкал и со всех ног бросился из-под печки. И пошел по избе тыкаться обо все мордой и фыркать… И побегать-то рад, да и глуп.
Федюк снял шапку и сел в углу на лавку, хотелось бы хлебушка, думалось ему. Ввечеру больше захочется и лучше обождать. Ввечеру он возьмет каравай, сам себе отрежет кусок, и молока крынку достанет, и половину опростает…
«Да кабы не Маша – беда!» – думает мальчуган. Она на пятак в день молока дает, а они его продают мужику Акиму, а он торгует. В город возит молоко, творог, сметану, масло. За ним пятаков много этих, а ни одного они с маткой не видали – все мукой да крупой у Акима берут. А все-таки за молоко же. Стало быть, Маше спасибо. Оттого матка так об ней и печется. Пред отъездом подоила. А завтра Арина придет доить. А то беда. Долго ли испортить. Корова не конь.
IllТоска взяла мальчугана одного. С матерью все-таки словом перекинется, а теперь сиди вот. Даже хрюшка, набегавшись, прикурнул. Спать средь дня негоже, делать нечего, а уходить матка не велела…
«Что ж так-то сидеть… Небось никто тут не обворует. Корову не уведут. А из избы разве одного порося унести можно, так его и не приметно… Чего ж я тут буду зря глаза-то на стены таращить…»
Подумал мальчуган, решил и, надвинув шапку, вышел. Прошел он улицей, дошел до оврага. По дороге баба Маремьяна окликнула его:
– Ты куды это?..
– Никуды… Вот…
– Матка-то ушла, что ль? За должком-то?
– Уехала, – важно промычал Федюк в нос.
– Лошадку-то зачем погнала?
– Антон заехал, – еще важнее назвал мальчуган богатого соседа-мужика.
Хотел было Федюк от оврага назад вернуть домой, да рано, еще и смеркаться не начало… Постоял, постоял он над оврагом и стал спускаться. Пройдя мостик, поднялся он на другую сторону, где бывало всегда люднее и веселее.
На этой стороне и было село, не чета их деревнишке. У них все бедняки голь, а тут мужики богатые, что ни двор, то лошадь, две, корова, овцы с свиньями. А у них всего три коровки на всю деревню, считая и Солдаткину.
В стороне от села большущий сад и усадьба барская. Дом и флигеля каменные, надворное строенье деревянное, но свежее и все-то везде железом крыто. Была это когда-то усадьба князя одного московского, а как вышла воля, да оброк-то большущий перестали ему платить мужики, да в надел получили, почитай, всю землю, какая была при селе, князь и отказался. Ездить перестал на лето, как прежде, а там скоро и продал все, кроме усадьбы… Землицы немного соседу-помещику, алее – купцу. Купец Агап Брюхов лес вырубил, разжился и чрез год и усадьбу у князя купил. Теперь уж он все земли снимает кругом у помещиков, благо все мелкопоместные, а то в городах живут. И деньжищев у Брюхова – куры не клюют. Хозяйка его Матрена Ильинишна почти с постели не слезает – и почивает, и так лежит покряхтывает, не от болезни, а от сыта и купецкого удовольствия.
– Молода была, набегалась, – говорит. – Ноне при капиталах – полежу. Другие пущай бегают.
Федюк прошел село и завернул к усадьбе поглазеть. Давно не бывал он здесь. Может, что и есть поглядеть.
Дошел он до ворот… Ему навстречу трое сынков Брюхова с салазками выскакали. Шапки, тулупчики мехом обшиты, кушаки красные. На руках варежки, тоже красные. Да и салазки тоже красные, обшиты чудной материей и позументом, будто у отца Андрея отрезали кусок от ризы. Блестит – сиянье кругом…
У Федюка глаза разгорелись на купецких ребят.
Увидели парнишку озорники балованью – и к нему, все трое… Окружили…
– Ты чего, музлан? – пищит самый махонький, Ванюшкой звать.
– Гляди, тетеря какая, – тычет ему в рожу другой, Семен, по батюшке – Агапыч.
– Кланяйся, дурень. Скажи «бонжур»…
И старший, Митрий Агапыч, лет четырнадцати парень, живо сорвал с Федюка шапку и бросил в сугроб.
– Зачем? Чего обижаете… Что я вам… – заворчал Федюк и полез за шапкой.
Старший подкрался, ткул его в зад, и полетел Федюк торчмя рылом в сугроб.
– Господа… Негоже так-то. Я вашему тятеньке пожалуюсь. Что я вам… – разобиделся Федюк и, стряхнувшись от снега, достал шапку и надел.
– Поди, жалуйся тяте. Он тебя высечь велит! – кричит Митрий Агапыч, смеясь.
– Ты зачем прилез к нам? Тут наш двор. Сиди на деревне, тетеря… Я вот тебя! – грозится кулаком Семен.
– Давайте его снежками бомбардировать. Он будет турка, а мы Скобелевы…
– Давай…
Бросили мальчуганы салазки и, забирая пригоршнями снег да сжимая в комок, начали палить в Федюка. Так и зачастили… Покраснел мальчуган.
«Эх, кабы не боялся ответу матки за себя, – думает Федюк, – разнес бы всех троих барчат. Таких ли колачивал!»
Пришлось Федюку удирать бегом, а купецкие озорники разладились, гогочут и до села пальбой провожают. Федюк бежит, и они за ним.
– Турка! Турка! – кричат.
– Ура! Урра!
Уж на селе только бросили озорничество и вернули. Не приказано им было ходить на село. А то бы не отстали.
Федюк, обозлясь, тоже остановился и крикнул издали, не стерпев:
– Ишь их поднимает! Дьяволята! Крапивное семя!
– Сам дурак! Турка! – кричит горласто Митрий Агапыч.
– Твое турково рыло, – отзывается Федюк. – Аспид. Приходи к нам, вас я отхворощу по-своему, дьяволята.
Мальчуганы вернули опять на парнишку, будто догнать. Федюк припустился. Они остановились, и он тоже. Он стал грозиться, кричать, и купецкие мальчуганы тоже.
– Аспиды! Ас-пи-ды! – орет Федюк, что есть в нем духу.
Кричат и купецкие ребята что-то в ответ… Митрий Агапыч надседается, орет, но уж издалече не разберешь…
– Озорные! – злится еще Федюк. – Были ли вы, дьяволята, нашинские, с деревни, измочалил бы всех троих.
Стал уже Федюк спускаться к оврагу – оглянулся снова на ребят брюховских. Нету их. Уж добежали, знать, домой.
А вместо них вышел из ворот усадьбы мужик и идет шибко: должно быть, купецкие детки выслали кого из своих батраков догнать да отдуть Федюка.
Припустился мальчуган рысью от мужика, перебежал мост и оглянулся на ту сторону… Кажись, это кто-то знакомый, шапка-то страсть мохнатая, да больно уж большущая. Очень знакома… Одна такая на всю деревню.
«Э-э, да то Софрон…» – узнал Федюк.
Софрон – свой мужик, с деревни, и Федюка ни в жизнь не тронет, хоть бы и просили его ребята купецкие. Добрый мужик, только куда пьет… Все пропил и так на улице живет, где случится, ночует, где покормят. Ну и плохо ничего не клади при нем. Мир уже собрался начальство просить его отписать куда-то далече.
Когда кому нужно состряпать какое дело опасливое, негожее, всегда зовут Софрона. Он и мастер на всякие такие дела, да и взять с него нечего, с голого. Все с рук и сходит, пока мир еще терпит. Был на него раз след, что лошадку свел и конокрадам передал, да улик не нашлось. А то бы уж улетел далеко.
Впрочем, пообещал ему мир, коли еще раз где конь пропадет, забить его до смерти. С тех пор не пропадало еще коней. Зато телок у одной бабы пропал. Не то волки утащили, не то Софроновых рук это дело. Впрочем, и волков страсть кругом. Отбою от них нету. Бывает, иной раз на деревне забегают ночью и собак таскают. Много они их пережрали. Прежде на деревне, сказывают, было до ста собак, а ныне трех десятков не наберешь. Прошлую зиму у Акима жеребенка утащил волк, да далеко не мог унесть, так по близости избы Авдотьиной зарезал и только половину сожрал. Всю дорогу и пригорок кровью полил серый зубоскал.
IVФедюк, узнав Софрона, обождал его, чтобы сказать про озорство купецких ребят. Может, Агап Силантьич узнает – не велит им.
«А то и вихры надерет аспидам! – думает Федюк. – То-то бы гоже».
– Эй! Федюша! Во ладно! – заорал Софрон, завидя парнишку, и руками замахал.
– Чего?
– Тебя-то мне и надыть! – кричит Софрон.
Подошел мужик и рад. Веселый, ухмыляется, а ничего, еще не пьян.
– Чего тебе? – говорит Федюк.
– Дело, паренек. Золотое дело. Подсоби. Шел было я к Макару. Да вот ты попался. Еще того лучше. Пятак наживешь, во какое дело.
– Каки у тебя пятаки?! – смеется Федюк.
– Сейчас издохнуть, пятак тебе дам. Одному, вишь, мне не покладно. А взять с собой некого. Своих ребят нету. С села не пойдут, а с вашей деревни некого. Глупы щенки. Хошь мне помочь? Пойдешь?
– Что ж… Почему не пойти…
– Матка, коли заругает, – плевать. Ты ее ведь не боишься. Она не драчлива. Холит тебя.
– Матка уехамши.
– Во! Славно. Стало, тебе в самый раз. А я тебе пятак. Ей-богу! Сейчас мне издохнуть, коли я вру. Я сам-от полтину зашибу. Во как!
– Чем же ты это? Не воровать же мне с тобой идтить! – решил мальчуган.
– Что ты, паря. Кой леший! На что нам воровать. Мы, значит, так, полегонечку, потихонечку. Да и дело-то плевое. Коли и узнается – ничего. Поругается малость староста и плюнет. Ладно, что ль?
– Да что? Что? Ты наперед сказывай.
– Нет, ты наперед сказывайся. В подмогу пойдешь? Пятак хошь получить?
– Ну?
– Пойдешь со мной, как смеркнется, в лес. Вот, недалече за селом. Ну, за версту, что ли. И того не будет. Знаешь, где летом малинник? Версты нет.
– Верста будет.
– Ну, верста, нехай. Пойдешь со мной. К полуночи все дело готово будет.
– Да какое дело-то? Дерева валить, что ль? Так за эфто, дядя, знаешь, что бывает?
– Зачем дерева? То порубка. Дело сибирное. А мы махонькую елочку положим. Ей цена в лесу – алтын. А я за нее полтину получу и тебе пятак дам.
Задумался Федюк… Что матка скажет… Ночью со двора уйти и оставить избу. Машу одну бросить. Не ровен час… Воровства у них нет! А все как-то негоже. Пустая изба ночью. Помилуй Бог.
– Ну? – спрашивает Софрон.
– Да как же, дядя… Изба-то вот… Опять коровушка. Кабы матка даже была, а то…
– О, дурень! Да ведь мы в два часа время все оборудуем и домой будем. Хошь два пятака?
– Да зачем тебе елка?
– Глупый! Рождество. Праздник. Всем детям барским елки, значит, ставят в горницах и на них орехи вешают.
– Зачем? – удивился Федюк.
– Зачем! Про то баре, помещики знают. Такая заведенья. Ну, вот и Агапу Силантьичу надыть елочку детям. Он мне и приказал раздобыться.
– Чего ж это он тебя-то позвал?
И Федюк подозрительно глянул. Чего это купцу звать Софрона-пьяницу, да полтину платить! Пошли своего батрака. Даром сделает.
– Стало, так нужно… У него ельнику в саду нету. Лесов своих нету. Есть, да за двадцать верст отсюдова. Кланяться опять нашим мужикам не хочет. Он с ними ныне из-за потравы летошней на ножах, судиться хочет. Вот он меня и сговорил.
– Батрака бы послал. Даром бы…
– Батрака? Ох ты!
И Софрон думает про себя, как же купцу с своего двора слать человека – и пакостить. Из-за плевого дела. Ведь в лесу-то и накрыть могут. Как на грех, встренутся с села свои мужики.
– Тут, дядя Софрон, дело, стало быть, негоже. Эдак-то и я с тобой попадусь, – догадался мальчуган.
– Хошь три пятака?! – заорал Софрон отчаянно.
Задумался Федюк. Три пятака… И ведь не обманет. Пьяница и на руку нечист Софрон, а не обманет. Этого за ним не слыхать.
– Да ты один бы… – выговорил Федюк, подумав.
– Не могу я один. Ты лошадку запряги и топор припаси. У меня ничего нет. Один Бог на тесемочке.
– А ты у самого Агапа Силантьича попроси коня да топор. У него коней много…
Злится Софрон и сопит даже со зла.
«Ох, глуп мальчуган, – думает он. – Станет купец на воровское дело, хоть и малое, давать лошадь да свой топор. Накроют мужики да учинят мировой спрос: „Чей конь? Чей топор? Купца, мол, Брюхова…“ Ах, глуп мальчуган».
– Ты, паря, глуп. Этих делов не понимаешь. Я вот тебе, думаючи, умный ты парень, три пятака нажить даю, а ты артачишься да ломаешься. Будь матка твоя дома, сейчас бы к ней…
И стал дядя Софрон пояснять мальчугану, как они дело справят.
Как ночь придет, проедет Федюк все село, а он его у кабака ждать будет. Доедут в лес, живо елочку срубят – на дровни, и рогожами прикроют, и до усадьбы. Тут он на себе ее дотащит во двор, а Федюк домой поедет. А после сам купец будет хвастать, что елка у него была из мирского леса. А кто рубил? Батраки, а то и сам рубил – не накрыли. Прозевали. И дело с концом.
– А коли нас накроют?
– Ты скажешь – себе рубил. Матка послала. За дровами. А я тебе в помочь был. Вам не запрет рубить, да еще махонькое деревцо. Ему цена – грош.