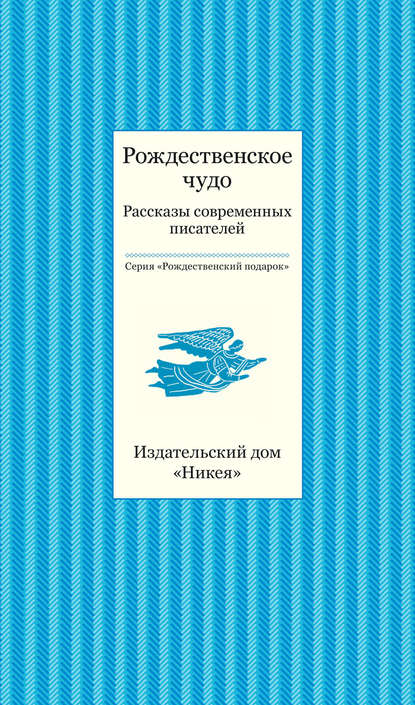Полная версия
Рождественские истории с неожиданным финалом
При всем избытке способностей, обогащенных основательным образованием, осуществлению его намерений постоянно препятствовал недостаток родства в столице. Особенно же были для него гибельны врожденная застенчивость, слишком мягкий нрав и отсутствие практического смысла, когда этот смысл требовался в жизни.
Если тревожный ум Росникова волновался разными предположениями, то и сердце его, в свою очередь, не могло похвалиться спокойствием. С давнего времени жаждал он любви, но бедный молодой человек и в этом встретил неудачу, огорчение и тому подобные осечки. Ошибаются те, которые думают, что в делах такого рода можно обойтись без расчета, хитростей, сноровок, уловок и других мелких стратегий, чуждых и ненавистных благородной душе. После этого легко понять, отчего Иван Иванович не имел успеха там, где бы он должен иметь успех по праву любящего, готового на все пожертвования, сердца.
В эпоху первого своего дебюта в столице проводил он вечера по воскресеньям у г-жи Кадарской, очень доброй старушки, которая ласкала Ивана Ивановича как сына своего старого знакомого и земляка. Кадарская жила в прекрасном собственном доме близ Большого театра; все ее попечения и думы, все надежды и опасения сосредоточивались на сироте-внучке, только что вышедшей из пансиона и не успевшей еще явиться в свете. С первого раза Иван Иванович до безумия влюбился в шестнадцатилетнюю Аннунциату – так называл он Анну Петровну. Сначала дело шло как нельзя лучше. Они вместе занимались музыкой, читали стихи, рисовали цветы и головки. Но вот минуло Аннунциате семнадцать лет, и тогда все повернулось вверх дном. Бог знает откуда набежали блистательные молодые львы, один другого ловчее, остроумнее и смелее. Бедный Росников незаметно очутился сначала на втором плане, а потом передвинулся на последний. Не имея средств сопровождать предмет своего тайного обожания на все вечера, балы, концерты и спектакли, он нечувствительно отдалялся от Аннунциаты более и более, стал реже ездить к Кадарским, а когда убедился, что его отсутствия не замечают, – прекратил и вовсе свои посещения. Через несколько месяцев увидел он из газет, что Кадарские едут в Гельсингфорс; в час отплытия парохода прискакал он на Английскую набережную, рассыпался в извинениях, уверяя, что продолжительная болезнь и занятия по службе сделали его невежливым пред знакомыми; по крайней мере, теперь долгом он для себя почел пожелать им в день отъезда счастливого пути. Анна Петровна едва его узнала и поблагодарила вскользь за память о них.
Несмотря на это, провожая глазами пенящий воды пароход, Иван Иванович давал себе обещание бывать у Кадарских как можно чаще, если только они благополучно и в свое время воротятся в столицу. Как же страшно замерло в нем сердце, когда, спустя три месяца, один из его товарищей ошеломил его вестью, что Анна Петровна вышла в Гельсингфорсе замуж, и сделала удивительную партию! Вмиг почувствовал он глубокое отвращение к жизни, смертельную ненависть к похитителю своего идеала. Потеряв смысл и сознание, он уже не слушал и не хотел знать, с испанским ли грандом, с русским ли князем или с немецким бароном сочеталась изменница; ему это было решительно все равно, он желал только одного: чтобы карающие волны поглотили преступных на возвратном пути. Однако ж ничего подобного не случилось. Молодые благополучно прибыли в Петербург и поселились в том же самом доме, где Росников увидел в первый раз незабвенную Аннунциату, а умерла менее всех виновная бабушка, вероятно, с радости, что устроила наконец счастие своей внучке. И действительно, это супружество казалось целому свету самым счастливым, муж – красавец, с значением в свете, богат и умен; жена – влюблена беспредельно в своего мужа.
С тех пор Иван Иванович сделался еще меланхоличнее прежнего и ровно три года не приближался к Большому театру, боясь мучительных воспоминаний и встречи с Анной Петровной. Тем не менее его нежное сердце сохранило в себе глубоко запавшее чувство. Только это чувство с годами переработалось, просветлело и преобразовалось. Брожение страсти, дикие порывы ревности и досады улеглись и остыли, остался один самый тонкий аромат любви. В отрадные часы мечтаний представлялась ему Аннунциата точно такою, какою видел он ее в прежние счастливые дни: тот же высокий, едва развившийся стан; те же сапфирные очи, та же детская улыбка. Даже милый этот образ являлся ему в сновидении и однажды сказал шепотом: «Не грусти, я всегда с тобою».
Под наитием таких странных экзальтаций, Иван Иванович начал приписывать всякую возвышенную мысль, каждый великодушный подвиг свой влиянию своего идеала. Отсюда уже легко понять, отчего он называл Анну Петровну добрым гением.
IVЧто касается до злого гения, то им сделалась для Росникова Амелия Фрезиль, цветочница. Знакомый ему молодой человек, родственник Амелии, затащил его однажды к этой сопернице Флоры. Сначала Иван Иванович пошел просто от нечего делать, а потом захотел ближе узнать и подметить характер знаменитой модистки. Но прежде нежели успел он что-нибудь изучить, был он сам вполне изучен и проучен.
Мадам Фрезиль имела великолепный магазин. Редкое богатое семейство в столице не обращалось к ней с заказами; Иван же Иванович, наоборот, принимал от нее сам заказы: достать билет в ложу Михайловского театра или в кресла итальянской оперы, добыть молодецкую тройку, чтоб ехать на загородный пикник, прислать карету для прогулки в Парголово и тому подобное.
Здесь надобно заметить, что в случае неисправности Ивана Ивановича в исполнении таких лестных поручений беззаботная француженка никогда не сердилась: она или обращалась с ними к другим молодым людям, или находила какое-нибудь иное развлечение, или оставалась дома и от всего сердца возилась со своими цветами и мастерицами.
Сам не зная как, Росников привык ее видеть почти каждый день. Ему нравилось ее бесцеремонное обращение, исполненное самых неожиданных, самых странных выходок, сквозь которые, однако ж, всегда проглядывали такт приличия и какая-то внешняя светская грациозность; ему полюбились ее звонкий смех, ее легкие остроты и неистощимые каламбуры, сменяемые вдруг куплетом водевиля, пропетого серебристым и верным голоском. Даже самая жажда общественных удовольствий и развлечений, ненасытная потребность пикников, маскарадов, спектаклей и балов – без всякой цели, с одним намерением устать, закружиться и ошалеть к безумном вихре забавы, – даже и это нравилось Ивану Ивановичу, как противоположность его задумчивому и грустному характеру.
Часто, когда вертлявая парижанка собиралась на какой-нибудь танцевальный вечер, погруженный в мягкие кресла Росников присутствовал, с видом знатока и педанта, при окончательном ее туалете. «Monsieur Jean, – говорила она, вдруг оставя зеркало, – посмотрите, какие у меня волосы!» Тут, вытащив из головы шпильки и гребенки, исчезала она до пояса в богатой россыпи кудрей. «А вот моя рука!» – продолжала она через несколько минут, поднося к самому его носу маленькую, благовонную, пухлую, с ямочками кисть, которую Иван Иванович тут же целовал с медленною важностию. «Ну а мое платье? Хорошо ли сделано мое платье?» – спрашивала она потом, поворачиваясь к Росникову спиною и представляя его взорам охваченную корсетом талию и розовые локотки обнаженных рук.
Амелия была говорлива и с тем вместе скрытна, откровенна и лукава, добра и расчетлива, вспыльчива, как порох, но без малейшей желчи и злопамятства. Она терпеть не могла лжи, но также и не высказывала всей правды. Побуждаемая легким, веселым и неугомонным своим нравом, она находила удовольствие в беспрестанных сношениях с особами разных классов общества и не щадила стараний на услуги, очень редко увлекаясь в этом случае одними корыстными видами. Только к дамам, которые делали ей заказы, питала она какую-то скрытую ненависть. Оттого ли, что род ее ремесла совершенно зависел от их прихотливой, не всегда справедливой, оценки, или потому, что они часто обращались холодно и небрежно с артисткою (Амелия высоко ценила свое искусство и называла себя не иначе как «артисткою»), но только злая француженка не пропускала случая подметить в них что-нибудь странное или смешное.
Само собою разумеется, что ее замечания Иван Иванович не оставлял без горячих возражений, которые, в свою очередь, Амелия опровергала новыми парадоксами. Это развивало спор, который нередко длился между ними до полуночи. Тогда Амелия подавала Ивану Ивановичу шляпу и, указывая пальцем на дверь, произносила скороговоркою:
– Мосье Росник, ступайте вон! Я спать хочу.
Надобно сказать правду, что, несмотря на очень невысокую степень образования цветочницы, Иван Иванович находил в откровенной беседе с мадам Фрезиль очень много веселых минут. Но под луною ничего нет постоянного, говорит допотопная пословица. С некоторых пор Амелия начала реже и реже принимать его. Только что просунет он голову в двери ее комнаты, как озабоченная чем-то парижанка стрелою бросится к нему навстречу и, отодвигая тихонько его назад, залепечет:
– Время нет, время нет! Ступайте, ступайте!
Однажды, часов в десять утра, увидел он у ее подъезда прекрасную маленькую карету. Любопытный Иван Иванович позвонил у дверей магазина. Вышла очень стройная, очень бледная мастерица.
– Мадам Фрезиль никак не может теперь принять вас, – сказала она томным голосом, делая разные медленные движения гибким и высоким своим станом, – у ней теперь одна очень знатная дама; у ней теперь заказов столько, что ужасти!
Росников воротился домой в самом скверном расположении духа и дал себе слово при первом же случае иметь с Амелией подробное объяснение. Недели две был для него вход в магазин недоступен, наконец удалось-таки ему попасть в комнаты Фрезиль. Она очень внимательно занималась работою и очень дружелюбно сказала обычное приветствие: «Добрый день, мосье Жан!»
Но мосье Жан был на этот раз просто нелюбезный, озлобленный Иван Иванович. Не отвечая на учтивость, грубо кинул он шляпу на стол и шлепнулся в кресла без всякого приглашения со стороны хозяйки. Такое новое обращение удивило и оскорбило гордую парижанку. Когда же Росников, устремив на нее резко-насмешливый взгляд, начал делать обидные намеки и высказывать обиняками, что ему кое-что известно о карете, тогда Амелия, кусая губы и перемогая кипящую в груди досаду, едва могла проговорить в ответ, что никто не имеет повода надсматривать за ее поступками, что она не дала Ивану Ивановичу никакого на это права, что он для нее скучный, пресный кавалер и что ей решительно все равно, знает ли он что-нибудь или ничего не знает. Это затронуло как нельзя более самолюбие Росникова и заставило его, в свой черед, произнести Амелии такую откровенную фразу, что вспыхнувшая француженка мгновенно сорвалась с места и швырнула в него букетом искусственных ландышей. Росников ушел из магазина, проклиная цветочницу и самого себя за то, что искал знакомства и даже руки сумасбродной женщины.
Такое несчастное событие заставило Ивана Ивановича избегать улицы, где жила Амелия, точно так же как удалялся он окрестностей Большого театра. И точно так же воспоминание об Амелии стало его преследовать. Склонясь на одиночное изголовье своей постели, бедный молодой человек невольно видел пред собою особу француженки: ее свежие, подернутые смуглым румянцем щеки, вишневый, громко смеющийся ротик, низкий с легким янтарным отливом лоб и густые темные брови, под которыми сверкали живые, неспокойные глаза, – это видение мало-помалу стало затмевать в воображении Ивана Ивановича образ Аннунциаты… по крайней мере, черты последней делались с каждым днем менее ясны и наконец слились в какой-то воздушный, холодный, строгий, мимо несущийся профиль.
Такую-то борьбу вели между собою в сердце Ивана Ивановича две женщины, из которых, в сущности, одна никогда о нем не думала, а другая, вероятно, через месяц совершенно его забыла!
V– Добраться бы мне только до этого проклятого выхода на лестницу, а там уже меня никакими сокровищами опять сюда не заманят, – говорил сам себе Росников, лавируя и ускользая от масок, осаждавших его, как нарочно, со всех сторон с непонятным ожесточением.
– Здравствуй! – пищала одна из черных проказниц. – Как ты похудел! Как сплющился под башмаком милой твоей супруги!
– А эти цветы? – картавила другая, указывая пальцем на увядающие камелии, оставленные ему таинственной незнакомкой. – Верно, твоя жена бросила их на пол, а ты подобрал и носишь их у сердца?
– Откуда, в самом деле, взялись у тебя эти гадкие красные цветы? – зазвенел вдруг сердитый голос, и в то же время маленькое, резвое домино юркнуло к самому плечу Ивана Ивановича, мигом вырвало букет, растеребило его в лепестки и развеяло по сторонам.
Грабительская операция эта была произведена с таким изумительным проворством, что Иван Иванович, которому до смерти было жаль цветов, еще не успел прийти в себя от досады, как уже маленькое домино, подпрыгнув на носки крошечных своих ножек, начало ему шептать в самое ухо: «В два часа я буду, непременно буду. Жди меня». Затем домино снова юркнуло в толпу и потерялось из вида.
– Какая вертлявая стрекоза! – произнес Иван Иванович. – Робок я, неловок и ненаходчив: не умею в мутной воде поймать рыбу! Что, если бы подвернулась еще какая-нибудь маска? Я бы уж теперь обошелся похитрее и порешительнее… Да нет, нет, запоздалое намерение. Вот уже и выход на лестницу!
На лестнице происходила еще большая давка, нежели в зале. Черные домино и капуцины обставили сверху донизу все ступени, словно полк статуй из базальта. Надобно было дожидаться очереди, чтоб двинуться на вершок вперед. Между тем оживленные свежим воздухом маски расточали от нечего делать последние любезности и остроты. Отовсюду слышались восторженные мольбы, прощальные вздохи и громкий смех неожиданно разоблаченной мистификации.
– Я буду преследовать тебя, маска, до тех пор, пока не узнаю твоего имени, – говорил статный мужчина с черными усами высокой, замаскированной даме, которую почтительно вел под руку. Даже неграциозные складки домино не могли отнять прелести у роскошного, вполне развитого ее стана.
– Ты не пойдешь за мною ни шагу далее, – отвечал ему повелительный, мелодический голос, – иначе я стану жалеть, что отдала тебе одному почти целый вечер.
– Но, прекрасная маска, скажи мне, по крайней мере, могу ли иметь надежду еще раз тебя увидеть?
«Вот должна быть красавица!» – думал Росников и протеснился несколько вперед, чтобы рассмотреть лучше замаскированную.
– Увидеть? – повторила невнимательно маска, медленно поднимая к глазам своим лорнет и наводя его на Ивана Ивановича. – Увидеть?.. Мне кажется, мы никогда уже более не увидимся.
Проговорив эти роковые слова, она, к совершенному изумлению Росникова, без церемоний притянула его к себе за широкий рукав капуцина, потом освободила свою руку от руки мужчины с усами и завела ее за руку Ивана Ивановича.
– О, вы безжалостны! – сказал статный мужчина. – В эту минуту я столько же ненавижу вашего кавалера, сколько ему завидую!
– А он, быть может, столько же ненавидит меня не за то, что я увожу его из маскарада, сколько завидует вам в том, что вы можете опять туда вернуться и повторять другим ту же самую лесть, которую я от вас слышала.
– О, вы немилосердно насмешливы! Я хотел бы, по крайней мере, знать имя счастливого соперника, для которого так жестоко вы меня оставляете!
– Его имя – Красная Ленточка, – отвечала маска и тут же выдернула из рукава удивленного Ивана Ивановича кусок пунцовой ленты, которого он прежде вовсе не замечал.
Решительным движением руки дала она прежнему кавалеру знак, чтоб он удалился. Скрепя сердце, должен был тот на этот раз повиноваться, раскланялся и пошел вверх по лестнице, а Иван Иванович начал бережно сводить замаскированную вниз, в швейцарскую, где толпа служителей давно ожидала господ своих.
– О, какая тоска, какая невыносимая скука! – произнесла замаскированная дама, склоняя к груди утомленную свою голову.
Эти слова гармонировали с печальным настроением Ивана Ивановича, и он в ответ на них не мог не прижать тихонько своим локтем милой ручки, так доверчиво отданной в его распоряжение.
Быстро повернула к нему замаскированная дама голову и взглянула на него с таким холодным, презрительным изумлением, что Росников смешался совсем, вспомня тут же слова краснорожего капуцина: «Касайтесь как можно легче до руки тех дам, с которыми будете ходить в маскараде».
Маленькая эта катастрофа происходила уже на последних ступенях лестницы. Тотчас высокий лакей, растолкав менее рослых своих товарищей, выдвинулся вперед и осторожно подал замаскированной даме бархатный, на собольем меху плащ и зеленую шаль. В то самое время как Иван Иванович, по долгу учтивого кавалера, помогал очаровательной незнакомке закутывать голову, почувствовал он, что лакей набросил также и на его плечи огромную шубу. Он хотел сказать, что эти покрытые синим сукном медведя принадлежат вовсе не ему, но расторопный слуга так живо сунул ему в руки чужую шляпу и так проворно кинулся вон из сеней, что Росников успел произнести только: «Гм!»
– Карета Долевского готова! – крикнул жандарм у подъезда.
Лакей отворил с улицы дверь и высунул оттуда свою голову в лунообразной шляпе. Замаскированная дама двинулась на крыльцо, смущенный Иван Иванович, не зная, куда ему девать чужую шляпу и шубу, последовал за нею.
С помощью лакея медленно взошла замаскированная дама по откинутой подножке в экипаж и села в противоположный угол. Ревностный служитель тотчас схватил Ивана Ивановича под руку, приготовляясь тоже усадить его в карету, но Росников попятился назад, все еще поглощенный размышлением, как бы ловчее возвратить навязанную ему шубу и шляпу.
– Садитесь же! – раздался из экипажа недовольный голосок. – Вы сегодня просто непостижимы!
«Пожалуй! – весело подумал про себя Иван Иванович, произнося в то же время выразительное: „Гм!“ – Извольте, я сяду! – думал он. – Только уже после чур на меня не пенять! Едва ли сыщется на свете чудак, который бы после таких настоятельных приглашений отказался от неожиданного счастия вам сопутствовать». Тут Росников в самом деле ввалился в карету. Лакей мигом захлопнул дверцы, крикнул кучеру:
– Пошел домой! – и карета покатилась.
VI«Вот приключение! – думал Росников, смеясь исподтишка в бороду своей маски и боязливо поглядывая на незнакомку, которая, не обращая на него никакого внимания, смотрела в противоположное стекло кареты. – Со мною происходит теперь самая маскарадная, самая романическая авантюра! Я не только очутился в чужой шляпе и шубе, но еще в чужой карете! А хороша должна быть эта Долевская! И к тому же, надобно полагать, страшная чудиха, затейница и озорница! Я ведь не так прост, чтоб все это приписывать одному случаю, случай-то всегда был против меня. Разве только теперь… Нет, нет! Тут есть своего рода расчетец, намеренье какое-нибудь, какая-нибудь светская проделка, женская уловка, дамская хитрость…»
– Как мне жарко! – произнесла чуть слышно незнакомка и, откинув шаль, начала развязывать ленточки своей маски.
«Интересно, интересно, дьявольски интересно!» – бормотал про себя Иван Иванович, между тем как его сердце прыгало, словно заяц, от безмерного любопытства и нетерпения увидеть скорее лицо Долевской…
Маска свалилась – у Росникова потемнело в глазах, кровь замерла в жилах, он почти лишился чувств…
Между тем экипаж остановился у подъезда. Лакей отворил дверцы и откинул подножку.
– Выходите же! – раздался опять недовольный голосок. – Вы сегодня просто ни на что не похожи!
Уничтоженный Иван Иванович беспрекословно позволил лакею вытащить себя из кареты, машинально подал руку даме и побрел с нею по широким ступеням лестницы.
Удар в колокольчик вызвал всех служителей со свечами и без свечей. Окруженные ими, Долевская и Росников вступили в переднюю, там первая оставила на руках лакея свой плащ, а Иван Иванович чужую шляпу и шубу.
Затем Долевская вошла в огромную залу. Иван Иванович бессознательно последовал за нею.
Долевская сбросила с себя домино… О, какою прелестною явилась она в своем голубом шелковом платье! Как роскошно выказался ее высокий стан! Как обнаружились ее круглые атласистые плечи! Какими розами алели ее снежные щеки, согретые и раздраженные долгим прикосновением маски!
Растерявшись еще более при виде таких несравненных прелестей, Иван Иванович собирался уже бежать, как Долевская, не обращая по-прежнему ни малейшего на него внимания, точно как будто вовсе не было его в зале, позвала служанку.
– Проводи меня, Верочка, в спальную, – сказала она, – я так устала, что едва держусь на ногах.
Когда Долевская и горничная вышли чрез боковые двери из залы, Иван Иванович бросил дикий взгляд на лакея, ожидавшего в передней, с разинутым ртом, приказаний. «Этот человек, – думал он, – принимает меня за своего барина, стало быть, Долевского нет дома. Чтоб избежать огласки, надобно мне отыскать другой выход и потихоньку юркнуть восвояси». С этою целью Иван Иванович пошел вдоль залы к противоположным дверям. Служитель, в котором по одутловатому лицу и пестрой жилетке, украшенной массивною цепочкою, не трудно было узнать камердинера, торопливо обогнал его со свечою и начал отворять перед ним одну за другою двери в смежные комнаты. Следуя за ним, Росников попал сначала в богато убранную гостиную, после в столовую и, наконец, в круглый кабинет, обставленный широкими диванами в турецком вкусе.
Камердинер зажег стоявшую на столе бронзовую лампу, выдвинул боковой ящик из врезанного в стену шкафа и достал оттуда персидский халат, кашмировые туфли, пуховый шейный платок и шелковый, с радужными полосками по плюшевому фону, колпак, подобный тем, какие носят неаполитанские рыбаки. Тщательно разложив все это на оттомане, спросил он Ивана Ивановича: «Угодно ли раздеваться?»
Росников не хотел до такой степени искушать судьбу, он сделал на этот вопрос отрицательный знак головою, показав притом повелительным жестом на дверь. Догадливый камердинер, отвесив низкий поклон и пожелав покойной ночи представителю Долевского, отправился опять тою же дорогою, которою пришел. Иван Иванович долго слушал, как стихали мало-помалу в отдалении тяжелые и мерные шаги его.
VIIТолько теперь, когда все умолкло и засыпающий дом погрузился в совершенную тишину, только теперь отважился Росников дать исход неистовой буре потрясенных чувств своих.
«Аннунциата! – возопил он, размахнув трагически руками. – Аннунциата! Ты – Долевская! Великий Боже, как не утратил я рассудка, убедясь в этой страшной истине! Как не одолела меня слепая ярость мщения при виде этих вечно памятных комнат, где назад тому четыре года был я желанным, милым гостем и где являюсь теперь робким и нечаянным пришлецом. Объясни же мне, непостижимая, каким образом очутился я подле тебя? Привела ли меня сюда странная воля жребия или твоя жестокая прихоть? Сочла ли ты меня в самом деле за твоего мужа или только, под видом ошибки, умышленно ввела в обитель роскоши бедного страдальца, желая показать ему весь блеск, всю неприкосновенность супружеского счастья, которым ты наслаждаешься? Ах, если все это заранее предначертано тобою, подумала ли ты, Аннунциата, как безжалостно разбиваешь преданное тебе сердце, и без того уже сокрушенное горем?»
Увлеченный драматизмом своего положения и риторикою, Иван Иванович наговорил бы, конечно, гораздо более, если б легкий шорох в соседней комнате не заставил его вмиг прикусить язык и навострить уши. Через минуту дверь из библиотеки тихо отворилась. Из нее вошла или, точнее сказать, вползла в кабинет, как кошка, босая девчонка лет четырнадцати, с огромною головою, широким носом, с хитрыми косыми глазами.
– Барыня давно почивают, – прошептала она, таинственно подкравшись к Росникову, и, бросив на самого барина лукавый, воровской взгляд, обличающий какое-то обоюдное условие, выползла из кабинета.
Появление этой странной вестницы произвело в чувствах и мыслях Росникова невыразимую сумятицу, которую ближе всего можно сравнить, пользуясь старым уподоблением, с дикими и смешанными диссонансами настраиваемого оркестра. Но громче и явственнее всех звуков раздавалась в душе его тема: «Барыня почивает!» «Что за непостижимый церемониал в этом доме! – думал он. – Извещают мужа, что жена его спит! Зачем этот лукавый взгляд и насмешливая таинственность косой девчонки?.. Мне кажется, что Долевская и эта босая Ирида очень хорошо знают, что я не Долевский. Нет, нет! Это мне так показалось. Чтоб не вышло из моего настоящего положения какого-нибудь скандала, я должен уйти отсюда без всякого шума и не подав о себе ни малейшего подозрения прислуге… Я пойду к Аннунциате, расскажу ей, кто я, и тогда с ее помощью выберусь из этого дома до возвращения Долевского. Только маска и костюм теперь уже не кстати. Странствуя в них по комнатам, можно наткнуться на лакея или на служанку, пожалуй, они подумают, что господин их помешался, и поднимут тревогу. Лучше представиться тем, за кого они меня принимают».
Окончив эти размышления, Иван Иванович смело сорвал с себя личину и сунул ее в карман, потом надел сверх капуцина халат, напялил на носки сапогов туфли, завернул шею и бороду в платок и натянул на голову, до самого носа, неаполитанский колпак. В таком новом наряде вышел он тихонько из кабинета, оставя на столе непогашенную лампу и притворив за собою бережно дверь.