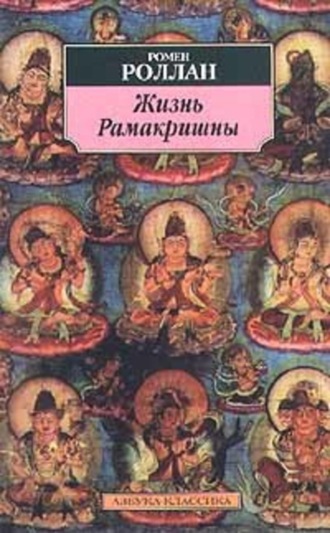 полная версия
полная версияЖизнь Рамакришны
Но как бы ни понимали устав Брахма Самаджа – эту великую божественную хартию, – он положил начало новой эре в Индии и во всей Азии. Целый век был отмечен его величием.
Рой на практике дополнил его своей мужественной борьбой за социальные реформы,[109] в которой он опирался на власть англичан, в то время проявлявших больше либерализма и ума, чем в наши дни.[110] Ему был чужд узкий местный патриотизм. Стремление к свободе и прогрессу материальному и духовному преобладало в нем над всеми другими соображениями. Не желая изгнания Англии из Индии, он, напротив, хотел, чтобы она глубже укоренилась там, внесла свою кровь, свое золото, свою мысль, вместо того чтобы, подобно вампиру, высасывать из страны все соки, довести ее до истощения. Он даже предлагал своему народу принять в качестве общего языка английский, европеизировать Индию, чтобы затем добиться независимости и дать просвещение всей Азии.
Всякая борьба за свободу народов находила горячий отклик на страницах его журналов, происходила ли она в Ирландии или в раздавленном реакцией Неаполе, было ли то конституционное движение в Испании или июльские дни 1830 года во Франции. Этот лояльный сторонник сотрудничества с Англией умел говорить с ней смелым языком и не скрывал, что он пойдет на открытый разрыв, если возлагаемые на нее надежды в деле развития его народа будут обмануты.
В конце 1830 года император Дели отправил его послом в Англию, где Рой хотел присутствовать на прениях в Палате общин по поводу возобновления договора с Ост-Индской компанией. Он прибыл туда в 1831 году, встретил горячий прием в Ливерпуле, Манчестере, Лондоне, при дворе, завязал дружеские отношения со многими выдающимися людьми, между прочим с Бентамом, и после короткого пребывания во Франции умер от злокачественной лихорадки. Его эпитафия гласит:
«Постоянно и искренно верующий в единство божества, он посвятил всю свою жизнь до конца культу единого божественного духа». На нашем, европейском языке мы сказали бы (смысл тот же): единству людей.
Эта гигантская личность, имя которой, к стыду нашему, не вошло в Пантеон Европы и не стало тем, чем оно является для Азии, глубоко погрузила свой плуг в почву Индии. Шестьдесят лет его упорного труда преобразовали ее. Крупный писатель на санскритском, бенгальском, арабском, персидском и английском языках, отец современной бенгальской прозы, автор знаменитых гимнов, поэм, речей, философских и политических трактатов, полемических сочинений по религиозным вопросам, он щедро сеял вокруг семена своей мысли и пламенной веры. И собирал с Бенгальской земли обильную жатву – дел и людей.
Он породил Тагоров – этим все сказано.
* * *Дед великого поэта – Дварканатх Тагор, друг Рам Мохан Роя, стал после его смерти лучшей опорой Брахма Самаджа.[111] А отец Рабиндраната – Дебендранатх Тагор, следующий преемник Роя (после правления Рамачандры Видья Багиш), – был истинным организатором Брахма Самаджа. Этот благородный образ, образ святого (Махарши), как его прозвал народ и каким он остался в истории, стоит того, чтобы его здесь обрисовать.[112]
Он отличался красотой тела и души, возвышенным умом, моральной чистотой, внутренним аристократизмом, который он оставил в наследие своему роду, сам унаследовав от предков глубокое и горячее поэтическое чувство.
Уроженец Калькутты, старший сын богатой семьи, воспитанный в ортодоксальных традициях, он в юности отдавался светским соблазнам и удовольствиям, от которых в восемнадцать лет его оторвала смерть, унесшая свою жертву из их дома. Он прошел через длительный моральный кризис, прежде чем достигнуть религиозного мира. Характерно, что его порывы постоянно вызываются поэтическими случайностями – то ветер в лунную ночь на берегу Ганги доносит к нему имя Хари (Вишну), повторяемое кем-то у изголовья умирающей, то лодочник во время бури говорит ему: «Не бойся, вперед!» – или опять ветер приносит к его ногам вырванный из санскритской книги листок с написанными на нем словами (из Упанишад), которые кажутся ему голосом бога: «Оставь все, чтобы следовать за Ним. Насладись этим невыразимым сокровищем…»
В 1839 году он с братьями и несколькими друзьями основывает Общество для распространения истин, им познанных. Три года спустя он присоединяется к Брахма Самаджу и становится его духовным руководителем. Его руками было построено здание веры и ритуала. Он организовал регулярное богослужение, основал школу богословия для воспитания священнослужителей, проповедовал сам и написал в 1848 году (на санскритском языке) «Брахма-Дхарма», теистское руководство в области религии и морали для укрепления верующих.[113] Сам он считал его плодом «вдохновения свыше».[114] Источником его, в отличие от источников Рам Мохан Роя, более обширных и разнообразных, были почти исключительно Упанишады, но толкуемые свободно.[115]
Позже Дебендранатх провозгласил четыре догмата веры Брахма Самаджа:
1. Вначале было Ничто. Существовал лишь Единый, Всевышний. Он создал всю Вселенную.
2. Он один есть Бог Истины, бесконечная Мудрость, Добро и Могущество, вечный и всепроникающий, единый, не имеющий подобного.
3. В служении ему, в поклонении заключается наше спасение в этом и в другом мире.
4. Служение состоит в том, чтобы его любить и делать то, что он любит.
Итак, это вера в единого бога, который создал Вселенную из ничего; этот бог по своему существу добр, всемогущ и праведен; абсолютное поклонение ему необходимо для спасения человека в другом мире.
Я не берусь судить, насколько Дебендранатх был прав, считая эту концепцию чисто индуистской. Но интересно отметить, что семья Тагоров принадлежала к общине брахманов, называемой Пирали, или Главными священнослужителями, и члены ее занимали этот пост при мусульманском владычестве.
В некотором смысле они даже считались стоящими вне каст, из-за их сношений с магометанами.[116] Быть может, этому отдаленному влиянию они обязаны своим упорным тяготением к теизму. Все Тагоры, от Дварканатха до Рабиндраната, были непримиримыми врагами идолопоклонства.[117]
Как показывает К. Т. Поль, Дебендранатху пришлось вести отчаянную борьбу, с одной стороны – против ортодоксального индуизма, а с другой стороны – против христианской пропаганды, стремившейся его вытеснить. Необходимость защищаться заставила его окружить свою цитадель поясом твердых и прямых, как колья, принципов. Между Брахма Самаджем и двумя крайними течениями индуистской мысли – политеизмом, который строго осуждал Дебендранатх,[118] и абсолютным монизмом Шанкары – была создана пропасть: Град Брахмо был крепостью великого религиозного дуализма – единого, но для всех разного бога и противостоящего ему человеческого Разума, получившего право и возможность толковать Писание. Я уже говорил, что этот Разум имел у Дебендранатха тенденцию слиться (и все больше, в конце концов, сливался) с религиозным наитием. Из своего полуторагодового отшельничества в Гималаях, возле холмов Симлы, около 1860 года, он вернулся с большим запасом рожденных в одиночестве мыслей.[119] Он поведал о них в своих импровизированных проповедях, волновавших его калькуттских слушателей. Он обогатил Брахма Самадж новой литургией, навеянной Упанишадами и проникнутой чистым и пламенным спиритуализмом.
Вскоре же после своего возвращения с Гималаев в 1862 году он взял себе в помощники молодого человека двадцати трех лет, который, превзойдя его, положил начало расколу, целому ряду расколов в Брахма Самадже: то был Кешаб Чандра Сен.
Человек этот, проживший краткую, смутную, беспокойную и вдохновенную жизнь (1838–1884), был наиболее яркой личностью, наложившей свою печать на Брахма Самадж во второй половине XIX века.[120] Он влил в него столько богатого и нового, что подверг опасности и само его существование.
Кешаб был представителем другого класса и другого поколения, более проникнутого влиянием Запада. Не принадлежа к крупной аристократии подобно Рою и Дебендранатху, он был представителем либеральной просвещенной буржуазии, находившейся в идейном контакте с Европой. По профессии он был врач. Дед его, человек выдающийся, занимал положение туземного секретаря Азиатского общества и руководил печатанием изданий на языке хиндустани. Рано оставшись сиротой, Кешаб воспитывался в английской школе и, в противоположность своим двум предшественникам, совершенно не знал санскритского языка; поэтому он скоро потерял интерес к народной индуистской религии.[121] Его растрогало учение Христа, и он ввел его в Брахма Самадж и в сердца избранных людей Индии. Когда он умер, газета «Индиан Крисчен герольд» писала: «Христианская церковь скорбит о смерти величайшего из своих союзников. Христиане смотрят на него как на посланного Богом, чтобы пробудить в Индии христианский дух. Он изгнал из Индии отвращение к Христу».
Это последнее утверждение неправильно. Мы увидим, до какой степени сам Кешаб страдал, сделавшись поборником учения Христа. Настоящий смысл его жизни был неправильно истолкован большинством говоривших о нем, даже внутри самого Брахма Самаджа, смущенного тем, что его вождь впал в ересь, и пытавшегося замаскировать это. Даже самому ему этот смысл открывался лишь постепенно. Только из документов, появившихся спустя 20 лет после его смерти, мы узнаем, что он с юных лет был преследуем тремя образами, посещавшими его: образом Иоанна Крестителя, Христа и святого Павла.[122] Одно очень ценное письмо конфиденциального характера, адресованное его близкому ученику Пратапчандре Мазумдару,[123] письмо, которое брахманы-нехристиане обходят молчанием, раскрывает нам его тактику: выждать время, чтобы передать людям полностью его веру в Христа. Эта двойственная жизнь, которую Кешаб принужден был вести в течение долгих лет и которой способствовала противоречивая его натура, сотканная из разнообразных элементов Востока и Запада, не сливавшихся, а наслаивавшихся друг на друга, делает очень трудной задачу беспристрастного историка; индуистские же биографы, почти все приверженцы какой-нибудь партии, мало способствуют ее разрешению.[124] Сначала, в первое время после вступления юного Кешаба в Брахма Самадж, куда его ввел товарищ по колледжу, один из сыновей Дебендранатха Тагора, он был окружен там всеобщей любовью. Ласкаемый Дебендранатхом, он был также любимцем молодых брахмасамаджистов, чувствовавших себя более близкими к нему, чем к благородному Дебендранатху, которого невольно отдаляло от них его происхождение и чисто олимпийский идеализм.[125] У Кешаба было развито общественное чувство, которое он хотел передать Индии. Сам крайний индивидуалист по натуре,[126] он, вероятно, именно поэтому рано понял, что страдания его родины частью проистекают из этого сверхиндивидуализма, которому на смену должен прийти другой социальный строй мысли. «Пусть все души будут едины в обществе и осуществят единение с народом в видимо существующей общине». Это мировоззрение, приближающее аристократический унитаризм Роя к массам Индии,[127] делало молодого Кешаба близким самым пламенным упованиям нового поколения. Как позже Вивекананда, многим ему обязанный, хотя, быть может, и не сознававший этого, – ибо идеи являются продуктом эпохи и рождаются одновременно в разных умах, – Кешаб считал религию необходимой для возрождения народа; как видно из одного обращения, составленного в Бомбее (1868 г.), он хотел положить ее в основу социальных преобразований. Так религиозная реформа Брахма Самаджа начала претворяться в жизнь. Деятельная, но нетвердая рука Кешаба кинула горсть семян, которую Вивекананда, подхватив, стал широким жестом бросать в почву Индии, пробужденной его громовым голосом.[128]
Но Кешаб пришел раньше времени, и некоторые его реформы оскорбляют проникнутый духом традиций Брахма Самадж. Говорили, что причиной раздора между ним и Дебендранатхом был вопрос о междукастовом браке. Я глубоко уверен, что были и другие разногласия, более серьезные. Взаимная любовь набросила покрывало на причины разрыва этих двух мужей, но то, что произошло сейчас же вслед за ним, дает возможность догадаться о них. Как бы ни был ум Дебендранатха доступен великой надежде достигнуть через Брахма Самадж единения всего человечества, он все же оставался глубоко привязан к традициям Индии и ее священным книгам.[129] Он не мог не замечать постепенного развития склонности к христианству, происходившего в душе его любимого ученика, и, как бы это ни было для него горестно, он не мог больше работать вместе с помощником, который заимствовал свои наставления из Нового Завета.
В 1866 году произошел неизбежный разрыв. Брахма Самадж раскололся. Дебендранатх сохранил за собой руководство Ади Брахмо (первое Брахмо),[130] а Кешаб основал Всеиндийский Брахма Самадж.
Это было тяжелым испытанием для обоих, особенно для Кешаба, отделение которого вызвало против него глухое недовольство. На первых порах он этого не предвидел. Сильный своей популярностью и горячей приверженностью близких друзей, он публично высказал свои взгляды три месяца спустя после разрыва, в громкой речи об Иисусе Христе, Европе и Азии.[131]
В ней он проповедует учение Христа – но Христа азиатского, плохо понятого Европой, – и говорит о «величии, на которое способна азиатская натура». Его христианство имеет характер преимущественно этический; Кешаба притягивает моральная сторона учения Христа, и прежде всего два основных ее стержня: всепрощение и самопожертвование. Только через них и через него (Христа) «Европа и Азия сумеют вновь обрести гармонию и единство».[132]
Его рвение неофита доходило до того, что он просил друзей называть его Иисусдас, то есть «слуга Иисуса», и в тесном кружке отмечал Рождество Христово постом.
Но его лекция вызвала возмущение, и Кешаб не успокоил умов своей второй речью о «великих людях» (1866 год), которая, если можно так выразиться, ставила Христа на его место среди других божьих посланцев, несущих каждый какую-нибудь особую весть: следовало, значит, принять их всех, не отдавая предпочтения ни одному из них. Открывая свою церковь людям всех стран и времен, он впервые ввел в сборник благочестивых постановлений Брахма Самаджа извлечения из Библии, Корана и Зенд-Авесты.[133] Но, вместо того чтобы успокоиться, волнение, напротив, только усилилось.
Кешаб был не такой человек, чтобы оставаться к этому равнодушным. Это трепетное, плохо защищенное сердце страдало более, чем всякое другое, от нелюбви. Всеми непонятый, покинутый союзниками, страдающий от материальных лишений и сверх того терзаемый внутренним смятением – или (как знать!) сомнением в своей миссии, «горьким сознанием своей слабости, греховности, раскаяния», отличавшим его от большинства религиозных мыслителей Индии,[134] – он пережил в 1867 году тяжелый душевный кризис. Он остался один со своими страданиями, без помощи, один со своим богом. Бог заговорил с ним. Религиозный опыт, пройденный им в тот период, потрясающие переживания, одинокие богослужения, которые он ежедневно совершал в своем доме, произвели полный переворот не в его идеях, а в их выражении. Этот человек, этот вождь, которого до тех пор все знали как религиозного интеллигента, морализирующего, чуждого сентиментальным излияниям (в действительности только отгонявшего их), вдруг отдается лавине чувств: любви и скорби. Он принимает их с восторгом.
Началась новая зра для Брахма Самаджа. В нем утвердился мистицизм великого бхакта Чайтаньи и Санкиртаны. С утра до вечера – молитвы и пение, звуки музыкальных инструментов вишнуитов, божьи празднества;[135] Кешаб ведет службу с лицом, залитым слезами, – он, который, говорят, раньше никогда не плакал.
Волна эмоций все росла. Искренность Кешаба, его широкий, всеобъемлющий ум и забота об общем благе вернули ему симпатии как избранных кругов Индии, так и англичан и вице-короля. Поездка, совершенная им в Англию в 1890 году, была сплошным триумфом; его встречали с не меньшим энтузиазмом, чем Кошута. За шесть месяцев,[136] проведенных им в Англии, он выступал в семидесяти собраниях перед сорока тысячами слушателей, очарованных его простой речью на чистом английском языке и его мелодичным голосом. Его сравнивали с Гладстоном. Его чествовали как духовного союзника Запада, как апостола Христа на Востоке. С одной и с другой стороны искренно создавались иллюзии, которые последующие годы рассеяли в прах, к разочарованию наивных англичан, ибо Кешаб оставался индусом до мозга костей и, не давая завербовать себя европейскому христианству, рассчитывал скорее приспособить его для себя. Индия и Брахма Самадж использовали доброе расположение правительства.[137] Преобразованный Брахма Самадж дал многочисленные ответвления в Симле, Бомбее, Лагере, Лакнау, Мунгере и т. д. Предпринятая Кешабом в 1873 году[138] с целью укрепления единства братьев и сестер новой веры поездка по Индии была как бы предвосхищением в сокращенном виде великого путешествия, совершенного 20 лет спустя Вивеканандой в образе странствующего саньясина. Она открыла перед Кешабом новые горизонты. Он считал, что им найден был ключ к народному политеизму, не принимавшему идеи Брахма Самаджа, и возможность объединения с ним на почве чистого теизма. Но в союз этот, осуществлявшийся в то же самое время по собственному почину Рамакришной, Кешаб вносил дух интеллектуального компромисса. Он пытался убедить себя – убедить политеистов ему не удалось, – что их боги, в сущности, были лишь атрибутами единого бога.
«Язычество индусов, – писал он в „Сэндэй-Миррор“,[139] – есть не что иное, как культ материализованных атрибутов бога. Если отбросить материальную форму, останется красивая аллегория. При исследовании темных областей индийской мифологии мы обнаружили, что каждый почитаемый индусами идол представляет божественный атрибут, носящий особое имя. Мы желали бы, чтобы единый бог был почитаем как обладатель всех трехсот тридцати миллионов атрибутов. Верить в одно неделимое божество целиком, не думая о бесконечно разнообразных его аспектах, – это значит верить в абстрактного бога, на практике это привело бы нас к рационализму и неверию. Если мы хотим поклоняться ему во всех его проявлениях, мы назовем их именами различных божеств…»
Это было великое движение религиозной мысли, направленное к охвату большой массы человечества. Но порыв остался незавершенным. Кешаб хотел сохранить за теизмом всю его реальную силу, оказывая политеизму лишь чисто внешние почести. И вместе с тем он боялся абсолютного монизма, от которого Брахмо всегда энергично защищался. Религиозная мысль заняла промежуточное положение, как бы взобравшись на стену, разделявшую два поля, две крайние веры. Положение доминирующее, но не обеспечивающее стойкого равновесия и не дающее возможности занять твердую позицию. Кешаб, однако, взобрался туда и считал, что призван богом диктовать оттуда людям новый обретенный им закон, то, что он называл «Новое избавление». Мысль об этом овладела им с 1876 года,[140] с того года, как завязались его отношения с Рамакришной.
Как это случается со многими людьми, имеющими склонность быть законодателями, ему с большим трудом удавалось внести ясность и порядок в свои собственные мысли. Он хотел бы охватить все разом: Христа и Брахмана, Евангелие и Йогу, все существующие религии – и разум. Рамакришна пришел к этому просто, не умом, а сердцем, он не стремился облечь свое открытие в систему доктрин и правил; он удовлетворялся тем, что намечал путь, показывал пример, давал толчок. Кешаб пользуется одновременно методами европейского интеллигента, ведущего семинарий по истории религии, и методами духовидцев Индии и Америки, отправляющих в слезах службу бхакти и прибегающих к Revival, всенародному покаянию. Он предоставил каждому из своих любимых учеников – считаясь, как талантливый педагог, с особенностями их темперамента – какую-нибудь религию для изучения.[141] и какой-нибудь метод йоги для практики[142] Он колебался между двумя образцами, одинаково ему дорогими: между примером живого Рамакришны, у которого учился мудрости, рожденной в экстазе, и между светом христианской веры, преподносимым ему английским монахом, впоследствии обратившимся в католичество, Люком Ривингтоном. Еще труднее ему было выбрать между жизнью в боге и жизнью мирской: он чистосердечно полагал, что одна не мешает другой.[143]
Но этим он вредил себе и косвенно также Брахма Самаджу в общественном мнении. Тем более что при своей «кристальной искренности»[144] он не принимал никаких предосторожностей для того, чтобы замаскировать многообразие своей полной противоречий натуры.
Результат был тот, что в 1878 году произошел новый раскол в Брахма Самадже, и Кешаб подвергся яростным нападкам своих же сторонников, обвинявших его в измене своим принципам.[145] Он был покинут большинством своих друзей. Это должно было сильнее связать его с теми немногими, которые остались ему верны: с Рамакришной и Люком Ривингтоном. Новое испытание приоткрыло дверь для ряда выступлений в духе христианства, все определеннее и все глубже уходящих в дебри мистицизма. Таков был ряд его докладов: «Пророк ли я, вдохновленный свыше» (январь 1879 года); «О трех видениях моего детства: Иоанне Крестителе, Христе и св. Павле»; «Индия вопрошает: кто есть Христос?» (Пасха 1879 года), где он объявляет Индии о приходе… «супруга моего Христа, кроткого Христа, рожденного богом в человеке»;[146] «Проявляет ли себя бог как единый сущий?» (1879),[147] в котором Сын показан сидящим рядом с Отцом.
И это не мешает ему в то же время обратиться к людям с высот Гималаев со своим знаменитым «Посланием к братьям-индусам» в 1880 году, к юбилею Брахма Самаджа, в котором он тоном первосвященника объявляет о благой вести, посланной ему богом, – о новом избавлении.
Перед нами точно страница из Библии.
«Слушай, Индостан, господь бог твой един…» – так начинается «Послание к братьям-индусам».
«Великий дух Иеговы, чей голос в грозе и буре прогремел: „Я есмь“ – и о котором возвестили небо и земля…»
«Я пишу это послание, дорогие и возлюбленные братья, в духе и по примеру св. Павла, как бы я мало ни был достоин его великого Учителя…»
«Павел писал, веруя в Христа. Как теист, я пишу вам это скромное послание у ног не одного пророка, а всех пророков…»
Ибо он считал себя завершителем дела Христа – предтечи:
«Новое избавление – это сбывшееся пророчество Христа… Всемогущий говорит теперь с нами, как он некогда говорил с другими народами».[148]
В эту минуту он считал себя стоящим на одной ступени с духом божьим:
«Дух божий и мое „я“ сплетены вместе. Если вы видели меня, значит, вы его видели».
Что же говорит он, Всемогущий, чьим рупором стал Кешаб? Какую новую любовь, новую надежду, новую радость несет он? («Как сладостно это новое Евангелие…»)
Вот что возвещает Иегова, ставший «богом Индии», новому Моисею:
«Бесконечный дух, которого не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо, – вот ваш бог, и другого бога у вас нет. Вы, индусы, вознесли двух ложных богов, противников всевышнего: божество, вылепленное рукой невежд, и божество, созданное суетной мыслью разумных умов, – оба они враждебны нашему господу.[149] И вы откажетесь от них обоих. Не поклоняйтесь ни мертвой материи, ни мертвому человеку, ни мертвой абстракции. А поклоняйтесь живому духу, видящему без глаз… Общение души с богом и с душами исчезнувших святых станет вашим единым истинным небом, и другого неба у вас не будет… В высокой экзальтации души ищите радость и святость неба… Ваше небо недалеко, оно внутри вас… Вы будете чтить и любить всех старейшин человеческой семьи: пророков, святых, мучеников, мудрецов, апостолов, миссионеров, филантропов всех времен и всех стран, без кастовых предрассудков. Пусть святые Индии не монополизируют вашу любовь и почитание… Отдайте всем пророкам должную дань уважения и привязанности. Каждый добрый и возвышенный человек есть олицетворение одного из элементов божественной правды и добра. Склоняйтесь скромно к ногам каждого, кто послан к вам небом… Пусть его плоть будет вашей плотью, его кровь – вашей кровью. Живите в них, и пусть они живут в вас вечно».
Что может быть благороднее этих строк? Это высшее выражение универсального теизма. Как близко оно к свободному теизму Европы, не признающему никакой богооткровенной религии. Оно раскрывает свои объятия всем очистившимся умам всего мира: в прошлом, в настоящем и в будущем; ибо Евангелие Кешаба не выдает себя за последнее слово откровения. Книга Индии не закончена,[150] новые главы будут к ней добавляться каждый год… «Идите все вперед по пути любви и познания бога. Кто знает, что откроет нам Господь через десять лет, кто, кроме него самого».
Но как примирить этот свободный и широкий теизм, такой уверенный в себе и ясный, – с коленопреклоненным признанием Христа в следующем году?[151]
«Должен вам сказать, что я связан с Евангелием Христа и занимаю в нем значительное место. Я блудный сын, о котором говорил Христос, и я пытаюсь вернуться к моему Отцу, испытывая чувство раскаяния. Скажу больше: для удовлетворения и в назидание моим противникам… Я Иуда, я тот несчастный, кто предал своего Учителя… настоящий Иуда, согрешивший против истины. И Иисус живет в моем сердце».









