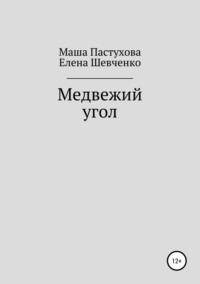Полная версия
Эльге, до востребования
Детям дарят с елки
Детские игрушки.
И, состарясь, дети
До смерти без толку
Все на белом свете
Ищут эту елку.
Где жар-птица в клетке,
Золотые слитки,
Где висит на ветке
Счастье их на нитке.
Только дед-мороза
Нету на макушке,
Чтоб в ответ на слезы
Сверху снял игрушки.
Желтые иголки
На пол опадают…
Всё я жду, что с ёлки
Мне тебя подарят.
Услышав, она обрадовалась. Значит, он помнит, как они познакомились в 1935-м.
Тогда папа впервые принес елку, настоящую, а не ветки, которые фрондерствующие тетки, завернув в газету, каждый год тайно приносили в дом 24 декабря. Папа качал головой, но ничего им не говорил. Это они щебетали, словно провинились и оправдываются, мол, кто на четвертом этаже увидит. Папа начинал спорить, что соседи унюхают запах Рождества. Тетки шумели, что же теперь не праздновать, у них еще с октябрьского праздника припасена бутылочка полуночного шампанского, его надо только тихо открыть. Тихо ни разу не получилось.
И вот, наконец, елку разрешили. Для настоящей елки нашлись игрушки. Только дореволюционный ватный Дед Мороз был безнадежно испорчен Алеком: он его раскрасил и подстриг.
И тут жизнь завертелась, мама обзвонила всех знакомых и назвала толпу гостей с детьми – и Вульфсонов с Валериком, и Манфридов с Эриком.
Все принесли игрушки, столь долго томившиеся по чемоданам на антресолях. Детей усадили делать гирлянды и снежинки. Лейба ими руководила, она оказалась знатной мастерицей по вырезанию из бумаги.
Амалия ворчала, что надо было праздновать 24 декабря, а это что-то совершенно другое, 31-го уже и не праздник. Все от нее только отмахивались.
Ночью детей запихнули спать в одну комнату, завели патефон и танцевали. Мама пела. А на следующий день вечером все пошли к Манфридам в Дом на набережной. У них была огромная елка, под потолок. И всем дали подарки. Эльге досталась звезда на елку и пакет конфет. А Алеку – два апельсина.
Только она не помнит, был ли там Валерик, а спросить его было неудобно. И стихи не о той елке. Неожиданно он сказал:
– Я бы хотел испытать такие же чувства, но не всем это дано.
– Почему ты так говоришь? Мы же все кого-то любим. Папу, маму, Алека, теток… – сбилась, чтобы не проговориться.
– Я о другой любви.
– Понимаю, – кивнула головой.
– Не понимаешь, – покровительственно сказал он. – Вот ты читала «Декамерон»?
– Нет. Папа против. Говорит, что не то, чтобы мне рано, а что я неправильно пойму. Мол, всему свое время. А ты уже читал?
– Конечно. Там о влечении мужчин и женщин. Но это не любовь. Влечение – сильное чувство, но оно быстро проходит. А любовь – тихая, но такова, что ты готов и на подвиг и на жертву.
– Как твой папа.
– Нет, папа любил работу, он был фанатик своих теорий. Любовь – это как твой папа.
– Он хороший, – вздохнула она, – Но он совсем не герой. Он даже в тире стрелять не умеет. Зрение плохое.
– Ты еще маленькая, – Валерий поднял ей голову за подбородок, – И ничего не понимаешь.
Она хотела сказать, что все понимает. И ей от этого страшно. Раньше она могла обо всем рассказать папе. А сейчас не может. Получается, что она оторвалась от семьи и плывет в одиночестве, как полярник на льдине. Алеку тоже не расскажешь, он маленький и все чувства считает дребеденью.
– Ты о чем-то задумалась? Расскажи, я же тебе брат.
Ну как сказать?! Она заплакала, Валерик обнял ее за плечо:
– Ну что ты, что ты… Что случилось? Ты влюбилась? Расскажи мне, кто он.
Она покачала головой. И заплакала еще горче. Мир рушился, как льдина у полярника. Всегда казалось, что все они что– то единое. Но раз она откололась, получается, что она, маленькая и глупая, не видела настоящих отношений папы и мамы, а может, и тетки не так любят мужа сестры. И почему к ним не заходят жены дяди Миши? Понятно, почему они не любят друг друга. А их-то за что? Или…
Слезы не текли, они застывали на щеках глицериновыми каплями. Или – она отщепенец, не способная жить, как все близкие и свои. И зря Валерий читал стихи и подсовывал книжки, она иначе их прочла, потому как она не такая, как надо. И как теперь быть, как жить с ними, как садиться с ними за стол, здороваться утром, выслушивать их советы? Они даже не знают, что она чужая. А она знает, что напрасно тратит их усилия и пользуется добротой.
В их семье уже был один отщепенец, о котором папа говорит только шепотом, чтобы дети не слышали. Но чем тише говорят взрослые, тем больше слышат дети. А этот плутовской роман про папиного дядюшку, родного брата его отца, был увлекателен настолько, что они с Алеком даже придумывали похождения героя дальше.
Папин дядя должен был по настоянию семьи в 13 лет жениться на 25-летней перезрелой девице, которую никто замуж брать не хотел. Но отца ослушаться невозможно, и тогда юноша сбежал, крестился, взял фамилию крестного, вроде как стал русским. И сразу подался на военную службу вольноопределяющимся. Однако за то, что скрыл происхождение, был арестован и заключен в тюрьму за мошенничество.
После освобождения в 1873, скрыв судимость, вновь поступил на службу и выдержал экзамен в Михайловское артиллерийское училище. Однако после того как факт судимости был раскрыт, уволен.
Путешествовал два года по России, Австро-Венгрии, Великобритании и Франции, выдавая себя за князя Чавчавадзе, потому как был кудрявым брюнетом. Девушки и их маменьки падали ему в объятия. Однако вскоре закоренелого мошенника схватили и вновь осудили.
И тогда он от тоски стал писать романы. «Исповедь преступника» была даже высоко оценена самим Горьким. Папа гордился этим, хотя дома книжку не хранили, даже имени писателя Линева не поминали, только по фамилии и звали.
Эльге было жалко этого отщепенца, его судьба трогала ее до слез. Вот и она тоже не может быть со всеми. Это судьба.
***
Валерий не ожидал столь обильных слез подруги. И растерялся:
– Эль, хочешь я подарю тебе Симонова?
– Не надо, – хлюпнула носом и пошла к дачам.
– А когда вернемся, в театр сходим, говорят, там его новая пьеса про любовь.
– Не уверена, обещать не могу, – ответ обескуражил юношу, а она представила, как все будут бегать, билеты доставать, ее, возможно, захотят взять, а она откажется. Они изумятся, захотят ее понять. И тогда они ее примут, и больше она не будет изгоем. Он не дал ей додумать.
– Ну тогда давай просто в кино сходим.
– Может быть. – она хотела представить, как они все потом поймут ее, как они раскаются, только не знала, что надо сделать, чтобы так и было.
Валерий довел ее до калитки. Оказалось, что мама приехала и, как всегда,
с сюрпризом. На станции она купила курицу-пеструшку. Мама шумела:
– Будут свежие яйца. Корма ей надо немного.
Алек строго спросил, как зовут курицу. И все в полном восторге кинулись придумывать ей имя. В итоге проголосовали за Кэти. От такого внимания курица метнулась в сад и пропала. Все побежали ее искать, не поймали, но нашли яйцо в траве.
– Ну я же говорила, она прекрасно несется, – потрясала яйцом мама.
– А курица где? – спросил пытливый Алек.
Все понеслись искать курицу, та резво бегала по саду, уворачиваясь от преследователей.
– Ату ее! Загоняй, загоняй! – орал Алек.
Валерий прыжком преодолел тропинку и схватил курицу. Крики ликования были наградой охотнику. А он стоял с курицей на вытянутых руках, та вдруг стихла, втянула голову и даже не пыталась вырваться. Валерий и сам был изумлен своим подвигом. И вдруг вручил курицу Эльге, будто это букет из перьев.
Эльга взяла ее на руки, как котенка. А все растерялись, куда эту несушку теперь пристроить. В дом? Хозяйка будет возражать.
– Надо построить ей загон, – вошел в себя Валерий, снова напустив на себя взрослый строгий вид.
И они с Алеком тут же принялись за дело, хотя строить было не из чего. Они собрали какие-то ветки, тетушки принесли картонки и веревки. Через полчаса загон, похожий на гнездо, был готов. И Эльга – у нее уже затекли руки – поставила туда совершенно ошалевшую курицу. Курица от пережитых событий сразу заснула, и все отправились пить чай на веранду.
Валерий был героем дня. Мина Григорьевна гордилась сыном.
А утром курица сбежала, разломав шаткую постройку. Валерий рванул ее искать, но Эльга остановила его, взяв за руку.
– Постой, яйца растопчешь. Пойдем, поищем ее, только осторожно ступай.
Курица, действительно, отложила два яйца в траву и спряталась в заросшем малиннике. Алек, выбежавший позже, нашел еще одно яйцо и радостно вернулся с добычей, заявив, что он лучший охотник за яйцами. Валерий предложил сначала построить основательный загончик, а потом ловить Кэти.
Валерий серьезно подошел к делу, принес со станции стройматериалы, выкопал ямки под колышки и начал связывать плетень из ивовых веток. Алек помогал ему, но потом ему наскучило, и он убежал искать яйца и курицу. А Эльга помогала Валерию, подавала прутики, держала узлы, иногда касаясь его рукой. Хорошо, что брат убежал.
К вечеру они закончили основательный загончик и даже травы туда накосили. Да только Кэти в загоне нестись перестала, пришлось выпустить свободолюбивую пеструшку на волю. Мальчики по утрам весело охотились за яйцами, возвращаясь к завтраку чумазыми и поцарапанными. Эльза мазала их зеленкой, и они мужественно терпели. А мама радовалась, что не зря купила эту сумасшедшую курицу, каждое утро к завтраку два-три свежих яйца. Это редкость для несушки, не иначе у Кэти брачный период.
Перед отъездом в Москву пеструшку подарили хозяйке. Эльга заплакала: лето кончилось на какой-то незаконченной фразе, ей хотелось еще дожить эту дачную историю.
– Ты почему плачешь? – спросил Валерий перед машиной, в которую грузили подушки, корзины, одеяла, банки с вареньем.
– Курицу жалко, – неожиданно соврала она, – Из нее суп сварят.
– Нет, не сварят, ее еще поймать надо. А когда поймают, дальше продадут.
– Правда?
– Конечно, я тебе обещаю. Она вон какая яйценоская.
Как ему объяснить, что это лето прошло не так беззаботно, как всегда было. Что она стала иной, и все это поняли, как она ни скрывала, и больше не будет, как прежде.
А как будет, она не знает. И что делать, чтобы все было хорошо, тоже не знает.
– А знаешь, мы с тобой приедем в сентябре, когда все в школе определится, и проведаем Кэти, семечки ей привезем. Я скажу об этом хозяйке, и тогда она ее точно пощадит. А если вспомнить, что Кэти все время бегает, то мясо ее жестковато. Так что в суп она не годится, – Валерий пустился в пространные объяснения, веселясь собственному красноречию.
– Да ну тебя, дурак! – пнула она его, и слезы остановились.
***
Дачная жизнь занимала в бабушкиных воспоминаниях главное место. Она точно называла место, год и дату выезда, воспоминались все окружающие дачники и особенности поселка. Даже сорта яблонь, что росли в саду, она помнила – пипин или мельба. Устройство печи в доме и приключения всех друзей. Имена нянь и детские болезни. Привезенные из города продукты и местные деликатесы.
Год маркировался не событиями, не погодой, а дачами. В 35-м отдыхали в Катерево под Истрой, там можно было кататься на лошади, а потом в Жуковке, которая много лет спустя стала пафосным поселком, там вечно горели дома, бабушкин папа помогал тушить, и от перегрева лопнуло стекло его часов – такая мелочь осталась навсегда в памяти. Кстати, как она потом поняла, шла коллективизация, поджогов было много.
Потом сняли в Виноградово, от станции было далеко, но хозяйка позволила разбить свой огородик, мама посеяла укроп и лук, а тетки цветы, и они вечно ругались из-за того, что растения друг другу мешают.
А в 34-м уехали в Буденовку под Одессой, первый раз на море, – дядя Миша дал денег, он как раз премию получил. Но там всем было скучно, потому что все общество осталось под Москвой. А Эльге понравилось. Ее, спасая от воспаления почек, закапывали по пояс в песок и кормили абрикосами и арбузом. Там она впервые попробовала жареных бычков и баклажаны и навсегда полюбила эту южную кухню. И еще ей там друг по возрасту нашелся – старший сын хозяйки Володя. Потом она увидела его среди олимпийских чемпионов, это точно был он, слишком редкая фамилия Куц. Хотела к Владимиру Куцу подойти, но застеснялась.
В 36-м году жили в Томилино, где компания человек в двадцать собралась. А потом Томилино отменили, и перебрались под Клязьму.
Что было между дачами, рассказывалось редко, потому что это было лишь ожидание выезда на дачи. Туда, где все вокруг свои, где не надо приглушать голос, не надо озираться и обрывать фразы, по ночам прислушиваться к звукам в подъезде. Пусть все будет потом, все равно будет осень, слякоть и холод, когда можно только ждать свободной дачной жизни.
Тогда и школа легче проходит, где что ни делай, а все ты не лучшая, неуклюжая, не отличница, не активист, в самодеятельности не поешь, стенгазету не рисуешь. Тихо приходишь, тихо сидишь на уроке, даже руку не тянешь, тихо уходишь. И никто тебя не видит.
Ни одного одноклассника она не вспомнила за всю жизнь. Только прекрасные дачные друзья. И удивительная жизнь. Почти как у классика:
«Гости съезжались на дачу***. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую итальянскую оперу. Мало-помалу порядок установился. Дамы заняли свои места по диванам. Около их составился кружок мужчин. Висты учредились. Осталось на ногах несколько молодых людей; и смотр парижских литографий заменил общий разговор».
Все так и было, и надо было просто дождаться июня, когда все съедутся на дачу.
Она всегда умела терпеливо ждать. Когда война кончится, когда из эвакуации вернутся, когда срок по распределению завершится. Когда лето наступит. И там снова все будут свои, и даже смеяться над ней будут необидно.
Самая русская забава – дача. Сначала тебя отправляют с бабушкой на свежий воздух, а родители приезжают раз в неделю, так что ты их успеваешь и забыть. Потом тебя с упорством вывозят на все лето в это гетто, где тебе предлагают дружить с соседскими детьми. Хорошо, если они хотя бы по возрасту с тобой совпадают.
Потом ты ненавидишь это времяпровождение, получается, что это уже ты с бабушкой сидишь, а дальше ты везешь свою большую компанию на шашлыки, чтобы выслушать от родителей упреки, как вы загадили участок. И ты снова туда едешь, добровольно.
Вон и трудолюбивый интернет пишет:
В 1803 году историк Карамзин отметил, что летом Москва пустеет, а её жители устремляются за город. В 30-х годах Х1Х века в тогдашних ближайших пригородах Москвы – в Кунцево, Сокольниках, Останкино, Перово – стали появляться специальные места для летнего проживания. Бурное развитие дач началось в середине XIX века, когда появились железные дороги и «посёлки для отдыха» стали строить подальше от города – в Химках, Ховрино, Лианозово, Тарасовке, Пушкино, Малаховке.
Дачи как место отдыха состоятельных горожан получили распространение в России с 1860-х годов. На рубеже XIX – XX веков дачная жизнь стала массовым социальным явлением, характерным только для России.
Самым известным посёлком в те годы была Перловка, принадлежавшая московскому предпринимателю и чаеторговцу Василию Алексеевичу Перлову, основателю фирмы «В. Перлов и сыновья». В 1880 году в посёлке насчитывалось 80 дач. В каждом домике был душ и персональный туалет, на берегу реки Яузы были оборудованы купальни, два раза в неделю в посёлок привозили музыкантов, в летнем театре выступали московские театральные труппы. Попасть в Перловку, по воспоминаниям современников, считалось за счастье, аренда дач оплачивалась за три года вперёд, а её стоимость была сопоставима с жильём в центре Москвы.
По состоянию на 1888 год вокруг Москвы насчитывалось более 6000 дач, расположенных в 180 посёлках, куда в тёплое время года переселялись до 40 000 человек.
До начала ХХ века отдельные дачные строения были редкостью. Отдыхающие ютились на задворках крестьянских изб в наскоро сколоченных хибарках или в самой крестьянской избе, перегороженной на отсеки для 6–8 семей с общим входом. Сдача внаём избы для некоторых крестьян из ближнего Подмосковья была основным источником дохода.
Семьи московских дачников жили за городом с весны до осени – в город, как правило, выбирался на службу лишь глава семейства. Большинство дач строились неподалёку от станций железной дороги, путь до города не занимал более сорока минут.
Электричества на дачах не было – освещение производилось при помощи керосиновых ламп, вода бралась из ближайших рек.
Особой популярностью вплоть до 1917 года пользовались дачные балы.
В дачных посёлках не было охраны, поставить забор считалось дурным тоном.
***
– Да и зачем они нужны?! – говорила бабушка, – Когда у нас был патефон, у Богатыревых – прудик во дворе, у кого-то качели, не ходить же детям через улицу, так и бегали с дачи на дачу. Все это было общим, для всех.
Героические люди, добровольно рвануть к керосинке, туалету на улице и воде из колодца, утверждая, что ничего вкуснее не пили.
Или еще про корявую подмосковную антоновку тоже выступление неплохое, мол, ничего нет лучше сорванного своими руками яблочка. А без этого кошмара ты вроде как неполноценный, как же лето без дачи.
***
А ее сын, мой папа, ненавидел дачу.
Под давлением обстоятельств – привезти продукты или просто побыть на семейном празднике, он, конечно, приезжал с лицом страдальца. Его злило буквально все – трава, насекомые, туалет на улице, отсутствие телефона, тишина, отсутствие горячей воды, восклицания всех, как хороша в этом году смородина и как прекрасно поднялся девичий виноград. Он съедал с куста горсть смородины или крыжовника, по сезону. Собирал для всех тарелку ягод к столу и, сославшись на головную боль, ложился отдохнуть, с тем, чтобы потом отобедать и быстро смыться в Москву.
Его не радовало цветение сирени, первые тюльпаны, кислая малина и вечерний чай на веранде. Ради маменьки он отбывал эту тяжкую повинность. Папа мой Миша и в детстве отчаянно скучал в Тучково, Томилино и где-то еще, куда его ссылали.
Бабушка Эльга никогда не рассказывала сыну о дачах юных времен. Но что-то витало в кустах малины, колючках крыжовника, что-то не так было в его семье.
Его отец вечно молчал, курил трубку, читая газету, и никогда не участвовал в общем разговоре, а если появлялись гости, то он уходил играть в шахматы с самим собой, а потом пенял, что Эльга слишком много болтает. И вообще, она ветрена и легкомысленна. Эльга не успевала ответить, он вновь уходил с трубкой в сад.
Что-то важное взрослое они скрывали от моего папы, сохраняя образ прекрасной семьи, которой она не была, наверное, никогда. Только тетки замолкали, а дед Арон и вовсе не ездил с ними на дачу, Алек женился и перебрался к жене.
Но мой папа всегда был уверен, что лучше его семьи и нет на всем свете, что там все правильно и красиво, только он своими двойками и прогулами в школе нарушает общую идиллию.
И только лет в тринадцать мой тогда еще маленький папа стал догадываться, что что-то, вернее, все не так. Родители улыбаются, соблюдают правила игры, чтобы он не догадался, чтобы у него не было детской психотравмы, только и самим им не весело. И все это вранье – ради него, чтобы он верил в идеальный мир. Только он обо всем догадался, и получается, все их усилия напрасны. Все домашние могли жить отдельно друг от друга, сами по себе, но они ради него притворяются и прикидываются счастливыми.
В тот день, когда он все понял, он сбежал, сам не зная куда, просто сбежал. А тут над Варваркой, как семья улицу Разина называла, дым повалил, любопытные зеваки уже толпились. И он со всеми побежал, оказалось, гостиница «Россия» горит. Пожарных расчетов накатило видимо-невидимо, телевидение приехало. Картина была ужасная: люди в окнах гостиницы стоят, пожарные по лестницам ползут, а лестниц не хватает, не дотягиваются они, кто-то уже от ужаса вниз бросился. Кино какое-то.
И все отступило, забылось. Он услышал крик: «Дурак такой». И кто-то стукнул его по затылку, он даже опешил, так кричать могла только мама. Ей самой казалось, что она в эту минуту строгая. И тогда он уткнулся в нее, она говорила, что искала его везде, потому как пропал, а тут пожар. И без него смысла в ее жизни нет.
В лоб давила пуговица ее кофты, а он все равно прижимался к ней и плакал. От счастья, что нашелся, что его искали, и еще много смыслов и слов было, но они вышли не словами, а всхлипами и какими-то рваными мыслями. Тогда все и определилось.
Миша вырос, но остался маленьким и не хотел быть старше, хотел всегда жить с мамой и тетками. В день пожара Миша сказал ей, что никогда, никогда не бросит ее, потому что любит. Тетки дома поджали губы, сказали, что он поступил «зер шлехт», но им и самим было интересно про пожар узнать. До полуночи они ели пирог с орехами, и Миша рассказывал, как было страшно.
В этот день он был главным со своими рассказами. А отец так и не вышел к столу, его куда-то запихнули, чтобы не кричал на мальчика после такого счастливого спасения. Больше они с отцом и двух слов друг другу не сказали. Только когда он принес школьный аттестат со всеми тройками, отец покачал головой и ушел курить на кухню. В институт в тот год Миша не поступил.
Ну это понятно, решили все. Мальчика недооценили, не поняли. Тетки принялись звонить каким-то друзьям и знакомым. И хотя их друзья уже были не у дел, но все равно помогли, пристроили его работать в институт вирусологии, пробирки мыть и кроликов кормить. Кролики были прекрасные. И жизнь тоже. Только вот приходилось с каким-то найденным тетками биологом заниматься вечерами пестиками и тычинками.
И все равно на следующий год он провалился, физику не сдал. Ну, это понятно, объяснила семья: слишком у нас непоседливо-одаренный мальчик, и евреев, само собой, всегда притесняют.
Пришлось моему папе идти в медучилище, а потом, как ни пытался откосить от армии, изображая придурка, все одно замели в стройбат, на самый Сахалин отправили. Оттуда он присылал семье лимонник и еще какие-то травки. А вернувшись, сразу поступил со своей пятерочкой по биологии. Вот и дома свой врач будет, как дядя Гриша, обрадовались все.
***
В предпоследнее предвоенное лето произошло еще одно событие. В поисках яиц Алек набрел на гнездо птицы, где лежали маленькие бурые яйца в крапинку. Странная птица решила вывести птенцов в конце августа, будто лета ей было мало.
– Значит, год будет особенный, – важно заключил Валерий. – Птицы на второй выводок решились.
– Теплый?
– Холодный. Выживут не все. Потому они еще раз несутся. На всякий случай, с запасом. Это же закон природы.
– Джунглей, – закричал Алек и понесся по саду, изображая индейца. А вечером хищная толстая сойка решила разорить гнездо, бедные ласточки метались и кричали, Валерий кинул камень в сойку и попал, сойка подергалась на земле и испустила дух.
– Ты ее убил?
– Это было необходимо, она бы сожрала этих еще не родившихся птенцов.