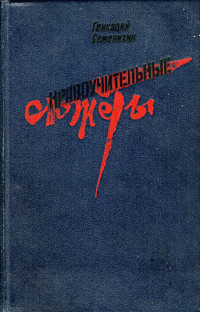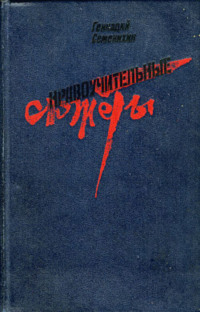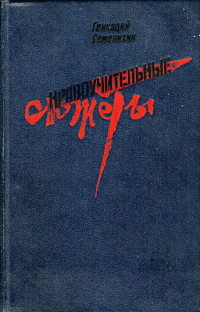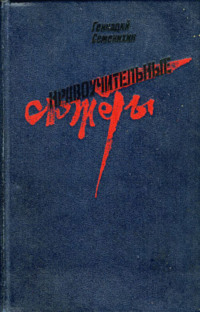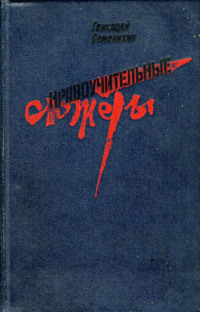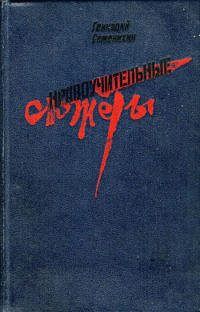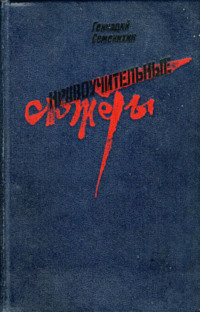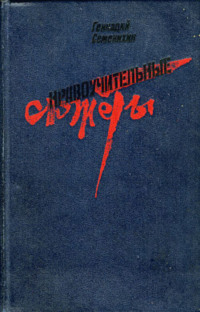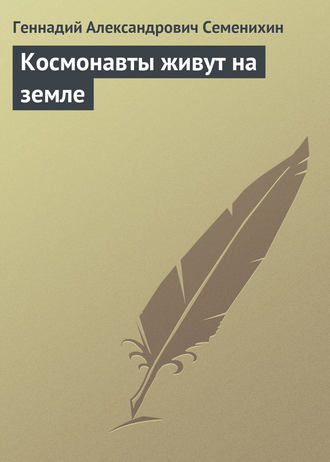 полная версия
полная версияКосмонавты живут на земле
– Это капитан Савостин, – усмехнулся Комков. – Он в нашей дивизии служил. В прошлом году уволили.
– Плохо летал? – осведомился Горелов. – Или по пословице: четыре раза по двести, суд чести и миллион двести?
Василий пожал плечами:
– Да нет. Просто наступил кому-то на мозоль. А потом в порядке сокращения личного состава стали нас омолаживать. Полагалось людей физически слабых и старшего возраста с летной работы уволить. Ну а омолаживанием кто занимался в нашей части? Одни старички, которым, моя бы воля, давно пора на пенсию. Вот они вспомнили строптивость этого капитана и записали его в «миллион двести». Теперь ходит по перрону, фонариком машет, дежурный по станции, так сказать. Впрочем, не будем обсуждать, лейтенант, действия старших. По уставу не положено. – Комков замолчал, но всего на минуту-две. – Подойдите к окну, Алеша, и посмотрите на аэродром, – позвал он внезапно.
Горелов встал у раскрытого настежь окна. Отсюда, с третьего этажа, летное поле производило внушительное впечатление. Над выгоревшей, вылинявшей за лето травой господствовал белый цвет металла. Самолеты с длинными фюзеляжами и непропорционально короткими острыми крыльями рядами стояли на бетонных дорожках. Техники и механики хлопотали около восьми машин, выведенных на первую линию. Этим машинам с наступлением темноты предстояло раньше других подняться с бетонированной полосы, и Алеша подумал, что среди них, вероятно, стоит и машина его соседа по комнате.
– Ну как? – разомлевшим голосом спросил Василий.
– Нравится.
– Эффектное зрелище. Вы на какой матчасти кончали школу?
– На «мигарях». Но потом летал немножко и на этих.
– И что скажете?
– Еще не разобрался как-то. По=моему, эти сложнее.
– Люблю летать на «мигарях», – задумчиво резюмировал Василий. – Для меня они ясная и четкая конструкция. А эта труба все пожирает: и знания и силы. Из нее после полета выходишь мокрый как мышонок. А в воздухе чуть зевнул, и кажется, что не ты ею управляешь, а она тебя таскает. Иногда идешь на полеты такой усталый… Вот, как сегодня.
Горелов с каким-то жалостливым чувством посмотрел на Комкова. Зачем он так мрачно? Полузакрытыми были глаза соседа, и на веснушчатом его лице лежала печать невеселого раздумья. Тревога проникла в Алешино сердце.
– Я вас не понимаю, Василий.
– А чего же тут понимать? – ответил тем же дремотным голосом Комков. – Что сказано, то и сказано.
– Но позвольте откровенно…
– Давайте на самых максимальных оборотах откровенности. Мы же соседи и, думаю, скоро станем настоящими друзьями.
– Вот поэтому я и хочу, Василий, – нескладно начал Алеша. – Мне кажется, если вы хотите летать на «мигах» и чувствуете, что вот этот тип самолета вам противопоказан, откажитесь от полетов на нем.
Комков пошевелил сухими губами.
– Отказаться? Да вы что, Алеша. У нас все-таки воинская часть, а не кружок художественной самодеятельности. – В его усталом голосе прозвучала грустная усмешка. – Да и притом, что обо мне в полку подумают…
– Ничего не подумают! – запальчиво воскликнул Горелов, и кудряшки зашевелились на его голове. – Да как же можно ложное самолюбие приносить в жертву здравому смыслу?!
– А вы бы отказались? – прозвучал контрвопрос.
– Я бы?.. – Алеша запнулся.
– Вот то-то и оно! – вяло заметил Василий. – Два ноль в мою пользу. Самое трудное – это победить самого себя. Многие полководцы именно поэтому и обрекали свои армии на полный разгром, а народы на страшные жертвы, что не могли в критическую минуту победить себя, выйти и сказать: вот я такой и сякой. Вы мне верили и верите. Но вы не знаете самого главного: раньше я мог, а теперь не могу, освободите меня… Ладно, перестанем об этом говорить, – закончил Комков примиряюще.
Но сон к нему не шел, и усталый мозг снова настраивал на разговор.
– Я очень часто думаю о сегодняшней нашей авиации, – продолжал рассуждать Василий. – Огромные скорости. Перегрузки, от которых мельтешит в глазах, а лицо уродуют гримасы. И вместе с тем кабина – это целая лаборатория. Как же много требуется от тебя, чтобы пилотировать такой самолет! И силенки сколько, и знаний. Попробуй сейчас сядь в кабину, не зная физики, алгебры, теоретической механики. Не много налетаешься. Мне вспоминается, как нам новый наш командир, Кузьма Петрович Ефимков, про войну и поршневую технику рассказывал. Тогда, говорит, иные воевали по принципу: или грудь в крестах, или голова в кустах. Гашетка, ручка, сектор газа, педали – вот и все. Он, конечно, утрирует, но многое верно. Разве сейчас с семиклассным образованием сядешь на истребитель?
– И все равно так же, как и в войну, кроме знаний и физической подготовки, нужно еще одно условие, чтобы летать.
– Какое же?
– Призвание, – тихо произнес Алеша.
– Лирика это, – отмахнулся Комков, – об этом призвании хорошо у поэта одного сказано, вот забыл его фамилию:
Земля нас награждала орденами,А небо награждало сединой.А впрочем, давайте лучше завтра договорим. Мне и впрямь пару часочков не грех соснуть. Боржоми не хотите? В наш военторг позавчера завезли, так я пять бутылок взял.
Горелов поблагодарил и отказался. Дождавшись, когда Василий заснет, он вышел из гостиницы. Надо было сдать в политотдел открепительный талон, стать на вещевой учет, зайти к замполиту полка.
Когда через два часа он возвратился, Комков встретил его на пороге. На нем была уже летная куртка песочного цвета с поблескивающей «молнией».
– Вот и хорошо, что пришли. Я с собой ключ брать не буду, зачем он мне в кабине.
– Отдохнули хорошо? – поинтересовался Горелов.
Василий дружелюбно похлопал его по плечу.
– Да что вы меня, как замполит или полковой врач, исследуете? Это им по штату положено такие вопросы перед вылетом задавать.
– Я ваш сосед, – с улыбкой напомнил Алеша, но Комков и тут отпарировал:
– А дистанцию между старшим и младшим летчиком забыли?
– Не забыл, Василий. Только вы мне очень усталым сейчас кажетесь. Не надо бы вам сегодня на ночные. И задание сложное небось?
– Э-э-э, бросьте-ка причитать батенька, – как говаривал один хирург, вскрывая совершенно здорового пациента. Задание как всегда: перехват в стратосфере. Наберу высотенку, атакую в стратосфере цель – и домой. Так что гуд бай, генносе, если перейти на помесь английского с немецким, – засмеялся Василий. Он пытался произвести на Алексея впечатление бодрого, уверенного в себе человека, но тени усталости лежали полукружьями у его глаз. Поняв, что обмануть соседа не удалось, он вздохнул – хочешь не хочешь, а идти надо.
Двери бесшумно затворились, и вскоре быстрые шаги Комкова замерли в лестничном пролете.
Оставшись один, Горелов распаковал свой чемодан с нехитрым холостяцким имуществом. Потеснив в платяном шкафу вешалки соседа, нашел место для шинели и двух военных костюмов, штатских брюк и рубашек. Потом написал коротенькое письмо матери, сообщив, что доехал благополучно и вполне прилично устроился. Покончив с делами, разделся и в одних трусах сел у окна.
Быстрые южные сумерки плотно обволакивали степь, принося с собой после душного дня прохладный ветерок. Картина ночного аэродрома волновала. Алексей пожалел, что не захватил с собой этюдник, подрамник, краски, кисти. Ночной аэродром так и просился на полотно! Т-образные раздольные бетонированные полосы были окаймлены гирляндами зеленых электрических лампочек. Эта дорожка приветливо горевших огоньков бежала вперед, к самому краю летного поля, и казалось, дальше тоже отрывалась от земли, устремляясь вместе с самолетом к голубому, ровно мерцающему звездному куполу ночного неба… То ласково зеленым, то предостерегающе красным, запрещающим посадку светом загоралось и гасло электрическое стартовое Т – издревле знакомый всем авиаторам посадочный знак. Очевидно, это электрики опробовали световую сигнализацию перед полетами.
Почти бесшумно, как большие светлячки, двигались вовсе стороны тягачи-буксировщики, специальные машины, полуторки, выделенные для обслуживания полетов, и немногочисленные легковушки, развозившие по аэродрому старших начальников. Прожектористы дали яркий желтый уч. Он постоял несколько секунд почти вертикально, не в силах достать до безоблачного звездного неба, а потом, разрубив надвое летное поле, лег почти на бетонированную взлетно-посадочную полосу. Стойкий, не колеблющийся свет выделил ровный ряд стоявших на линии предварительного старта истребителей. Черные фигурки летчиков, техников и механиков суетились около них с завидной муравьиной старательностью. Горелов подумал, что там среди них расслабленной походкой шагает и его сосед лейтенант Комков. «Не понравился он мне сегодня… – вздохнул про себя Алеша. – Почему он такой утомленный?.. А говорит любопытно. Интересный парень».
Алеша включил настольную лампу, к которой моментально устремилась целая эскадрилья комаров, взял со стола фотографию летчика в гроздьях мандаринов и на оборотной стороне прочитал выцветшую надпись: «Родная Катя! Энное время ты можешь за меня не волноваться. Очень трудно дался в бою тринадцатый „мессер“. Не зря говорят, что тринадцать – чертова дюжина. А на том „мессере“ был действительно нарисован рогатый черт, и пилотировал его какой-то ас, барон, что ли. Я получил в том бою легкое ранение и теперь не столько лечусь, сколько отдыхаю в Цхалтубо. Природа здесь чудо. Видишь, какие мандарины вымахали. Вот бы Ваську нашего сюда – дал бы им жизни. А о тебе и не говорю. О тебе можно только мечтать. Обнимаю и целую. Вечно твой Виктор».
Алеша бережно поставил фотографию на место, еще раз полюбовался худощавым лицом Комкова-старшего и тотчас же с грустью вспомнил обелиск над Днепром, белозубую улыбку отца на фотографии, хранившейся у матери. «Значит, мы оба выросли без отцов, – подумал он, – с Василием стоит подружиться».
Он выключил свет. Тем временем на аэродроме ночные полеты шли своим чередом. На стоянках запели турбины. Сначала послышался тонкий плавный свист, но вскоре обрел он силу и превратился в рев, водопадом обрушившийся на окрестности. Грозные языки пламени вспыхнули за соплами самолетов, и загудел на все голоса ночной аэродром. Одна за другой стали взлетать боевые машины. По мере их удаления гул турбин становился мягче и тоньше. К голубым звездам полуночного неба прибавились новые: красные и зеленые. Это горели на плоскостях истребителей заветные огоньки АНО.
Потом на летном поле наступило затишье. Только желтый глаз прожектора иногда вспарывал темень над широким полем аэродрома.
Сонная истома одолела Горелова, и он задремал. Алеше снился родной Верхневолжск, яркий летний день после дождика. Он, маленький, шлепая босыми ногами, смеясь, убегает от настигающей его матери. Впереди крутой волжский берег. Он смело кидается с обрыва в реку, долго летит вниз головой, а прохладная вода все не прикасается и не прикасается к нему. И вдруг небывалой силы взрыв наполняет уши режущей болью. Все уплывает в сторону: и мать, и река, и дождевые лужи. Горелов открывает глаза и видит непонятные багровые отблески, мечущиеся по стенам комнаты. Вскочив с кровати, он бросается к окну и каменеет. Его сон действительно был прерван страшным взрывом. За окном – аэродром, но таким еще никогда не видел его Горелов за короткую свою службу в авиации.
По тем же рулежным дорожкам, оглашая сиреной южную ночь, мчится белая «санитарка». Впереди – успевшая ее обогнать пожарная машина. Зябко сник луч прожектора, застыл неподвижно над восточной окраиной летного поля, и в блеклом его свете Алексею представилась зловещая картина. Он увидел яркий костер. Пламя корежило упавший на землю истребитель и так быстро пожирало легкий металл, что пожарная машина была уже явно ненужной.
В желтой полосе рассеянного света прожекторов показались темные силуэты. Это люди со всех стоянок бежали к месту взрыва. Бежали изо всей мочи, хотя твердо знали, что случившегося уже не поправишь и они совершенно бесполезны человеку, погребенному под грудой горящих обломков.
Охваченный смутным беспокойством, Алеша стремительно оделся и тоже побежал на аэродром. Ветер свистел у него в ушах, фары обгоняющих автомобилей слепили глаза, а он бежал все быстрее и быстрее, еле успевая переводить дыхание. Когда он приблизился к месту падения самолета, шаги его стали медленнее, а дыхание тяжелее. Пламя, угасающее под струей из брандспойта, уже долизывало высокий стрельчатый киль. Пожарники разгребали обломки. Горелов, втиснувшись в кольцо людей, увидел, как один из пожарников положил что-то на развернутые носилки, а другой негромко, но так, что многие расслышали, произнес:
– Здесь еще кисть с часами.
И Алексей понял – речь шла о человеке. Нехорошее предчувствие сдавило грудь. В отсветах угасающего пламени появилась фигура замполита, коренастого, со шрамом во всю щеку, подполковника Жохова, которому несколько часов назад представлялся Горелов. Замполит, подойдя, скользнул горестными глазами по лицу новичка и глуховатым голосом курильщика проговорил:
– Зря пришли, лейтенант. Не надо бы вам…
Алексей почувствовал, как свинцовой тяжестью наливаются ноги. Мимо него на санитарных носилках пронесли небольшой комок, накрытый белой простыней, – так мало осталось от человека, находившегося в кабине истребителя, дышавшего и говорившего несколько минут назад.
На огромной скорости примчалась «Волга». Из-за руля выскочил всклокоченный и злой комдив. Он сегодня не был на ночных полетах и только что приехал из города, расположенного в восьми километрах от летного поля – там находилась его квартира. Кольцо людей разомкнулось, словно разрубленное, и по образовавшейся просеке Ефимков тяжело и угрюмо прошагал к обугленным останкам самолета. Безмолвными тенями его сопровождали замполит Жохов, инженер и командир полка – щеголеватый, с тонкой талией, черноглазый майор Климов. Не оглядываясь на них, огромный, как монумент, Ефимков односложно спросил:
– Климов, вы все время держали с ним связь?
– Да, товарищ командир.
– Что он радировал?
– На двенадцати тысячах метров, после выхода из атаки, передал: чувствую тряску. Потом на две минуты связь прервалась. Я несколько раз его запросил – почему молчите? В наушниках сначала послышался стон, затем он очень отчетливо, хотя и слабым голосом, ответил: «Мне плохо».
– Это я знаю! – грубо перебил Ефимков. – Еще какие детали вам известны?
– Надо прослушать ленту магнитофона.
– Спасибо за совет! – отрезал комдив, и даже в полумраке огромные его белки гневно блеснули. – Я вижу, майор, на вас очень плохо действует бессонница, если даете такие само собой разумеющиеся рекомендации. Почему не проконтролировали лейтенанта Комкова перед допуском его к ночному полету?
– Он недавно прошел ВЛК,[1] – тихо сказал замполит Жохов, – кардиограмма была хорошей, да и все другие показатели на месте.
– На месте, на месте, – грозно проворчал Ефимков, – а где теперь это место? На кладбище, вот где.
Он повернулся к ним всей громадой своего мускулистого тела и медленно зашагал к «Волге». Неведомая сила оторвала в эту минуту тяжелые Алешины ноги от земли.
– Товарищ полковник!
Ефимков уже у самой машины удивленно попридержал шаг, открыв дверцу, скосил на Алешу глаза:
– Ты-то откуда здесь взялся, Горелов?
– Товарищ полковник, – заглатывая слова и от этого еще больше волнуясь, заговорил Алексей, – виноват… Я виноват. Он перед полетом не усталость мне пожаловался, а я не настоял, чтобы он от задания отказался, и командиру сообщить стыдным посчитал. Виноват!..
– Ну и спасибо за откровенность, – отмахнулся досадливо полковник. – Час от часу не легче.
Хлопнула дверца. «Волга» с места взяла скорость и помчалась поперек аэродрома к слабо освещенным ночным окнам штабного здания.
* * *Горелов не спал до рассвета. Лежа на спине, он воспаленными глазами смотрел в давно не беленный потолок.
Почему командир дивизии его не выслушал и не расспросил подробнее? Почему даже не выругал столь же резко, как майора Климова и замполита Жохова? Ведь он, лейтенант Горелов, больше всех виноват, только он мог предотвратить катастрофу, и не сделал этого. Почему он не забил тревогу, узнав о настроении Василия, не пошел к командиру полка или его замполиту? Пусть бы отстранили от полетов Комкова и тот бы надолго с ним из-за этого вмешательства рассорился. Но ведь он остался бы жить. Смеялся бы и рассуждал о полетах, женился на студентке Любаше, допил бы свой боржоми, которым запасся в военторге. Словом, носил бы по земле свою молодость, а потом зрелость и старость еще долгие годы.
А теперь обгорелые его останки, из каких и поклажи-то для гроба не соберешь, унесли санитары. Как же это все так? Почему на него, Горелова, никто не обрушился как на виновника, почему он должен терзаться один?!
Алексей вскочил, зажег свет и заходил по комнате. Ему было тоскливо среди вещей, хранивших на себе прикосновения Комкова, согретых теплом его рук, расставленных в порядке, в каком он любил. Виски трещали от боли.
– Василий, прости! – прошептал Алеша.
«Нечего сказать, хорошо же ты начал свою летную службу! – казнил он себя. – А в чем, собственно говоря, твоя вина? – возник в его сознании другой, уверенный голос. – Что, собственно, произошло? Твой однополчанин, еще не успевший даже стать тебе другом, доверчиво открыл душу. Он поставил тебя в известность, что не хотел бы летать на истребителях этого типа, что его тянет назад, к „мигам“, что на новых машинах он устает и уходит на полеты расслабленный. Ты посоветовал ему отказаться от очередного полета и был им же за это высмеян. Мог ли ты после всего этого, вопреки согласию Василия, идти к командиру полка и настаивать, чтобы его исключили из плановой таблицы, доказать, что этот человек, совершенно здоровый физически, не должен летать? Что бы сказал о тебе тот же майор Климов, замполит Жохов, сам Комков? Они бы посчитали твое заявление наивным и несерьезным. Где же правда? Виноват я или нет?»
За окном серый рассвет. Мелкий неожиданный дождик прибивает тугими брызгами травку, а на обгоревших обломках разбившегося самолета капли дождя как слезы. Мрачно молчит аэродром. В штабе полковник Ефимков перечитывает коротенькое донесение на имя командующего:
«В ночь на 7 июля 1961 года во время полетов на отработку перехвата воздушной цели старший лейтенант Комков В.В. с высоты двенадцать тысяч метров передал о появлении тряски в самолете. Через три минуты сообщил, что ему плохо. На этом связь с летчиком прекратилась. Самолет упал на восточной окраине аэродрома и взорвался. Старший лейтенант Комков В.В. погиб. Причина катастрофы: потеря летчиком сознания. Мною отдан приказ о проведении тщательного расследования».
Ночь плывет над страной. Ночь приносит радости влюбленным, победы писателям и ученым, избравшим для своего творчества это тихое время. В Соболевке она принесла смерть молодому человеку, рядовому летчику нашего Военно-воздушного флота. Василий Комков с огромной высоты падал на землю на тяжелом, уже не управляемом истребителе. Он сгорел в одиннадцать ночи. Но огромна страна наша. И где-нибудь, в одном из больших городов, в этот час гремела в городском саду музыка, и какой-нибудь замшелый обыватель, увидевший, как летчик в возрасте Василия Комкова легко и красиво кружит в вальсе партнершу, наверно, произнес затрепанное:
– Ох и везет этим военным! И оклады, и пайки, и обмундирование. Не жизнь, а малина.
Ночь плывет над притихшим авиационным гарнизоном, заглядывает в тридцатую комнату гостиницы, где мечется еще один тоскующий человек и пересохшим от горя голосом самого себя спрашивает: «Кто же скажет – виноват я или нет?»
* * *Еще не было и семи утра, когда побледневший и осунувшийся лейтенант Горелов остановился возле знакомой ему, обитой кожей двери с дощечкой: «Командир дивизии». Нет, у молодого летчика не дрожали колени перед предстоящей встречей. Спокойно и уверенно толкнул он дверь.
Незнакомый лейтенант, дежуривший в приемной комдива, вопросительно поглядел на Алексея:
– Я вас слушаю.
– Мне надо видеть командира дивизии.
– Вас он вызывал?
– Нет, но у меня серьезное дело.
– Полковник занят в связи со вчерашним. Вы же знаете.
– Знаю. Я тоже в связи со вчерашним.
Дежурный пожал плечами и скрылся за дверью кабинета. Возвратился он очень скоро, почти тут же, и развел руками.
– Должен вас огорчить. Сказал: «Я в курсе, но принять сейчас не могу».
С низко опущенной головой поплелся Горелов в гостиницу. Что же делать, если полковник Ефимков, знавший его на протяжении двух лет, даже видеть его сейчас не хочет? Значит, слишком велика его вина.
Приближалось время завтрака, но Алеше и думать было противно о еде. Ощущая слабость, поднялся он к себе на третий этаж, не раздеваясь, лег. С фотографии, стоящей на столе, на него укоризненно глядел военный летчик со шпалой в петлицах и, казалось, говорил: «Не уберег. Как же ты это? А?»
– Да не мог же я. Честное слово, ничего больше не мог сделать, – прошептал Алексей, чувствуя звон в висках и сухость во рту.
Как он заснул – не смог бы сказать. Видимо, сон был хрупок, как и у всякого возбужденного человека. Гулких шагов по коридору Алеша не услышал. Но когда еле-еле скрипнула дверь, вскочил и замер от удивления. Чуть пригибаясь в дверях, в комнату вошел полковник Ефимков. Снял с головы фуражку, обнажив на лбу дорожку бисерного пота, глазами поискал на столе место, куда бы ее положить. Мохнатые, с проседью брови его сомкнулись над переносицей, отчего озабоченность на загорелом лице комдива проступила еще больше. Подвинув к себе стул, Ефимков сел.
– Ну, здравствуй, – спокойно произнес он, оглядывая Горелова. – Чего же это ты на кровать в брюках да еще обутым взгромоздился? Я, кажется, не этому тебя обучал. Конец света, что ли, пришел?
– Кошки на сердце скребут, товарищ полковник.
– Кошек гони, – мрачно изрек Кузьма Петрович, – конца света тоже не предвижу. А ну-ка, дай лоб. Что-то ты мне не нравишься, парняга. – Он положил тяжелую ладонь на лоб лейтенанту, потом потрогал его щеки. – Так и есть. Градусов тридцать девять, не меньше. Небось южную лихорадку подцепил, да и нервишки сдали. Врача к тебе пришлю, чтобы все на уровне было. Ну а теперь рассказывай, зачем ко мне в кабинет ломился?
Горелов сел на койку и откровенно поведал комдиву о своих мучениях.
– Полагается в авиации по закону, установленному самой жизнью: если чувствуешь, что не готов к полету, заяви об этом и от полета откажись. Если знаешь, что твой товарищ не готов к полету, тоже скажи об этом командиру.
– А я вот не сказал, – признался Горелов.
– Юридически к тебе нельзя предъявить никаких претензий. А вот с точки зрения человеческой совести…
– Надо меня судить, – перебил комдива Алеша, но полковник, поморщившись, мотнул головой.
– Надо бы, конечно, – сказал он спокойно, – если бы ты промолчал.
– А разве я не промолчал! – горько воскликнул Алеша. – Разве я сказал о своих сомнениях командиру полка, вам или врачу?..
– Чудачок, – усмехнулся Ефимков и зачем-то потрогал усы. – Врач немедленно бы подтвердил, что Комков физически здоров и нет никаких оснований не допускать его к ночному полету. Вот ведь фабула-то какая! – Полковник побарабанил пальцами по коленке, потом, помолчав немного, спросил: – Так, говоришь, он и стихи тебе читал?
– Читал, товарищ полковник.
– Какие же?
– «Земля нас награждала орденами, а небо награждало сединой».
– Неважнецкий симптом. – Ефимков достал из кармана старомодную трубку с искусно вырезанным чертом в том месте, куда кладут табак, набил ее и, не раскуривая, отвел влево руку. – Если летчик выходит на полеты, как тореадор на корриду, его нельзя и близко к боевой машине допускать. Жаль только, прибора такого нет, чтобы определять неуверенность.
– Мне он дал в руки такой прибор, – быстро возразил Алексей, – свою откровенность.
– Хрупкий прибор, – хмыкнул Ефимков, – и не всегда верный.
– Почему же?
– Да потому, что я тоже иной раз в кабину усталым сажусь. Только я себя в этих случаях переламываю и никому об этом ни гугу. Но попытался бы кто-нибудь отстранить меня от полета! Вот, брат, какая она штука, жизнь… тонкая!
– Значит, я все-таки виноват…
– Чудак, – покачал головой Ефимков, – сказано чудак, чудак и есть. Существуют такие ситуации, которые не только законом, но даже собственной совести – более тонкому инструменту – неподсудны. Дай-ка лучше огонька.
Откинувшись на спинку стула, комдив выпустил в низкий потолок тонкую струю дыма.
– Вам теперь плохо, товарищ полковник, – сочувственно промолвил Горелов, – только дивизию приняли – и катастрофа… могут и выговор.
– Выговора посыпятся, – подтвердил комдив, – за этим дело не станет. Да что – выговора. В них разве дело? Человека нет. Понимаешь, Горелов – человека. А что такое человек? – спросил он разгоряченно. – Что может быть выше и сложнее? Мы придумали истребители, летающие на сверхзвуковых скоростях, кибернетику, в космос забрались. Но какой Главный конструктор в состоянии изобрести человека? Ни один. Потому что нет в мире более утонченного существа, чем человек. Одна нервная система чего стоит. Я уже не говорю о таком необыкновенном аппарате, как мозг. – Полковник снова сел, покосился на застеленную кровать Комкова. – На фронте у нас традиция была: если летчик не возвращался из боевого вылета, никто на застеленную кровать не ложился. Пусть и его койка так постоит.