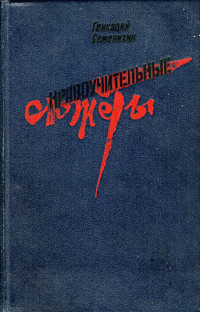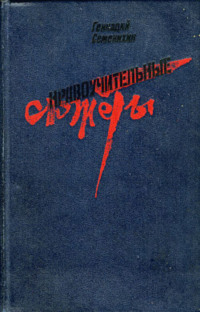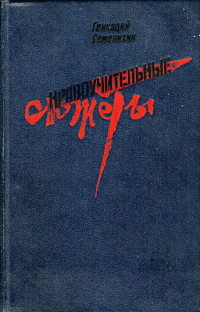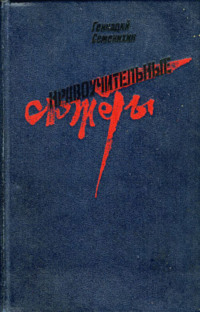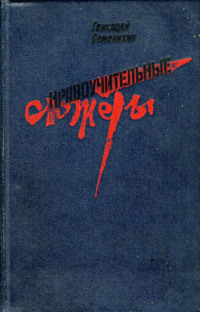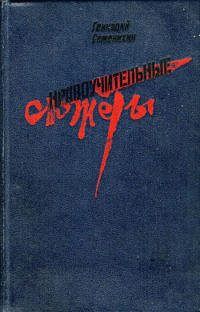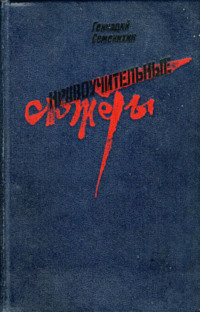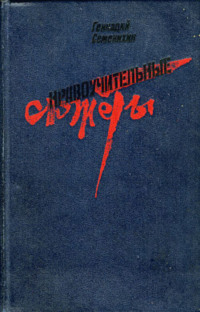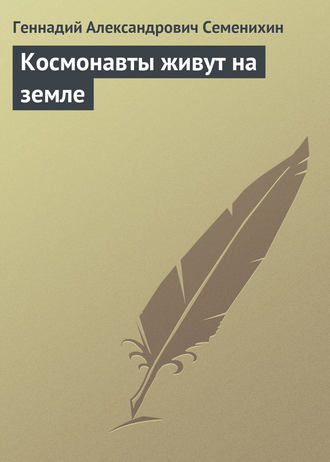 полная версия
полная версияКосмонавты живут на земле
– Запасливый ты, Горюн, – засмеялась Леночка, – с тобой и на необитаемом острове не пропадешь.
– А ты попробуй, останься, – хохотнул рыжий Васька Сомов, явно намекая на то, что Леночка неравнодушна к Алеше, – с милым рай и в шалаше.
– Ладно, ребята, давайте без банальностей, – строго остановил его Добрынин, – принимайтесь за картошку.
– И за песню! – воскликнула звонкоголосая необидчивая Леночка и первая затянула:
Эх, картошка, объеденье, денье, денье,Пионерский идеал,Тот на знает наслажденья, денья, денья,Кто картошки не едал.Припев, всем классом подхваченный, дружно взлетел над притихшей, объятой рассветом рекой, и ему испуганно откликнулся за перекатом сонным коротким гудком невидимый буксир-плотовоз. Потом они втроем – Алексей, Леночка и Володя – отбились от ребят, сели на край оврага и стали швырять вниз мелкие камешки. Алеша смутно угадывал, что нравится Леночке, но не знал, что подслеповатый нескладный Володя Добрынин давно уже любит ее. Поэтому они и ходили всегда втроем, снискав у одноклассников звонкое прозвище «триумвират».
– Ребята! – остановил их Добрынин. – В сторону все! Давайте о будущем своем говорить.
– А как это? – наивно спросила Леночка.
– А вот так, – приподнимаясь продолжал Володя. – Десять школьных лет нам твердили: дети – цветы нашей жизни. Нам вытирали носы, штопали носки и ставили заплаты на штанишках. Нас кормили супами, котлетами, пирожками, а по праздникам – сладостями. Мамы и папы снисходительно гладили нас по головкам или угрожали ремешком, смотря по их настроению и по нашим проделкам. Наши любимые педагоги Наталья Петровна и Сергей Алексеевич выставляли нам все баллы от двух до пяти – в зависимости от заслуг. Это были десять чудесных лет, ребята. Но они промелькнули. Нам уже никто не скажет: цветы нашей жизни. Нас уже будут спрашивать. Сперва потихоньку, легонько, ласково, а потом все строже и строже: а как ты вступил в жизнь? А что ты собираешься в ней сделать, чему отдать силы? Мы же не разочарованные в жизни Онегины и Печорины. Мы пойдем вперед. По этой вот звонкой рассветной росе пойдем.
– Сказал тоже! – добродушно ухмыльнулся Алеша, которому вообще-то понравилась пылкая Володина речь. – Откуда ты взял, что роса – звонкая?
– Алешка, не перебивай! – прикрикнула Леночка. – Он хорошо говорит.
Добрынин снял очки, посмотрел благодарно близорукими глазами на Леночку и стал протирать стекла.
– Звонкая роса – это, конечно, образ, – поправился он. – но лично я свою судьбу уже решил. Буду сдавать не геологический.
– Я тоже решила, – поспешила Леночка. – Поеду на Сахалин. Постараюсь пройти в педагогический.
– Эка у вас все в рифму получается, – засмеялся Горелов, – педагогический, геологический…
– А ты что надумал? – мягко окликнула его девушка.
– Нашла кого спрашивать, – снисходительно бросил Володя Добрынин, – у нашего Горюна все как по нотам расписано. Первый дипломант областной художественной выставки. Звучит? Его примут в какое-нибудь высшее художественное, а то и в академию живописи. Лет десять пройдет, а там, гляди, при встрече и шляпу снимать не будет. Станет каким-нибудь знаменитым пейзажистом, заслуженным деятелем искусств и тэпэ и тэдэ…
Алексей выплюнул изо рта камышинку, рассмеялся:
– Все как по нотам, говоришь? Ой, Добрыня, не угадал. Я действительно уже определился. Но только…
– Не в художественный? – воскликнули оба в один голос.
– Нет, не в художественный. Хотя не скрою, наш Павел Платоныч даже осерчал, узнав об этом.
– Так куда же?
– Сегодня был в райкоме, – издалека повел речь Алеша. – Ну вот и они, райком комсомола то есть, рекомендацию обещали дать…
– Куда же, Алеша?
– В школу военных летчиков. Ни больше, ни меньше.
Леночка бурно захлопала в ладоши:
– Алешка! Ты будешь военным летчиком? Вот здорово! Вот прелесть! Это же действительно звучит, мальчики: военный летчик Алексей Горелов. Только не обманешь? Слово сдержишь?
– Сдержу, – засмеялся Алеша.
…И он не обманул.
Вскоре в поздний вечерний час пришел он домой, позвал мать в свою маленькую комнатку.
– У меня к тебе дело, мама. Важное.
Она хлопотала у печи, готовя ужин. Пришла сразу, будто сердце подсказало, что разговор предстоит действительно серьезный. Грустными задумчивыми глазами смотрела на еще более возмужавшего сына. «Уже не школьник. Скоро упорхнет куда-нибудь. Разве удержать?»
– Я тебя слушаю, сынок.
– Мама, помнишь, ты говорила, что пора бы мне и к делу какому прибиваться серьезному?
– Я тогда не понимала, сынок, что твои рисунки тоже серьезное дело, – тихо вымолвила Алена Дмитриевна и, словно ища себе поддержки и оправдания, обвела глазами стены, увешанные пейзажами и портретами Алешиной работы.
– Так я и определился, мама, – торжественно возвестил Алексей. – Меня в летную школу берут. На, почитай.
Он протянул ей небольшой листок с машинописными строчками. В них говорилось, что сын погибшего офицера-фронтовика Алексей Павлович Горелов «должен явиться в военное училище летчиков для сдачи экзаменов и прохождения медицинской комиссии не позже десятого августа…» Стояла подпись: начальник авиаучилища Герой Советского Союза гвардии полковник Ефимков.
Мать побледнела, поднесла к лицу сухие натруженные ладони.
– Не пущу! Отец в танке сгорел, а ты на самолете разбиться хочешь. Знаю я эти реактивные! Их и на картинке смотреть-то жутко.
– Мама, – укоризненно остановил ее Алексей, – ты еще ремень со стены сними.
– И сниму! – угрожающе выкрикнула она. – Ни разу в жизни не снимала, а сейчас сниму.
Алеша еле дал ей договорить. Кинув на стол бумагу, он схватил ее за руки и закружил по комнате.
– Ну, бей мама! – кричал он в радостном исступлении. – Всыпь как следует своему непутевому сыну, только прости. Все равно уже ничего не изменишь.
– Да постой, сумасбродный! – оттаявшим голосом воскликнула она. – Давай лучше сядем да поговорим обо всем толком.
– Вот это уже деловой подход, мама.
– А как же твои картины, сынок? Я-то уж думала, в художниках себя будешь пробовать.
– Этого у меня никто не отберет, мама, – улыбнулся Алексей, – даже если до генерала дослужусь, все равно рисовать буду. А реактивные истребители – это же мечта! Скорость за тысячу, пушечки такие, что никто в наше небо не полезет. А форма, мама, у военных летчиков какая! Да и оклад притом ничего. Тебе помогать как следует стану…
– Так-то оно так, сыночек, – грустно согласилась Алена Дмитриевна, – только кто еще из твоего класса в летчики пошел?
– Никто, мама.
– Значит, ты один?
– А какое мне дело до других! – кипятился Алеша. – Каждый по душе должен выбирать себе место в жизни. Ох и трудно же тебя агитировать, мама!
Они долго просидели за этим разговором. Электрическая лампочка горела уже зря, потому что лез в окна без спроса веселый верхневолжский рассвет, и мать, поцеловав сына в лоб, сказала ему, как маленькому:
– Ложись спать, сынок. Угомон до тебя придет.
…Кажется, совсем недавно все это было. А потом? Словно сон, промелькнула бурная курсантская жизнь с подъемами и отбоями, тревогами и занятиями, с полетами на учебных и учебно-боевых острокрылых машинах и даже с двумя внеочередными нарядами, полученными за пререкания со старшиной.
Из застенчивого паренька превратился Горелов в крепкого, обветренного аэродромными ветрами юношу. Его выносливости и способности переносить безболезненно в воздухе перегрузки завидовали товарищи.
Алексей закончил школу с отличием, получил назначение в один из южных гарнизонов и тридцать суток отпуска. Все шло гладко, размерено. Он и подарки матери привез, и новенькой, хорошо пригнанной формой лейтенанта поразил. И вдруг это краткое посещение Гагариным их городка… «Вот и прощай, мечта, – грустно подумал он, – завтра в часть».
…Вдоволь надышавшись прохладным речным воздухом, проводив последний окаемок солнца, скрывшийся за горизонтом, Алеша пошагал домой. Густые сумерки заволокли Огородную улицу, когда он распахнул калитку. Мать уже давно пригнала козу и успела ее подоить. На столе Алешу ожидал стакан теплого молока, вареники со сметаной и холодные щи. Мать села в ним вместе, потом встала, откуда-то из-за печи достала нераспечатанную бутылку.
– Может, выпьешь, сынок «столичной»? – спросила она нерешительно. – Никогда раньше этим зельем тебя не потчевала, но теперь ты большой. Может, ради встречи надо?
– А ты, мама, выпьешь? – вопросом на вопрос ответил Алексей.
Она испуганно отстранилась:
– Что ты, сынок! Я ее никогда не пью. А ты – как знаешь. Говорят, летчики все пьющие.
– Кто это тебе так расписал нас, мама? – засмеялся Алексей.
– Бабка Додониха давеча у колонки говорила. У ней двоюродный племянник в самолетных механиках служил, так вот она на него ссылалась.
– Неисправима твоя бабка Додониха.
– А разве не так?
– Нет, мама, – весело пояснил Алеша, – тот, кто любит эти бутылочки, долго в реактивной авиации не полетает. Они по самому дорогому бьют – по сердцу. А без него, сама понимаешь, какой из человека летчик.
– Ну а ты как?
– Только по большим праздникам да когда товарищей много собирается, – признался Алексей, – один же, ей-ей, в рот не беру.
– Вот и не надо, – одобрила мать, и он понял, что предлагая водку, она очень хотела, чтобы он отказался.
Седенькая, немного ссутулившаяся, нажившая за эти два года одинокой жизни новые морщины, сидела напротив мать. Алеше стало ее жалко, и он сказал, желая доставить ей приятное:
– Мне тут подъемные выдали, мама. Целых сто двадцать рубликов. Это всем выдают, когда к новому месту службы направляют. Для расходов по переезду. Ну а какие у меня расходы? Ты их возьми, эти деньги.
– Что ты, милый! – счастливо заулыбалась Алена Дмитриевна. – Мыслимо ли? Вдруг самому какая нужда!
– Хоть половину возьми, мама, – настаивал Алеша, – сама же говорила, осенью крышу крыть.
– Половину я, пожалуй, возьму, если велишь, – согласилась она. – На крышу действительно надо.
– Вот и чýдно.
Алеша хотел уже укладываться спать, но она, стараясь придать своему голосу предельное равнодушие, все-таки спросила:
– Давеча ночью ты письмо какое-то писал перед тем, как на встречу с Гагариным пойти. – Она прищурилась и в упор смотрела на него исподлобья.
Алексей отодвинул от себя пустой граненый стакан.
– Сознаюсь, мама. Я действительно хотел передать это письмо в руки космонавту. У меня к нему была большая просьба – взять в их часть.
– В космонавты! – всплеснула руками Алена Дмитриевна. – Господи боже, как был дитем неразумным, Алеша, так и остался. Да ведомо ли тебе, что сейчас с такими просьбами к нему тысячи валят? На что же ты, лихая головушка, рассчитывал?
– На суворовскую поговорку, мама. Смелость города берет.
Алена Дмитриевна только вздохнула. Ей понравился даже этот его наивный порыв. Улыбаясь, она рассматривала лицо сына. Если бы не вздернутый отцовский нос да не вьющиеся волосы, оно было бы, возможно, строгим и сосредоточенным, но нос и кудряшки делали его добрым и веселым.
Где-то в темном углу методично потрескивал сверчок, да комар еще вился под шелковым абажуром вокруг лампочки. Мать задумчиво вздохнула:
– Алешка, Алешка, какой ты у меня страшный фантазер! Вот и отец твой был таким. Что ни получим, трактор или сеялку, – непременно задумается и какое-нибудь из своей головушки усовершенствование предложит. Только у него фантазия дальше сеялок и комбайнов не шла, а ты, мой милый, до самых звезд хватил. Иди-ка спать лучше. Небось замучили вас в училище летном ранними подъемами. Хоть на побывке-то отдохни.
* * *Глубокой ночью, прогрохотав на стрелках, скорый поезд подкатил к небольшому степному полустанку и, высадив единственного пассажира, обдав белесым паром невысокую кирпичную постройку, важно проследовал дальше.
Оставшись на перроне, этот единственный пассажир поставил на стертый, с выбоинами асфальт объемистый чемодан, положил на него армейскую шинель и, стряхивая остатки сонливости, потянулся. На больших электронных часах было половина четвертого. Вдыхая предутренний воздух, пассажир прислушался, как замирает за поворотом грохот колес.
Полустанок был нем, блекло горели на перроне два-три фонаря, и только фигура железнодорожника, выходившего встречать и провожать поезд, свидетельствовала, что здесь все же теплится жизнь.
– Товарищ! – решительно окликнул его военный. – Как бы мне до Соболевки добраться?
В руке у железнодорожника почему-то был старомодный фонарь, и он, не доверяя бледному электрическому свету, высоко его поднял, чтобы получше рассмотреть говорившего.
– До штаба дивизии, что ли? – переспросил он ворчливо.
– Ну да, – растерялся Алеша.
– Так бы и говорил, лейтенант, – засмеялся железнодорожник, – а то темнишь, будто я у тебя военную тайну выпытываю. Соболевка-деревня это одно, а Соболевка-аэродром – другое. Деревня – вправо, а аэродром и штаб дивизии – влево. Ты лучше подожди, пока светать начнет, а то не туда вырулишь. У них недавно ночные кончились. Сейчас небось еще самолеты по стоянкам растаскивают. Через часок, перед первой утренней сменой, техники двигатели станут опробовать. Вот тогда и шагай на шум, лейтенант.
– А вы откуда все с такими подробностями и авиационными терминами знаете, дядя? – не удержался от вопроса Алеша. – Можно подумать, сегодня ночными полетами руководили.
– Сегодня не руководил, – мрачно ответил железнодорожник, а было время – помощником руководителя на старт действительно выходил. И кажется, на СКП не был лишним.
– А почему же фонариком теперь машешь?
– А ты про миллион двести слышал? – хмуро спросил незнакомец. – Знаешь, что это за цифра и с чем ее едят?
– Да, вроде знаю. На такое количество людей армия наша сокращалась.
– Вот и я вошел в это количество.
Железнодорожник презрительно повернулся к лейтенанту спиной, дошел до двери и сильнее, чем полагалось человеку в спокойном состоянии духа, дернул ее на себя так, что пружины завизжали. Но прежде чем сутулая спина незнакомца скрылась за дверью, до лейтенанта донесся его сердитый голос:
– Желаю тебе, лейтенант, в катастрофы авиационные не попадать. И в миллион двести раньше времени тоже.
Дверь захлопнулась, и на перроне воцарилась глубокая тишина. Пожав плечами, лейтенант взял свои вещи и, обогнув здание полустанка, вышел на небольшую, вымощенную булыжником площадь. Ни одной машины, ни одной повозки… Он сел на скамью, дремотно зажмурил глаза. Тихо и пустынно вокруг. «Вот и началась твоя самостоятельная жизнь, Алексей Павлович Горелов», – сказал самому себе лейтенант.
Мрачный железнодорожник оказался прав. Едва лишь развиднелось, километрах в трех слева от полустанка ожил невидимый аэродром, наполнился тонким свистом турбин, гудом автомашин, появившихся на подъездных путях. Желтые конусы от фар стали вспыхивать то в одном, то в другом направлении, и по ним да по реву двигателей лейтенант точно определил расположение аэродрома.
За какие-нибудь сорок минут Алеша дошел до проходной и, доложив о себе дежурному по гарнизону, получил от него самые точные координаты:
– Видите аллейку, лейтенант? Шагайте по ней и упретесь в красный кирпичный дом. Там найдете всех – от комдива и до начпрода включительно, который укажет маршрут в летную столовую.
Алексей усомнился:
– Комдива в такую рань все-таки, думаю, там нет.
Но разбитной старший лейтенант с повязкой дежурного на рукаве лишь усмехнулся:
– Другого, может, и нет, а наш на месте. Наш с утренней зорькой начинает, с вечерней кончает.
И Горелов покинул дежурку.
Чахлые, спаленные за лето жарким солнцем акации росли по обеим сторонам асфальтовой аллеи. В конце она раструбом упиралась в длинное трехэтажное здание, видимо старое, потому что в отличие от рядом стоящих аэродромных построек было оно не из блоков, а из цельного красного кирпича. Над крышей возвышалась такая же красная, с большими окнами для обзора вышка командного пункта, увенчанная выгоревшим на ветру флагом Военно-воздушных сил.
Длинный коридор первого этажа хранил прохладное молчание. У зачехленного полкового знамени стыла фигура часового, и Алексей с курсантской старательностью откозырял: не часовому, конечно, а знамени, под которым предстояло служить.
Не сведущие в армейской жизни люди склонны иной раз иронизировать над слишком частыми, по их мнению, козыряниями, положениями «смирно» и командами «Вольно», без каких и на самом деле невозможно обойтись в армейской жизни, подчиненной сухим, на первый взгляд, уставам и правилам. Но честное слово, есть что-то трогательное, полное глубокого смысла в том, что, увидев Знамя части, тянет молодой человек в военной форе руку к виску. И безошибочно можно сказать: значит, глубоко сидит в таком парне сознание своего долга и уважение к багрянцу пролитой под этим знаменем на полях сражений крови.
Шагая по коридору, Алеша читал дощечки на плотно закрытых дверях: «Начальник политотдела полковник Ремизов», «Начальник штаба полковник Савалов». И только на обитой кожей двери было написано просто: «Командир дивизии».
Алеша, не раздумывая, открыл эту дверь и очутился в пустой приемной. Другая дверь, ведущая в кабинет командира, была приотворена, и оттуда доносился чуть-чуть сердитый бас:
– Как вы поставили «пятерку» в плановую таблицу, если сами утверждаете, что ее еще в воздухе полагается опробовать! Так дело не пойдет. Надо, чтобы все на уровне было… Как не хватило времени?.. Что же, у командира дивизии кладовая времени, что ли? Мне и на свои дела двадцати четырех часов еле-еле хватает. Но укладываюсь. Так что и вы постарайтесь.
Стукнул телефонный рычаг под опущенной трубкой, и Горелов понял, что настала минута действовать. Приоткрыв дверь, он с порога громко произнес:
– Разрешите?
– Да, да, – прогудел из комнаты бас.
Горелов поднял голову и чуть было не протер ладонью глаза, до того фантастическим и нелепым показалось то, что он увидел. За зеленым сукном массивного письменного стола, заставленного пластмассовыми макетами стреловидных истребителей и огромным аляповатым чернильным прибором с быком из белого мрамора, сидел начальник авиаучилища полковник Ефимков. Кузьма Петрович Ефимков, с которым ни дать ни взять он расстался месяц назад, выслушав его немногословное, но довольно-таки соленое напутствие о том, как должен порядочный честный летчик шагать в двадцатом веке по авиационным стежкам-дорожкам.
Был Ефимков в форменной рубашке с матерчатыми погончиками. На спинке древнего резного кресла висел его китель с пестрыми рядами орденских планок и золотой звездочкой.
Озадаченный, Алексей молча смотрел на полковника широко открытыми глазами. Нижняя полная губа у Ефимкова потешно затряслась от смеха, и небольшие усики под крупным с горбинкой носом немедленно пришли в движение.
– Ну чего же не докладываешь-то? – любуясь замешательством лейтенанта, спросил полковник. – Язык к гортани прилип? Или я таким уж грозным стал, что ли?
– Да как же, товарищ полковник, – замялся Алексей, – только что меня провожали к новому месту службы, и к вам же, выходит, прибыл. Вам же и докладывать о прибытии приходится.
– Так и докладывай, не ленись.
Не зная, шутит комдив или говорит всерьез, Алексей принял положение «смирно».
– Товарищ полковник, лейтенант Горелов прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы.
– Вот так-то, – одобрительно сказал Ефимков и вышел из-за стола. Огромный, почти в два метра ростом, с широкими плечами, он дружелюбно полуобнял Горелова, усадил рядом с собой на дерматиновый диван.
– Значит, удивился, Горелов? Ничего. Привыкай к тому, что авиация – это прежде всего скорость. Пока ты отдыхал месяц на родине, твоего бывшего начальника вытряхнули с насиженного места и принять дивизию приказали, чему он, откровенно говоря, рад. Это, во-первых. Ну, а во-вторых… – Он задумался, прислушиваясь к реву выруливающих на старт истребителей, мельком скользнул взглядом по циферблату стенных часов, видимо, проверяя, точно ли выполняется плановая таблица. – …Во-вторых, был у меня в свое время хороший командующий генерал Зернов. Любил повторять: «В авиации дорожки узкие, всегда пересекутся». Как видишь, все закономерно, хотя на первый взгляд и необычно. – Он встал и тяжелыми шагами из конца в конец промерил кабинет. – Куда же мне тебя определить, Горелов? Учился ты хорошо, летал тоже не худо. Ладно. Пойдешь служить в самый передовой полк, к майору Климову.
* * *Нигде, пожалуй, не встречают так спокойно нового человека, как в авиации, где летная жизнь не замирает ни днем ни ночью.
Те, кому приходится по должности принимать новичков, давно к таким встречам привыкли и редко придают им какую-либо торжественность. Просто они стараются окружить человека заботой и вниманием, чтобы тот как можно скорее ощутил себя своим среди ветеранов.
Комендант гостиницы, отданной в распоряжение офицеров-холостяков, заставил Горелова подняться на третий этаж, выдал ему ключ и сказал:
– Это запасной. Другой – у второго жильца, лейтенанта Комкова.
Комната была маленькая, метров двенадцать, не больше. Стол, платяной шкаф, две койки.
Горелов разделся, прилег отдохнуть, но тотчас же провалился в крепкий сон. Сказались и длинная ночь – он провел ее не сомкнув глаз, – и волнения, и дорога пешком с тяжелой поклажей…
Когда он очнулся, то сразу почувствовал, что в комнате не один. Глаз не открыл, услышал легкое поскрипывание стула. Вероятно, второй обитатель комнаты сидел за столом. Сначала Алеша предположил, что тот пишет или читает. Но минуту спустя до его слуха дошло шуршание бумаги, стук твердого предмета о стенки стакана и шорох, не оставляющий теперь никакого сомнения, – его сосед бреется. Делал он это спокойно и деликатно, стараясь не шуметь. Но потом вдруг стал греметь стулом, бритвенной утварью и вдобавок ко всему засвистал какой-то сумбурный мотивчик, нечто среднее между «тореодор, смелее в бой» и футбольным маршем.
Алеша открыл глаза и тоже подчеркнуто откровенно заворочался на своей койке, так что сетка, провисавшая под его телом, отчаянно взвыла. Перед собой он увидел голую спину незнакомца, сплошь покрытую крупными рыжими веснушками. Спина заворочалась, и зоркие любопытствующие глаза посмотрели на Алексея из-под рыжего чуба.
– Проснулись, товарищ лейтенант! – весело окликнул его незнакомец. – А я здесь умышленно шумел, чтобы вы обед не проспали. Собирайтесь.
Горелов, смахнув с себя простыню, вскочил с койки на прохладный паркетный пол.
Оба они стояли в одних трусах, с интересом рассматривая друг друга.
– Давайте познакомимся, – предложил сосед, – все-таки я здесь абориген. Лейтенант Василий Комков, старший летчик.
– Лейтенант Горелов, младший летчик, – засмеялся Алеша. – Видите, какая между нами дистанция!
– Чепуха, – быстро возразил Комков, – помните, что говорил Наполеон о маршальском жезле, который в ранце у каждого солдата. А жезл старшего летчика добывается гораздо проще.
Алексей разглядел на столе броскую фотографию. В густых зарослях мандариновой рощи, весь окруженный ветвями, согнувшимися под тяжестью спелых плодов, стоит летчик в довоенной форме. В петлицах – шпала. Волосы – спелая рожь. Грудь в орденах.
– Какой яркий снимок! – вырвалось у Горелова.
– Это отец, – мрачно сказал Комков, – на отдыхе в конце сорок первого снялся. Его в Цхалтубо лечиться после ранения послали. А потом, в конце того же сорок первого, он погиб под Севастополем.
– А у меня отец в сорок третьем погиб… на Днепре.
– Вот как, – потеплевшим голосом откликнулся Комков, – значит, и вы сиротой росли? Я о своем отце всего и помню, что запах армейского ремня да золотой краб на летной фуражке. Рябинки вот еще на лице у него были.
– А я вообще ничего не помню, – грустно признался Алеша, – совсем тогда маленьким был.
– Да, – вздохнул Комков, – скоро сами отцами станем.
– Не рано ли? – усмехнулся Алеша. – Лично я так нет.
– О! – засмеялся Комков. – И оглянуться не успеете, как все придет. Сначала любовь, потом взаимность, загс и прочее.
– Так у вас же всего этого еще нет. Вы на три-четыре года каких-нибудь меня старше.
– Вот чудак, разве же это по заказу происходит? Любовь – это не пенсия за выслугу лет. Положитесь на мой личный опыт. Через полгода будете гулять у меня на свадьбе. Хорошая девушка. Честное слово, хорошая.
– Как зовут-то хоть? – спросил Алеша, тронутый счастливым блеском его глаз.
– Любашей, – охотно ответил Комков, – здешний финансово-экономический техникум кончает. Сейчас у них самые горячие денечки – экзамены идут. Жаль, сегодня ночные полеты. Я бы вас познакомил. Однако чего мы стоим, как два голых петуха? Пора одеваться и – в столовую.
После обеда они сразу возвратились домой. Жаркая погода вынудила обоих раздеться. Комков перед вечерними полетами прилег, как и полагалось летчику, но сон не шел, и он с удовольствием продолжал расспрашивать соседа об авиаучилище, из которого тот прибыл, об однокашниках – среди них могли оказаться и его знакомые. Алеша рассказал, как добирался в Соболевку, вспомнил мрачного ночного железнодорожника.