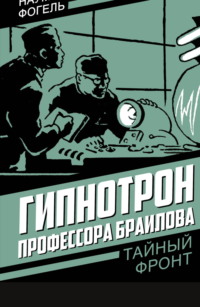полная версия
полная версияКапитан флагмана
– Ничего не поделаешь. Солнечное сплетение. Мы еще смутно себе представляем, как это грандиозно – солнечное сплетение.
Что знала она, Галина, об этом сплетении? На лекциях в институте профессор говорил о нем долго и уважительно – мозг брюшной полости! Но в памяти осталась только путаница нервных волокон и узлов на брюшной аорте и рядом.
В прошлом году в отделении лежал больной с таким заболеванием. Галина первая поставила диагноз. Багрий похвалил ее тогда и посоветовал показать больного консультанту-невропатологу. Тот согласился с диагнозом и тоже похвалил Галину. Она была уверена, что теперь больного переведут в неврологическое. Но консультант предложил понаблюдать еще, поисследовать.
– Эта штука редко заболевает сама по себе, – сказал он в ответ на недоуменный взгляд Галины. – Чаще всего она выполняет роль звонаря и начинает бить в набат, оповещая о пожаре где-то по соседству. Вот и поищите. И уж если ничего не найдете… Ну, тогда за дело примутся невропатологи. Только будьте внимательны, чтоб не оскандалиться.
Он оказался прав. Дополнительное обследование обнаружило старые спайки. Их рассекли, и человек выздоровел.
Она прочитала все, что написано о солнечном сплетении, и только сейчас увидела, как мало еще о нем знает медицинская наука.
Она понимала, что у матери в результате тяжелого недуга все пошло кувырком. И боли у нее – ужасные. И рассказать о них она не может, потому что нет в человеческом языке таких слов, чтобы описать их.
– Она всегда тут, – говорила мать о своей боли испуганным шепотом, – будто кипятком плещет кто под самое сердце. Господи, хоть бы конец скорее!
Галина тоже временами ловила себя на той мысли: «И в самом деле, хоть бы скорее конец!» Она спохватывалась, пугалась, а через короткое время снова ловила себя на том же. А сегодня утром, забежав как всегда на несколько минут домой, она не выдержала:
– Я эгоистка. Жестокая, беспощадная, – рыдала она, уткнувшись головой мужу в грудь. – Желать смерти родной матери. Подумать только, желать смерти родной матери!
– Ты устала, – произнес он тихо и участливо, гладя ее волосы. – Тебе надо просто немного отдохнуть.
– Не успокаивай меня. Хотеть, чтобы мать умерла! О таком подумать – гнусно, подло!..
Он усадил ее, покопался в аптечке.
– Вот, выпей две таблетки и поспи. Право, тебе надо поспать. Хотя бы три-четыре часа.
– Нет. Я пойду. – И она стала вытирать слезы ладонью, всхлипывая, как ребенок. – Я пойду. Если что случится в мое отсутствие, я никогда не прощу себе.
– Ладно, иди, – согласился он. – Только умойся и поешь. Ты должна крепко держаться, хотя бы ради нее. Умойся и поешь.
– Хорошо, я сейчас умоюсь и поем, – всхлипывала она. – Ты прав. Я не должна распускаться.
Пока она умывалась, он приготовил завтрак – яичницу с ветчиной, масло, сыр, чашку чаю. Он все мог – и сварить, и постирать, и прибрать в комнатах. Она постепенно отстранила его от всего этого – мужчина должен быть мужчиной, а сейчас… Он говорит, что ему просто не доставляло это забот. Что, когда моешь посуду, хорошо думается. А под звук пылесоса удается даже решить очень сложный сюжетный ход. Он поставил на стол дымящуюся яичницу, положил нож, вилку. Сел напротив.
– Не понимаю, зачем ты терзаешь себя, – сказал он.
– Мне кажется, я что-то упустила.
– Ты делаешь все, что можешь. И все вокруг тоже делают, что могут.
Она вздохнула.
– Ну, пожалуйста, успокойся, – попросил он.
– Я уже успокоилась, – сказала она и опять вздохнула. – Я сейчас поем и пойду. Ты прости, что я совсем тебя забросила.
– Какую, однако, чушь несет человек, когда у него горе, – пожал плечами Сергей.
Прощаясь, она обняла его и опять заплакала.
– Ну вот, снова…
– Это уже от радости, что ты у меня есть, – произнесла она шепотом. – Не представляю даже, что было бы со мной, если бы не ты. Тебе не очень трудно без меня?
– Трудно? Это не то слово. Впрочем, не думай обо мне как о заброшенном. Я солдат. И мне хорошо работается сейчас. Если бы у тебя было время… – он замолк. Она понимала, что он хотел сказать.
Он любил вечерами, когда она возвращалась с работы, слушать в ее чтении свои черновые наброски. Затем он ходил по комнате и говорил, говорил, энергично жестикулируя, рассуждая вслух, как бы споря с самим собой. Она слушала молча. Старалась не перебивать, понимала – ему нужно «выговориться». И при ней это у него получалось особенно хорошо. Она чувствовала, что сейчас, когда приближается срок сдачи рукописи, когда надо особенно много работать, ему не хватает ее.
– Я понимаю, Сергей, моя беда – это в какой-то мере и твоя беда.
– Почему в «какой-то мере»? – спросил он.
– Прости, я не так выразилась.
– Мне хорошо работается, – повторил он. – Вчера был Гриша Таранец. Мы с ним проболтали добрых три часа. Посплетничали немного. Да, знаешь, отрывок из моего романа газета наша печатать не будет.
– Почему? – удивилась Галина. – Ведь главный редактор читал, и ему понравилось.
– Он уехал с делегацией в Болгарию на две недели. Его обязанности исполняет сейчас Романов.
– Вот кому я не доверила бы такую должность даже временно.
– У него большой опыт работы в газете, великолепное чутье наиболее важного. А это, согласись, самое главное для редактора.
– Для редактора самое главное быть человеком.
– Быть человеком – очень трудная профессия, – улыбнулся Сергей. – Впрочем, эту истину хорошо знали еще в древности.
– Ты всегда древнюю мудрость выставляешь, как щит. Я же знаю, что тебя злит все это. Не может не злить.
– Злит, конечно, – спокойно произнес он.
Она почувствовала, что разговор о Романове тяготит мужа, и потому спросила.
– А как у Гриши дела?
– Он почти закончил поэму. Прочел мне два отрывка. Неплохо получается. А третьего дня приходила его Таня. Прочитала мне мои две главы. Она хорошо читает.
– Ну, как у них?
– С ним любой будет нелегко.
– Любить человека – и приносить ему горе… Не понимаю.
– Он это делает помимо своей воли.
– Ты будто оправдываешь его.
– Нет. Но все равно мне хочется помочь ему. И я это делаю в меру сил своих. – Он улыбнулся. – Как видишь, дел у меня невпроворот. И поверь, мне хорошо работается. Сегодня утром, например, я сделал шесть страниц. Это очень много – шесть страниц. Конечно, мне тебя не хватает, но я все же хорошо работаю. Когда у тебя появится время, ты убедишься, как хорошо я работаю сейчас. И не мучай себя попусту. Ведь ты не можешь делать больше, чем делаешь.
Ему показалось, что она опять заплачет. Он снял с вешалки шляпу, сказал, что проводит ее немного. Она обрадовалась.
Дома Галина позволяла себе и посетовать на судьбу, но в больнице держалась крепко. Взяла она себя в руки сразу, как только мать легла к ним в отделение и Андрей Григорьевич заподозрил опухоль. Она решила держаться так, будто ничего опасного нет, будто заболевание хоть и тяжелое, но излечимое.
Да, она держалась крепко. Но вчера, когда мать, обессиленная очередным приступом, сказала каким-то жутким шепотом: «У меня уже нет сил, Галочка… Надо ли, чтобы это продолжалось?» – Галина похолодела.
– О чем ты?
– Это пытка. Надо ли, чтобы она продолжалась?
У Галины мурашки изморозью пошли по телу. Эти слова она уже слышала несколько лет назад, когда студенткой впервые пришла в хирургическую клинику. Там лежал артист Воронин. Он был красив и талантлив. Девчонки не стеснялись своей влюбленности в него. А после операции… Во время перевязок на него было страшно смотреть. Рот, глаза, каждая черточка лица – все кричало о боли, но крика не было, только серебряная трубка в горле хрипела и клокотала. Галине, когда она увидела это, стало дурно. Потом ее долго рвало. И это казалось ужасным: ведь она будет врачом и вдруг… Придя в себя, стала оправдываться:
– Понимаете, девочки, если бы он кричал… Было бы легче. А так…
Ночами его изводила бессонница. Обычные дозы снотворного не помогали. Их увеличили. Потом еще. А через несколько дней Воронин умер. Накопил смертельную дозу снотворного и отравился.
Дежурный врач, докладывая утром на пятиминутке, был убежден, что не миновать разноса. Но профессор тяжело вздохнул.
– Знаю, – сказал он. – Звонили.
Потом Галина слышала, как профессор, шагая по коридору со своим старшим ассистентом, сказал:
– Я бы на его месте поступил так же. Этот Воронин и на сцене и в жизни был настоящим парнем.
И Галина тогда подумала, что профессор прав. Воронину, для которого сцена – все, остаться без голоса… Это была бы не жизнь, а пытка. Сплошная пытка.
Вот и мать – тоже. Галина понимала, что ей ничем уже не помочь. Но внутри все протестовало.
– Господи, как же наша медицина еще беспомощна!
– Вы же умница, Галина, – сказал Багрий. – Вы же знаете, что такое солнечное сплетение. И что такое опухоль с метастазами, тоже знаете.
– Я все понимаю, все. Но если бы унять эти боли, хотя бы на время.
– Да, это очень худо, когда человек не переносит обычных наркотиков, – сказал Багрий. – Только наркотал.
– А что, если вспрыснуть не три кубика, а четыре?
– Попробуйте, – сказал, подумав, Багрий. – Только, пожалуйста, осторожно.
После инъекции четырех кубиков мать проспала три часа. Потом некоторое время чувствовала себя сносно. Затем снова появились боли, но терпимые. Спустя несколько дней пришлось добавить еще кубик. Вадим Петрович – старший ординатор отделения, молодой, импозантный – прочитал историю болезни Валентины Лукиничны и, увидев дозу наркотала, только присвистнул.
– Однако!..
– Что «однако»? – спросила Галина.
– Ампула наркотала! Это же по сути наркоз.
– Нас учили всегда индивидуализировать дозировки, – ответила Галина. – Если четыре не помогают, надо вспрыскивать пять.
– Это по сути наркоз, – повторил Вадим Петрович предостерегающе.
– Знаю, – сказала Галина.
– Так вот, – начал Шарыгин, по-прежнему не поднимая головы, – я полагаю…
Он опять замолчал. «Удивительно, как он умеет выводить из себя», – уже с раздражением подумала Галина. Зазвонил телефон. Вадим Петрович снял трубку и протянул как обычно:
– Да-а… Приветствую вас, Илья Артемович… Хорошо, я скажу Галине Тарасовне, чтобы она подготовила… Это ее больной… Ну конечно же все будет официально – за подписями старшего ординатора и заведующего отделением… С удовольствием передам… До свидания, Илья Артемович.
Он положил трубку, посмотрел на Галину.
– Будалов кланяется вам. Не знаю почему, но даже от его голоса мне всегда становится не по себе. Терпеть не могу следователей.
– Илья Артемович очень милый человек, прямой и честный, – возразила Галина.
– В вас говорит лечащий врач. Больной – всегда больной. Даже если он следователь по особо опасным преступлениям. Если бы вы не лечили его, он не показался бы вам таким милым.
– Что он просил передать мне?
– Привет.
– А еще?
– Просил подготовить копию истории болезни… – Вадим Петрович назвал фамилию больного, потом, продолжая прерванный разговор, произнес так, словно этого звонка вовсе и не было: – Так вот, я полагаю, что такие дозы наркотала граничат уже с чем-то недозволенным.
В тот же день Галина рассказала об этом разговоре Багрию.
– Все лекарства в какой-то мере яд, – сказал Багрий. – Надо только уметь пользоваться ими, тогда они идут впрок. Вы же знаете, человек привыкает к наркоталу, вот и приходится увеличивать дозу. Ничего не поделаешь.
Галина успокоилась. И все же каждый раз, когда она брала в руки шприц, ей вспоминалось: «Такие дозы граничат уже с чем-то недозволенным».
5
Некогда самостоятельный завод Романова постепенно попал в полную зависимость от Бунчужного. «Торос» получал множество разнообразных деталей, и облицовку клюзов, и крупные секции, выкроенные на его, Бунчужного, электронных автоматах и сваренные в его, Бунчужного, цехах. Даже своего плаза у Романова сейчас не было. Все расчеты по строительству теперь он получал от Бунчужного, который построил уникальный масштабный плаз, первый в стране.
Романов понимал, что современные океанские корабли с очень сложным автоматическим управлением ему поручали строить потому, что рядом был завод Бунчужного. А ведь еще совсем недавно судостроительный Романова считался передовым. Один стапельный цех чего стоил – гигантский крытый эллинг, где сборке корабля не мешали осенние непогоды, зимние вьюги, летний зной.
Романов пришел хмурый. Не глянув на секретаря, он рванул на себя двери кабинета Бунчужного, энергичным шагом прошел через всю комнату, сухо поздоровался и, не ожидая приглашения, тяжело опустился в кресло. Поглядел на коллекцию разноцветных телефонов, на зеркально блестящий ПДП и спросил сухо:
– Так что у тебя там за новости, Тарас Игнатьевич?
Бунчужный молча протянул ему письмо министра. Романов стал читать, ничем не выдавая захлестнувшей его обиды. Бунчужному, глядя на него, стало не по себе. Он поднялся, подошел к окну.
Матвея Романова Тарас Игнатьевич знал давно. Вместе восстанавливали судостроительный. Вместе работали на самом трудном участке первого цеха, где происходила раскройка металла. Вместе разрабатывали новый метод электросварки – дешевый, высококачественный, надежный. Их работой заинтересовался научно-исследовательский институт. Метод превзошел все ожидания. Его переняли другие заводы. За короткое время экономия по стране от внедрения в практику этого способа исчислялась уже сотнями тысяч, а потом и миллионами рублей. Зашумели газеты. Бунчужного и Романова представили к награде. А спустя еще некоторое время Тарас Игнатьевич получил Ленинскую премию. После этого прошло несколько дней, и Матвея Романова, по рекомендации Бунчужного, назначили директором соседнего судостроительного.
Представление к Ленинской премии Бунчужного и новое назначение Романова было простым совпадением. Однако родной брат Романова, журналист, сотрудник редакции областной газеты, усмотрел в этом недобрый умысел.
– Ведь он вот какую хиромантию завернул, Матюха! Он взятку тебе дал, – говорил он брату, оживленно жестикулируя. – Оттер плечом от Ленинской премии и, чтобы не скулил, завод – в зубы. Дескать, бери и помни мою доброту.
– Знаешь, что тебе всегда не хватало, Ваня? – сказал с горечью Матвей Семенович. – Здравого смысла и доброты.
– Зато у тебя этого – невпроворот. Попомни мое слово, он тебя и оттуда еще турнет.
– Да пойми, нет ему смысла, если он же меня рекомендовал. Никакого смысла нет.
– А он безо всякого смысла турнет. Мешаешь ты ему на этом свете. Сварка эта новая – твоя идея. Ты начал. Ты до конца довел. Тебе честь и слава. Понимаешь, тебе, а не ему. На твоих плечах он к славе добрался, и теперь ты – лишний. Как свидетель обвинения. Умный человек всегда старается от свидетелей обвинения избавиться. А он – умный хохол.
– Спасибо, что хоть это за ним признаешь.
– Что хохол?
– Нет, что умный.
– Так оно, брат, чем враг умнее, тем хуже.
– Ты хоть другим не болтай всего, что сейчас нагородил, – сказал Матвей. – При чем тут Бунчужный? К Ленинской премии представлял институт. Им там надо было отметить своих – тех, что и кандидатские, и докторские сделали на нашем материале. А чтоб лишних разговоров не было, прицепили и Бунчужного. Могли и другого пришвартовать. Меня, например. Или начальника цеха, в котором этот метод внедрялся впервые. А то и бригадира лучшей бригады этого цеха. Не знаешь ты разве, как у нас это иногда делается?
Бунчужный вернулся на свое место. Сидел, курил, глядел на Матвея Семеновича. «До чего же он похож на своего брата. И надо же, чтобы я сначала с тем схлестнулся, теперь с этим».
Романов неторопливо прочитал письмо. Еще раз. Так же неторопливо сложил, затолкал в боковой карман своего легкого, ладно пригнанного по фигуре пиджака и только после этого спросил таким тоном, словно это не министр, а он, Бунчужный, подписал приказ о слиянии заводов:
– А меня куда?
– Оставайся на прежнем месте, – сказал Бунчужный. – Не хочется мне, чтобы такой ответственный участок попал в руки другого. Пока освоится, пока…
– Вот именно – участок, – не дал ему закончить Романов. – Доработался Матвей Семенович до начальника участка. Можно и с повышением поздравить.
Эта язвительная реплика заставила Бунчужного нахмуриться.
– Дело не в названии, Матвей Семенович. Ты знаешь: дело не в названии. Впрочем, если не хочешь – лаборатория электросварки у нас, сам знаешь, одна из лучших в Союзе. Сейчас начинаем освоение гравитационной электросварки по нашему, русскому, методу. А впереди – лазер… С тобой мы все это провернем куда быстрее.
– Провернем, – язвительно усмехнулся Романов. – Я проверну, а ты за это вторую Звезду получишь.
– Да очнись ты, Матвей Семенович. Ведь не я раздаю ордена и присваиваю звания лауреатов. Если бы от меня зависело…
– Мне бы первому присвоил? Знаю эту побасенку.
– Как хочешь, – уже сухо произнес Бунчужный.
Романов не заметил ни этого отчужденного тона, ни подчеркнуто сухой интонации. Ему важно было узнать от Бунчужного все, чтобы не наломать дров сгоряча, не накуролесить. Он взял себя в руки, потянулся за сигаретой, закурил. Помолчал.
– Ну а если я, скажем, не соглашусь и на прежнем месте остаться, и к тебе в лабораторию идти! Кто я теперь для вас? Разжалованный директор. Не понимаешь, как мне обидно?
– Не понимаю, – резко ответил Бунчужный. – Но министр понял. Есть у него для тебя место – в Прибалтике. Директором судостроительного. А только я не советую. – И, отвечая на недоуменно-вопросительный взгляд Романова, продолжал: – Не потянешь.
– Какого же черта ты рекомендовал меня директором «Тороса»? Какого черта, спрашиваю?! – взорвался Романов.
– Маху дал. Не учел, что ты с людьми работать не можешь.
– У тебя учился.
– Не тому учился. Ты ведь с людьми – вот как.
Бунчужный показал крепко стиснутый кулак.
– И этому у тебя учился, – упрямо повторил Романов.
– Конечно, иногда нужно и так, – согласился Бунчужный, разжав и опять крепко стиснув кулак. – Завод не детский садик. Тут иногда нужно как на фронте – не мои слова: Скибу цитирую. Я вот сегодня лучшего сварщика выгнал за то, что вчера выпил больше нормы. Думаешь, он работать не мог?.. Мог. Думаешь, у нас электросварщиков – бери не хочу?.. Нет, не хватает. А выставил я его, чтобы другим неповадно было. Себе в убыток выставил. Конечно, иногда нужно и так. А вообще-то к людям надо с душой. А ты ко всем с одной меркой. – Он сделал паузу и продолжал своим ровным, чуть приглушенным голосом: – Ты сейчас огорошен. Давай подождем два-три дня, потом поговорим.
Романов коротким движением большой руки воткнул в пепельницу недокуренную и до половины сигарету, крутнул так, что она лопнула, стряхнул приставшие к пальцам крошки табака и спросил:
– Завод когда сдавать?
– Сегодня.
– А повременить, пока я в Москву слетаю?
– Я тянуть не люблю. Это у меня с фронта – приказ есть приказ. И потом, с министром можешь и тут поговорить. Во вторник обещал быть, если ничего не помешает.
– Так, может быть, с передачей до его приезда и подождем?
– Тянуть не буду.
– Торопишься, значит. Боишься, чтобы там не переиграли.
Бунчужный почувствовал, как у него холодеют губы и по затылку забегали мурашки. «Довел-таки, сукин сын!» – подумал он не столько со злостью на Романова, сколько на самого себя.
– Все. Разговор окончен. Через час комиссию пришлю.
Романов несколько секунд смотрел на Бунчужного, потом резко поднялся, быстрым шагом направился к выходу. Сильным ударом носка толкнул дверь, вышел, громко хлопнул ею.
Бунчужный досадливо поморщился. Посмотрел на часы. Половина десятого. Удалось ли связаться с больницей?
Он потянулся к трубке, но телефон в это время зазвонил.
– Багрий на проводе, Тарас Игнатьевич, – доложила секретарь.
Бунчужный поздоровался, спросил:
– Как там Валентина моя?
– Сегодня немного лучше.
– Галина говорила. Не нравится она мне.
– Кто? – спросил Багрий, понизив голос.
– Галина. Я сегодня встретил ее. Утром. Не понравилась.
– Устала она очень. Больше ничего.
– Может, отправить ее на два-три дня в Заозерное, к бабушке? Поговорите с ней, Андрей Григорьевич. У меня ничего не выйдет.
– Вы полагаете, у меня выйдет?
– Попытайтесь, пожалуйста. Я в четыре буду.
Он положил трубку, несколько секунд сидел задумавшись, потом снова позвонил секретарю. Спросил как обычно:
– Что у нас там?
– Сейчас вам кофе принесут и чего-нибудь поесть.
– Не надо. Закончу прием, приду в буфет. Что у нас там?
– Было трое. По поводу жилья. Я их к Ширину отправила… Волошина пришла. Две минуты просит.
«Волошина – и две минуты», – усмехнулся Бунчужный, а вслух сказал:
– Давайте ее сюда.
Волошина вошла и направилась к столу своей на редкость легкой походкой. Лицо ее было затуманено не то печалью, не то заботой и в то же время освещалось теплой, приветливой улыбкой.
«Она очень пластична, – подумал Бунчужный. – Не только внешне пластична, но и внутренне».
Людмила Владиславовна до того, как стала главным врачом девятой больницы, несколько лет возглавляла заводскую поликлинику здесь, на судостроительном. Она была красива той особой красотой, какой обычно расцветают ладно скроенные женщины в тридцать четыре, тридцать пять лет. Умела держаться с подкупающей простотой и достоинством, что всегда вызывает чувство уважения и симпатию. Начальники цехов охотно выполняли все ее просьбы, нередко расходуя для ремонта поликлиники остродефицитные, предназначенные для отделки кораблей материалы.
Тарас Игнатьевич знал, что она еще студенткой вышла замуж за какого-то доцента, что у нее дочь от этого брака, что вскоре вышла замуж вторично, за Ширина, у которого за год до этого умерла жена. Узнав о свадьбе, Лордкипанидзе не удержался:
– Как?.. В одной упряжке Костя Ширин и эта трепетная лань?..
– Кто лань? – спросил Бунчужный. – Ты бы поостерегался, Лорд. Если она узнает, как ты ее обозвал…
Тарас Игнатьевич посмотрел на ее тонко очерченное лицо, чуть покатые, очень женственные плечи и подумал, что Константин Иннокентьевич не ровня ей и что брак у них, наверно, не из счастливых, но вот живут же. Спокойно, тихо. Иногда их можно было встретить в театре, на пикнике. Всегда вместе. Всегда какие-то умиротворенные, спокойные, очень дружески расположенные. Видимо, сумел же подобрать ключ к ее сердцу Константин Иннокентьевич?
Она любила внедрять в практику своей поликлиники все новое. Проведав об очередной новинке в Москве, Ленинграде или ином городе, она тут же собиралась и ехала, чтобы ознакомиться. Бунчужному нравилась эта ее деловитость. И то, что поликлиника на его заводе считалась самой лучшей в области, тоже нравилось. Людмилу Владиславовну он величал начальником цеха здоровья. Хорошим начальником. Однако против перевода ее главным врачом укрупненной девятой больницы не возражал: нельзя становиться поперек дороги человеку, если он в гору идет.
Легкий туман печали, который придавал красивому лицу Волошиной что-то общее с лицом скорбящей богоматери, не понравился Бунчужному.
«Конечно, клянчить пришла», – подумал он и поднялся навстречу. Она протянула ему свою белую, узкую в кисти, с длинными, тонкими пальцами руку. Он пожал ее, потом указал на кресло и произнес:
– Я весь внимание, Людмила Владиславовна.
«Она безусловно пришла клянчить, – снова подумал Бунчужный, – но прежде она станет интересоваться моим здоровьем».
– Как ваше здоровье, Тарас Игнатьевич?
Она выразила искреннее удовлетворение по поводу хорошего здоровья директора, несмотря на длительную командировку и хлопоты, которых у того полон рот. После этого перешла к Валентине Лукиничне:
– Мы вчера консилиум собирали. Лучшие специалисты…
Она стала перечислять членов консилиума, называя должность и научное звание каждого, но Бунчужный вежливо оборвал ее.
– Знаю, – сказал он. И, отвечая на удивленный взгляд, пояснил: – Я ведь уже с Галиной беседовал и с Андреем Григорьевичем. И что утешительного мало, тоже знаю. Какая нужда у вас? Давайте выкладывайте, пока добрый.
Волошина улыбнулась. Ей нужен линолеум. Желательно голубой. И пластик. Желательно белый. Лучше с бирюзовым отливом…
Зазвонил секретарский телефон.
– Приехал Дэвид Джеггерс, – сообщила секретарь.
– Ах и некстати, – бросил с досадой Бунчужный в микрофон и спросил: – Где он сейчас? В гостинице?.. К десяти? Этот если сказал, будет минута в минуту. Ладно, давайте кофе. – Он положил трубку и обратился к Людмиле Владиславовне: – Да, так что у вас там?
– Пластик, Тарас Игнатьевич. Для отделки панелей. В столовой хирургического корпуса. И еще: очень хотелось бы мне установить микрофоны с усилителем в конференц-зале. Нигде не достать сейчас такой установки, а у вас есть, говорил мне Константин Иннокентьевич.