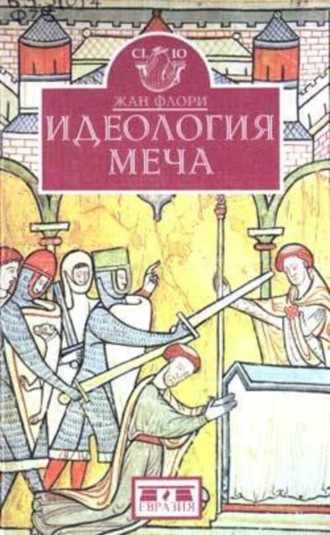 полная версия
полная версияИдеология меча. Предистория рыцарства
Таким образом, оценка ordo pugnatorum, совокупности тех, кто носит меч и чья функция – обеспечивать справедливость и мир, заметно повышается, но гораздо меньше, чем иногда считали[396]. Князья, принадлежащие к нему и даже, может быть, составляющие его, могут вести благочестивую жизнь, не надевая рясы, но придерживаясь монашеских добродетелей. Настоящей militia остаются монахи и те, кто, как они, живет в воздержании и презрении к миру[397]. По сути именно такой идеал предложил князьям аббат Одон. И тот, кого описал нам Одон, по сути подменяет короля.
Геральд описан как гарант порядка, мира: он покровительствовал слабым, помогал обездоленным, питал сирот, защищал вдов, утешал скорбящих. Какой человек более него достоин хвалы[398]? Он выполнял все, что издавна предлагали королям и что теперь требуют от князей. Потому что, по крайней мере, во Франции, на смену королевскому порядку пришел княжеский и даже иногда – порядок шателенов и их вооруженных отрядов milites. Именно с последними аббат Клюни и хочет бороться, поставив власть князей заслоном их своеволию. Против них же, как мы лучше увидим в следующей главе, церковь пыталась бороться с помощью установлений «мира», идея чего в конце X века понемногу вызревает в умах клириков, встревоженных нестабильным внутренним положением в королевстве Франции и на его окраинах.
Ordo pugnatorum против произвола milites – такое, по сути, решение предлагал Одон Клюнийский в середине X века, отмеченного упадком королевской власти и подъемом значения князей, которых вот-вот «обойдут» их собственные воины.
II. «Milites» в X веке
В X веке слово miles еще не имеет строго определенной социальной окраски. Это показано во многих серьезных работах. Более того, похоже, что социальная коннотация этого слова немного различается по регионам или, во всяком случае, не везде принята одновременно. Каковы же возможные его значения? В начале века, как мы видели, оно означает почти исключительно солдата с явно выраженным оттенком подчиненности. К концу века, например, у Рихера из Сен-Реми, хорошо изученного Й. М. ван Винтер, возникает три главных значения[399]: военное, относящееся к солдатам, без абсолютного деления на кавалеристов и пехотинцев; вассальное, связанное со «служебным» смыслом глагола militarc; и, наконец, значение подначальности, в каком это слово применяется к слугам, пользующимся доверием сеньора и выполняющим задачи особые, но не обязательно требующие оружия. Что важно, как у Рихера, так и других писателей X века, – то, что milites воспринимались как часть некоего ordo[400]. Конечно, само это слово неоднозначно, но все более частое его использование в связи с milites говорит и о росте значения князей и их воинов в глазах церковных писателей. Ведь времена неспокойны. Королевская власть ослабла, вторжения, правда, прекратились, но вчерашние защитники порой превращаются в притеснителей и разбойников. Только князья, при желании выступить на стороне добра, могут обеспечить populus y подобие защиты – князья или даже, в некоторых областях, как Аквитания или Маконне, шателены. Конечно, в том случае, если они не пользуются ослаблением власти, чтобы безнаказанно притеснять.
В некоторых местах власть держится лишь на силе оружия. Повсюду на западе континента небольшие отряды milites, получившие оружие от командующих ими шателенов, стоят гарнизонами в замках, охраняют стратегически важные пункты, сопровождают важных лиц, защищают или нападают, охраняют или похищают ради выкупа. В результате упадка сельского хозяйства после периода тревог и смут жители хуторов и деревень попали в зависимость от местных властителей, охраняющих и эксплуатирующих их при помощи своих отрядов milites.
Отныне военная служба рассматривается лишь как часть феодально-вассальных отношений[401]. В обществе, где каждый кому-то в той или иной форме служит, некоторые начинают считать службу с оружием в руках, militia, очень почетной формой службы. Исполнять ее могут не все. Понятно, что социальный статус milites в глазах наблюдателей в обществе того времени мог повыситься. Так, отмечается, что слово miles в хартиях начинает принимать смысл, уже не полностью совпадающий со словом «солдат».
Такое отмечено около 954 г. в регионе Шартра. Это очень раннее явление, лет на пятнадцать раньше подобного же в Маконне, в свою очередь намного опережающего большую часть других регионов. Но эти упоминания, еще разрозненные, все же не позволяют поместить milites на определенное место в иерархии общества. Технический смысл еще явно преобладает над социальным. Во всяком случае, если большинство milites были, по-видимому, простыми воинами-профессионалами из окружения сеньора, то все-таки к концу X века этот термин иногда применяется и к лицам первого ранга[402]. До этого времени это слово означало простых исполнителей воли аристократической власти, вероятно, вооруженных слуг, о которых мы уже упоминали.
Напротив, в Маконне с 971 г. miles – это представитель особой категории общества, свободных людей из высшего класса, «не знающих принуждения, но лишь вассальные обязательства»[403]. Короче, слово miles накладывается на слово nobilis и скоро (в Маконне) заменит его. Похоже, для этого региона характерна ранняя социальная эволюция как результат ослабления графской власти и подъема шателенов и их приближенных – milites.
В Провансе приблизительно до 900 г. сохранялись старые общественные институты Юга, из чего следует, что на лексическом уровне термины, использовавшиеся здесь до конца X века, имеют иной смысл, чем в северных регионах. Поэтому изучение лексикона сопряжено с серьезными затруднениями[404]. Однако заметно противопоставление clerus – populus, где последний включает в основном графов и других городских магнатов. В X веке в Провансе мы видим становление баналитетной сеньории, а во второй половине века – приватизацию замков: домены милитаризуются. Не для защиты от сарацин, истребленных с 972 г., но ради обеспечения местного порядка, поскольку от «мира по-франкски» осталось одно воспоминание. Новые, захваченные права ассоциируются теперь с замком, резиденцией «властителя». Он становится также средством расширения общественных прав всех свободных людей в домене или его окрестностях. Ослабление центральной власти опять же дало возможность установить баналитетную сеньорию, неизбежным следствием которой в том, что касается нашего предмета, стал подъем социального значения milites, водворяющих на местах угодный шателену порядок. Действительно, бан становится границей, по обе стороны которой происходит социальная кристаллизация: с одной стороны – безоружных, крестьян, с другой – тех, кто, благодаря использованию оружия представляет (пусть даже в малой мере) власть и из кого в ходе позднейшей эволюции, которую мы опишем далее, сформируется militia, новая знать.
К эпохе, которая интересует нас сейчас, это пока не относится. Например, в Понтье слова miles и militia еще означают и будут означать до конца XI в. наемников и домашнюю челядь[405]. В целом то же можно сказать и в отношении Пикардии, где приблизительно до 1100 г. milites – это наемные солдаты, «отодвинутые в конец списка свидетелей».[406]
Не похоже, чтобы положение их было более почетным и в Лангедоке, где термин miles в социально-юридическом смысле появляется ок. 972 г. в акте, которым граф Тулузский Раймонд III дарит монастырю Гайяк территорию, носящую это название, с его milites и другими жителями[407]. То есть milites перечисляются в одном ряду с крестьянами, пусть даже уже требуется упоминать их отдельно. Их социальный подъем начнется только в XI в., несмотря на отсутствие в этом регионе феодализма. Опять-таки, по всей вероятности, по социальному происхождению miles, как и caballarius – его синоним с более узким смыслом – относится к челяди сеньоров.[408]
Та же ситуация и в Каталонии, где до конца X в. слова miles и caballarius означают простых верховых бойцов, неясного происхождения, иногда – всадников гарнизона или maisnie (дружину (старофр.)) замка[409]. Персон высшего ранга для отличия от остальных называют здесь equites, a не milites.[410]
Итак, как мы видим, региональные исследования, проведенные в течение последних лет, доказывают невысокое происхождение milites в самой Франции, чему не противоречат и данные о германских странах. К этому для большинства регионов, с местными вариациями хронологии, добавляется ситуация, описанная, например, для Лотарингии, где М. Парисе отмечает редкость слова miles в хартиях до тысячного года, а также сравнительно постоянный смысл этого термина в повествовательных источниках: чаще всего оно означает «отряд людей при магнате, отряд бойцов»[411]. Обычно это воины-слуги, которых в других местах называют gregarii, но некоторые могут быть и знатными. Таким образом, социальный уровень milites еще неразличим, хотя в целом это слово связано с мини-стериалами или представителями невысоких социальных слоев. Стадия, на которой принадлежность к рыцарству ценится в общесгве выше всего, пока не достигнута[412]. Еще в большей мере это позднее внедрение «ценностей» рыцарства характерно для империи, как уже неоднократно подчеркивалось.[413]
Исследование П. Тубера, посвященное Лацию, тоже подтверждает этот факт. Так, выражение militia romanorum в X в. означает, возможно, populus в целом, и придется ждать середины XI в., чтобы между маленькой группой milites и equites (всадников), с одной стороны, и массой populus castri (населения лагеря) и pedites (пехотинцев) – с другой возникла пропасть.[414]
Из этого беглого обзора следует, что слово miles до конца X в., скорее всего, относят к достаточно невысокому социальному слою, и смысл этого слова не очень похвальный. Оно указывает в основном на профессию индивида и мало соотносится с какой-то конкретной социальной средой. Надо дождаться конца X века, чтобы под актами стали множиться подписи milites. В Маконне, как отмечает Ж. Дюби, между 970 и 1000 гг. milites упоминаются почти в 20% актов[415]. Некоторые из этих актов – дарственные, позволяющие нам догадываться о социальном положении этих milites. Многие владеют аллодами и поэтому легко могут их отчуждать, не отдавая никому в этом отчета. Так, в сборнике хартий аббатства Сен-Пер за 954 г. записано, что некий Жирар, miles, и трое его братьев, ни о занятии, ни о положении которых не сообщается, передали в дар аббатству аллод, полученный ими в наследство от родственников[416]. В том же году, на этот раз в Клюни, miles по имени Эброн также дарит один из своих аллодов аббатству[417]. Акт о восстановлении монастыря Сен-Мишель в Тоннере за 980 год скреплен подписями священников, аббатов, дьяконов, иподьяконов и пресвитеров, а также мирян: графа и его /ш'/es'a, что, видимо, указывает на определенную степень уважения[418]. Через четыре года, на этот раз в Шартре, miles по имени Тедвен передает аббатству землю посредством акта, подписанного его сеньором, графом, архиепископом и другим miles'ом[419]. Эти дарственные и подписи под ними – в новых работах приведены и другие их примеры – говорят о социальном уровне milites, по крайней мере, во Франции[420]. Можно отметить определенный подъем этого уровня в течение второй половины X века. К тому же известно, что в это время подписи простых milites в грамотах капетингских королей свидетельствуют одновременно о снижении благосклонности короля к князьям и о социальном возвышении milites из королевского окружения[421]. Но мы снова дошли до самого конца изучаемого периода, и, очень похоже, что подъем социального положения milites почти повсюду еще остается очень скромным, даже если после 865 г. можно найти упоминание об одном графе Анжуйском, который назван словом miles[422].
Заключение
В IX и X веках церковные источники чаще всего избегают слова miles для обозначения воина с почетным общественным положением, приберегая это определение для службы, смиренный характер которой и составляет ее величие – службы Богу, исполняемой монахами. Для них производные от глагола militare принимают похвальную окраску. В глазах церковных писателей служба сеньору с оружием в руках опасна для души и ее спасения, в то время как служба Господу мечом слова Божия – напротив, дело в высшей степени почтенное. То есть miles в эту эпоху и еще долгое время после – прежде всего слуга, и словом militia называют скорее службу, нежели армию, а глагол militare означает, прежде всего, «выполнять функцию, нести нагрузку, занимать должность», словом, «militer»[423] (активно работать в пользу чего-либо (срр)). Таким образом, по всем этим причинам составители текстов часто воздерживались от употребления слова miles как слишком уничижительного для королей и князей, имеющего слишком явный оттенок «службы», предпочитая называть им единственных служителей, считавшихся в то время достойными восхищения, – монахов. Именно так, напомним, излагал в 458 г ситуацию папа Лев Великий, признавая, конечно, гражданскую службу приемлемой и брак – почтенным, но утверждая, что на земле есть много лучшая служба – служба Богу. А значит, отказ от своих обетов – моральный проступок, ибо при этом человек спускается вниз по иерархии ценностей[424]. Так что, желая упомянуть воина с высоким общественным положением, обычно слова miles избегают. При этом предпочитают слова pugnator, vir belhcosus, agonisiayi особенно bellatoi. Действительно, все эти термины гораздо реже использовали для обозначения отрядов воинов-профессионалов, чем для их начальников, для тех, кто ими командовал и вел их в бой. Такая картина сохраняется до конца IX в и даже, не столь однозначно, до начала X в, когда начался подъем значения и функции miles'a.[425]
Раздел III
Рост…
Глава седьмая
Королевская этика и обязанности Milites на рубеже тысячелетий
Один из главных этапов эволюции, приведшей к формированию рыцарства и образованию его идеологии, приходится, по нашему мнению, на рубеж X и XI веков. Именно в это время легче всего заметить идеологический сговор двух комплексов сил: с одной стороны, новых феодальных сил, осознавших возможность освободиться от опеки optimates, прежде всего короля, с другой – новых сил монашества, объединившихся ради освобождения от опеки епископов. С этой точки зрения, как хорошо показал Жорж Дюби, тридцатые годы одиннадцатого века знаменуют исторический перелом, по крайней мере во Франции. Защитники прежнего порядка вещей, которые, как Адальберон и Жерар Камбрейский, стоят за общество под управлением королей, которыми в свою очередь руководят епископы, – выглядят уже ностальгирующими по пройденному этапу истории. На положение primates мало-помалу начинают покушаться как раз те, кому было поручено служить его опорой. На авансцену постепенно выходят milites – как светские, так и монастырские. Они все лучше и лучше различимы в источниках, которые, впрочем, в большинстве своем теперь монастырского происхождения.
Место воинов – мы пока не можем перевести milites как «рыцари» – в идеологических заботах духовенства того времени еще остается весьма скромным. Но оно расширяется. И, прежде всего, место тех воинов, которые, сражаясь верхом, имеют тем самым некое превосходство над общей массой. Вассальные обязательства, с которыми нас знакомит Фульберт Шартрский в своем знаменитом послании герцогу Гильому V Аквитанскому в 1021 г., выдвигают на первый план военный аспект. Так, вассал не имеет права ранить сеньора или физически нападать на него, наносить ему ущерб, выдавая военные тайны или сдавая укрепленные замки, присваивать его судебные права, уменьшать его владения. Но к этим обязательствам негативного характера добавляются виды долга, которые Фульберт резюмирует в двух словах: совет и помощь. Совет – потому что коллективная круговая порука и стадный менталитет того времени не допускали, чтобы один человек брал на себя ответственность или шел на необдуманный риск. Это считалось гордыней. Поэтому сеньор нуждался в мнении и даже одобрении его «людей», тем более что они понадобятся ему для выполнения принятого сообща решения. Помощь – в то время под этим понималась прежде всего военная помощь сеньору в установлении порядка на землях, которые он эксплуатирует и жителей которых он обязался защищать. Он должен защищать их от зачинщиков беспорядков, от всевозможных воров, грабителей, разбойников, но прежде всего – от других seniores, других военачальников, своих соседей.[426]
Ведь на этом рубеже веков главные виновники бесчинств и грабежей в западной части Европы – это уже не норманны, осевшие с 911 г. на территории, которая получит название в их честь; теперь они грабят только Англию, особенно с 991 г., когда ежегодные набеги датчан начали предавать ее огню и мечу. И не венгры, окончательно разбитые в 955 г. при Лехфельде Отгоном I и отныне ограничившие свои воинские притязания захватом земель за Эльбой; и не сарацины, вытесненные из Прованса в 972 г. и уже не отваживавшиеся соваться дальше Южной и Центральной Италии. Главные опасности теперь коренятся внутри самого христианского мира: это «христианские» воины, сражающиеся между собой за преобладание своего сеньора над соседним, тем самым угрожая и самой идее угодного Богу порядка. «Христианские» еретики, тоже борющиеся против установленного порядка – за право верить по-своему и, прежде всего, обходиться без посредничества клира в сношениях с Богом; и, может быть, хотя это мало заметно, «христианские» крестьяне, с которыми часто слишком плохо обходятся и которые требуют большей справедливости, если не большего социального равенства.
Перед лицом этих трех опасностей надо было создать для общества идеологическую схему, которая бы зафиксировала роль и обязанности каждого его члена:
– Пусть воины сражаются, но не как угодно, не когда угодно и не с кем угодно. В это время начнутся установления «мира», которые поставят пределы военной деятельности и тем самым превратят воинов в некое сословие, которым они прежде не были.
– Пусть монахи молятся, а миряне не занимаются делами, находящимися в ведении церкви. Клирики благодаря запрету на брак образуют сословие, отдельное от прочих, не запятнанное неизгладимой скверной сексуальных сношений. Использование сакрального языка – латыни – все более изолирует их от масс народа, которые говорят на местных говорах и диалектах, понемногу унифицирующихся по регионам.
– Пусть, наконец, крестьяне трудятся в поте лица своего, ибо так угодно Богу. Их деятельность полезна, необходима. Почтенна, но имеет сугубо подчиненный характер.
I. В Англии: Элъфрик и Вульфстан
Такова схема, которую в Англии Этельреда II предлагает грамматик Эльфрик. Времена здесь беспокойные, ведь грабительские набеги датчан повторяются снова и снова.
Эти грабежи возобновились и обрели больший размах после долгого периода мира. Спасение теперь можно обрести лишь в Боге, который поможет людям, если они будут выполнять все свои обязанности. Вспоминая, что век назад король Альфред Великий уже выдвинул этот принцип: чтобы король хорошо выполнял свою роль, у него должны быть люди молитвы, войны и труда[427], Эльфрик в 995 г. в рассуждении после проповеди, посвященной Маккавеям – царям-воинам, которым тоже приходилось бороться с захватчиком, ставит вопрос: Qui siint oratores, laboratores, bellatores (Кто такие молящиеся, трудящиеся, воюющие?)[428]? Он ставит его по-латыни, но отвечает на англосаксонском, тем не менее, сохраняя латинские названия всех трех функций. Потому ли, что эти путинские слова связаны с общественными реалиями, для которых не хватает обиходного языка? Мы бы с удовольствием приняли объяснение такого рода, которым далее попытаемся оправдать другой термин Эльфрика – miles. Но наличие этих отдельных латинских слов в англосаксонском тексте может отражать и тот факт, что трехчастное разделение христианского общества – учебная модель, ученое рассуждение, идеологическое построение, «ярлык» на общественной реальности, которая соответствует ей не полностью. Для нас здесь важно именно идеологическое содержание рассуждений.
Совершенно ясно: для священника-монаха Эльфрика в основе всего – Inboratores. Это «те, кто своим трудом дает нам возможность выжить. Oratores – это те, кто ходатайствует за нас перед Богом; bellatores – это те, кто защищает наши города и охраняет нашу землю от войска захватчика».[429]
У каждого сословия своя функция, свои обязанности: земледелец должен работать, солдат – сражаться, служитель Бога – молиться за остальных и вести духовную битву с невидимыми врагами. А ведь последняя, и в этом кульминация рассуждения, важнее, чем битвы bellatores. Значит, монахи не должны оставлять службу Господу «ради мирских сражений, которые их никоим образом не касаются» – это было бы «прискорбно»[430]. И Эльфрик пространно развивает эту идею о превосходстве монахов: они подчиняются бенедиктинскому уставу, отрекаются от мира и, стало быть, должны подражать Петру, которому Иисус велел вложить меч в ножны, а также всем мученикам, которые предпочли умереть, чем запятнать себя участием в войне, предпочли потерять свою жизнь, чем загубить хоть малую пташку.
Здесь перечислены три функции, но оценка двух мирских, пусть даже они необходимы – особенно в беспокойные времена, когда жил Эльфрик, – почти не повышается. В сословие, которое интересует здесь нас, bellatores (куда входят все воины, включая неназванных rnilites), могут стремиться некоторые воинственные клирики, но, тем не менее, оно остается низшим по отношению к монахам – из-за земного характера его битв. Покинуть духовный бой ради земного, даже в те опасные времена, для монахов означало бы пасть, прогневить Бога.[431]
Некоторое время спустя, в 1003—1005 гг., Эльфрик пишет архиепископу Вульфстану, на этот раз на латыни – языке клириков, чтобы вновь отметить: монахам и клирикам следует воздерживаться от применения оружия. Его доказательство снова основывается на существовании в человеческом обществе трех групп. Он говорит: в церкви Божьей есть три ordincs – laboratores, bellatores, oratores. Ordo laboratorum дает нам пищу. Ordo bellatorum должен защищать страну от вражеских вторжений. Ordo oratorum, куда входят как клирики, так и монахи с епископами, избран Богом, чтобы стать небесным воинством. Покинувший воинство Божье ради мирского был бы отступником.[432]
Значит, те, кто здесь называется здесь «молящимися», – это не только монахи, а все служители Бога, каков бы ни был их ранг. Все ведут духовную битву. Поэтому логично предположить, что и ordo bellatorum у Эльфрика включает как королей, так и князей, военачальников и их воинов. Слово miles опять не упоминается, но сравнение воинств позволяет предполагать, что эти milites есть. Эльфрик уточняет: клирик не может принадлежать к двум militiae[433].
В третьем же тексте Эльфрика, посвященном интересующей нас теме, слово miles появляется. Речь идет о комментарии, написанном ок. 1005 г. по-саксонски с целью призвать светского князя, Элдермена Сигеверда, восстановить порядок в смятенном и «выбитом из колеи» мире. Возвращаясь к схеме Альфреда Великого, Эльфрик рассчитывает, что король соберет вокруг себя всех своих людей, но посословно, чтобы каждый выполнял назначенную ему функцию. Ибо королевский трон покоится на трех опорах. Нужно найти, какая из опор треснула, и починить ее. Одну из опор составляют laboratores, от которых требуется лишь содержать остальных. Вторая, опора oratores, состоит из тех, кто предстательствует перед Богом и ведет духовную битву. Что касается bellatores, – поставленных на сей раз последними, явно чтобы указать светскому князю его место, – это те, кто защищает наши города и нашу страну силой оружия от захватчика.[434]
Простое повторение предыдущего текста? Нет! Потому что, кроме уже упомянутой перестановки, Эльфрик вводит в него и оправдание миссии bellatores. Ради этого он цитирует знаменитый библейский текст, где апостол Павел призывает христиан подчиняться властям, установленным от Бога.
Вульгата выразила эту идею, используя особо интересные термины, которые мы здесь отметим: principes страшны не для добрых дел, а для злых. Тем, кто делает добро, незачем бояться властей (potestas). Но те, кто делает зло, должны бояться его, ибо «он не напрасно носит меч (gladium): он Божий слуга (minister), отмститель (vindex) в наказание делающему злое».[435]

