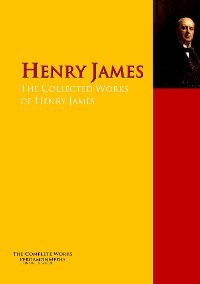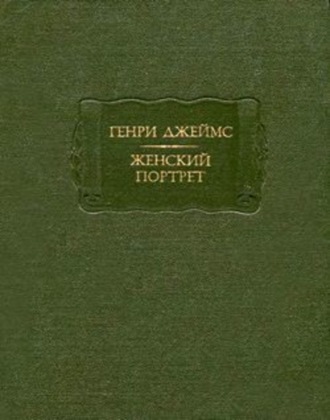 полная версия
полная версияЖенский портрет
– На сколько?
– Ну, на год, на два.
– На год или на два? Между годом и двумя – существенная разница.
– Стало быть, на два, – отрезала Изабелла с наигранной живостью.
– А что я на этом выгадаю? – спросил ее друг, не моргнув и глазом.
– Вы окажете мне большую услугу.
– А каково будет вознаграждение?
– Вы ждете вознаграждение за великодушный поступок?
– Конечно – коль скоро я иду на большую жертву.
– Великодушие всегда требует жертвы. Вы, мужчины, этого не понимаете. Принесите мне эту жертву, и вы заслужите мое восхищение.
– Что мне в вашем восхищении! Грош ему цена, ломаный грош, если вы ничем его не подтверждаете. Когда вы станете моей женой – вот единственный мой вопрос?
– Никогда! – если вы и впредь будете возбуждать во мне только такие чувства, как сегодня.
– А что я выиграю, если не буду пытаться пробудить в вас иные чувства?
– Ровно столько же, сколько надоедая мне до смерти!
Каспар Гудвуд снова опустил глаза – казалось, он весь ушел в созерцание подкладки собственной шляпы. Густая краска залила ему лицо; Изабелла видела – наконец-то его проняло. И в тот же миг он приобрел для нее интерес – классический? романтический? искупительный? – трудно сказать. Во всяком случае, «сильный человек, терзаемый болью», – категория, которая всегда взывает к участию, невзирая на всю неприглядность данного ее представителя.
Зачем вы заставляете меня говорить резкости? – сказала она прерывающимся голосом. – Я хочу быть с вами мягкой, быть доброй. Разве мне приятно убеждать человека, которому я нравлюсь, что он должен ко мне перемениться. Но, по-моему, другим тоже следует щадить мои чувства: будем же всех мерить одинаковой мерой. Я знаю, вы щадите меня, насколько можете, и у вас достаточно оснований поступать так, как вы поступаете. Но, поверьте, я на самом деле не хочу сейчас выходить замуж, даже слышать об этом не хочу. Может быть, вообще не выйду – никогда. Это мое право, и невеликодушно так донимать женщину, так приступать к ней, не считаясь с ее волей. Если я причиняю вам страдания, – могу только сказать, что мне очень жаль, но это не моя вина. Я не могу выйти замуж ради вашего удовольствия. Не скажу, что всегда буду вам другом – когда женщины в подобных обстоятельствах говорят о дружбе, это звучит как насмешка. Но испытайте меня когда-нибудь.
На протяжении этой речи Каспар Гудвуд не отрывал глаз от этикетки с именем шляпника и, после того как она кончила говорить, поднял их не сразу. Но, когда он взглянул на ее прелестное, раскрасневшееся лицо, от его намерения опровергнуть ее доводы почти ничего не осталось.
– Хорошо, я уеду, завтра же уеду. Не стану больше докучать вам, – сказал он наконец. – Только, – добавил он с болью, – страшно мне терять вас из виду.
– Не бойтесь: ничего со мною не произойдет.
– Вы выйдете замуж, непременно выйдете! – заявил Каспар Гудвуд.
– Вы считаете, вы этим мне льстите?
– А что тут такого? У вас отбоя не будет от женихов.
– Я же сказала вам – я не собираюсь замуж и почти наверное никогда не выйду.
– Сказали. Меня особенно трогает это ваше «почти наверное». Только не могу я положиться на ваши слова.
– Весьма вам признательна. Вы обвиняете меня в том, что я лгу, что просто хочу отделаться от вас? Любезные слова вы говорите.
– А как же их не говорить? Вы не даете мне никаких гарантий.
– Этого еще недоставало! Гарантии здесь вовсе не нужны.
– Сами вы, конечно, считаете, что вполне можете на себя положиться – поскольку вам этого очень хочется. Только это не так, – упорствовал молодой человек, настраиваясь, видимо, на самое худшее.
– Ну и прекрасно. Будем считать, что на меня нельзя положиться. Считайте, как вам угодно.
– Я даже не уверен, – сказал Каспар Гудвуд, – что мое присутствие сможет чему-нибудь помешать.
– Вот как? Конечно, я же вас очень боюсь! Вы полагаете, меня так легко завоевать? – вдруг спросила она, меняя тон.
– Отнюдь. И постараюсь утешиться хотя бы этим. Но в мире немало блестящих мужчин, а в данном случае достаточно одного. Они-то вас сразу и заприметят. Человеку не очень блестящему вы, разумеется, не поддадитесь.
– Ну, если под блестящим мужчиной вы изволите подразумевать того, кто блистает умом – впрочем, кого еще? – могу вас успокоить: я не нуждаюсь в умнике, который станет учить меня жить. Я сумею во всем разобраться сама.
– Разобраться, как жить одной? Что ж, когда вам это удастся, научите и меня.
Изабелла взглянула на него, и на губах ее мелькнула улыбка:
– Вот вам как раз непременно нужно жениться, – сказала она.
Можно простить Каспару Гудвуду, что в такое мгновенье совет этот показался ему чудовищным; к тому же нигде не засвидетельствовано, какие чувства побудили нашу героиню пустить такого рода стрелу. Впрочем, одно из них, несомненно, ею владело – желание, чтобы он не ходил неприкаянным.
– Да простит вам бог! – пробормотал сквозь зубы Каспар Гудвуд, отворачиваясь.
Она поняла, что неудачно выбрала тон, и, подумав немного, сочла нужным исправить ошибку. Это легче всего было сделать, поменявшись с ним ролями.
– Как вы несправедливы ко мне! – воскликнула она. – Вы судите о том, чего не знаете! Меня вовсе не так легко прельстить – я доказала это на деле.
– Мне – несомненно.
– И другим тоже. – Она помолчала. – На прошлой неделе мне сделали предложение и я отказала. Я отказалась от того, что называют блестящей партией.
– Весьма рад это слышать, – угрюмо сказал молодой человек.
– Я отказалась от предложения, которое очень многие девушки приняли бы, – оно заманчиво во всех отношениях. – Изабелла не предполагала посвящать Гудвуда в это событие, но, начав говорить, уже не могла остановиться – так приятно ей было отвести душу и оправдаться в собственных глазах. – У этого человека высокое положение, огромное состояние, и сам он очень мне нравится.
Каспар слушал с глубочайшим вниманием.
– Он – англичанин?
– Да. Английский аристократ.
Каспар встретил это известие молчанием. Потом сказал:
– Очень рад, что он получил отказ.
– Видите, у вас есть собрат по несчастью, так что вам должно быть не так обидно.
– Какой он мне собрат, – сказал Каспар мрачно.
– Почему же? Ему я отказала наотрез.
– От этого он не стал мне собратом. К тому же он – англичанин.
– Помилуйте, разве англичане не такие же люди, как мы с вами?
– Эти? Здесь? Во всяком случае, мне он чужой и до его судьбы мне дела нет.
– Вы очень ожесточены, – сказала Изабелла. – Не будем больше говорить об этом.
– Да, ожесточен. Каюсь. Виноват.
Она отвернулась от него, подошла к открытому окну, и взгляд ее погрузился в пустынный сумрак улицы, где только бледный газовый свет напоминал о городской суете. Некоторое время оба молчали; Каспар застыл у каминной полки, вперив в нее сумрачный взгляд. В сущности, она предложила ему уйти – он понимал это, но, даже рискуя стать ей ненавистным, не мог заставить себя сдвинуться с места. Она была самым заветным его желанием, он не мог отказаться от нее, он пересек океан в надежде вырвать у нее хотя бы намек на обещание. Внезапно она оторвалась от окна и вновь оказалась перед ним.
– Вы не оценили мой поступок – тот, о котором я сейчас вам рассказала. Напрасно рассказала, для вас это, видимо, мало что значит.
– Если бы вы отказали ему из-за меня]… – воскликнул молодой человек и осекся, со страхом ожидая, что сейчас она опровергнет так неожиданно пришедшую к нему счастливую мысль.
– Чуть-чуть и из-за вас, – сказала Изабелла.
– Чуть-чуть! Не понимаю. Если бы вы сколько-нибудь дорожили моими чувствами, вы не сказали бы «чуть-чуть».
Изабелла только покачала головой, словно отметая его заблуждение.
– Я отказала очень хорошему, очень благородному человеку. Вам этого мало?
– Нет, я вам признателен, – сказал Каспар Гудвуд угрюмо. – Бесконечно признателен.
– А теперь вам лучше вернуться домой.
– Позвольте мне еще раз увидеть вас.
– А нужно ли это? Вы опять будете говорить все о том же, а к чему это ведет, вы сами видите.
– Обещаю не досадить вам и словом. Изабелла помедлила, затем сказала:
– Я не сегодня-завтра возвращаюсь в Гарденкорт. А туда мне невозможно вас пригласить, я и сама там только гостья.
Теперь Гудвуд, в свою очередь, помедлил.
– Оцените и вы мой поступок, – сказал он. – Неделю назад я получил приглашение приехать в Гарденкорт, но не воспользовался им.
Изабелла не могла сдержать удивления.
– Приглашение? От кого?
– От мистера Ральфа Тачита – вашего кузена, я полагаю. А не поехал я, потому что не имел вашего согласия. Думаю, это мисс Стэкпол надоумила мистера Тачита послать мне приглашение.
– Во всяком случае, не я, – сказала Изабелла и добавила: – Нет, право, Генриетта чересчур много на себя берет.
– Не будьте к ней слишком строги: здесь замешан и я.
– Вы? Нимало. Вы же не поехали и правильно сделали, и я от души благодарна вам за это. – Она содрогнулась при мысли, что лорд Уорбертон и мистер Гудвуд могли бы столкнуться в Гарденкорте: это было бы так неприятно лорду Уорбертону!
– Куда же вы потом, после Гарденкорта? – спросил гость.
– Мы с тетушкой едем за границу – во Флоренцию и еще в разные города.
Спокойствие, с каким это было сказано, отозвалось болью в его сердце – он словно видел воочию, как светский вихрь уносит ее в недоступные ему круги. Тем не менее он не замедлил задать следующий вопрос:
– Когда же вы вернетесь в Америку?
– Не скоро, наверно. Мне очень нравится здесь.
– Вы намерены отказаться от родной страны?
– Какие глупости!
– Все равно – я потеряю вас из виду! – вырвалось у Гудвуда.
– Как знать, – отвечала Изабелла не без значительности в тоне. – Мир, где теперь все так благоустроенно, а города так связаны между собой, стал, кажется, очень мал.
– Но для меня он, увы, необозримо велик! – воскликнул молодой человек с таким простодушием, что, не будь наша героиня категорически против каких бы то ни было послаблений, его тон, несомненно, растрогал бы ее. Но с недавних пор она следовала твердой системе, некоей теории, исключавшей любые уступки, а посему, желая поставить все точки над i, сказала:
– Не сердитесь, но должна признаться, меня только радует возможность не быть у вас на виду. Будь вы рядом, я беспрестанно чувствовала бы, что вы наблюдаете за мной, а я не выношу, когда за мной следят, – я слишком люблю свободу. Если я действительно чем-то дорожу, – продолжала она, впадая в несколько приподнятый тон, – так это своей независимостью.
При всей высокомерности этого заявления Каспару оно понравилось, а ее заносчивый тон нимало его не отпугнул. Он всегда знал, что у нее есть крылья и потребность летать, красиво и вольно, но у него и самого был широкий размах – ив руках, и в шагах, так что он не боялся ее силы. Если она рассчитывала своей тирадой сразить его, то не попала в цель и лишь вызвала у него улыбку: на этой почве они скорее всего могли сойтись.
– Кто-кто, а я не посягаю на вашу свободу. Напротив, для меня не может быть ничего приятнее, чем видеть вас полностью независимой. Для того я и хочу жениться на вас – чтобы вы стали независимы.
– Какой прелестный софизм! – воскликнула Изабелла, даря его не менее прелестной улыбкой.
– Незамужняя женщина, тем более молодая девушка не бывает независимой. Ей слишком многого нельзя. Препятствия стоят перед ней на каждом шагу.
– Ну, все зависит от того, как она сама на это смотрит, – горячо возразила Изабелла. – Я уже не девочка и могу делать то, что считаю нужным, – я из породы независимых. Надо мной нет ни отца, ни матери, я бедна, настроена на серьезный лад и не принадлежу к тем, кого называют «хорошенькими». Мне нет нужды изображать из себя застенчивую примерную девицу – да я просто и не могу себе этого позволить. Я положила за правило судить обо всем самой: лучше уж иметь ложные суждения, чем не иметь их вовсе. Я не желаю быть овечкой в стаде – хочу сама распоряжаться собой и знать о мире и людях много больше, чем это принято сообщать молодым девушкам. – Она перевела дыхание, но Каспар Гудвуд не успел вставить и слова, как она продолжала: – Позвольте еще вот что сказать вам, мистер Гудвуд. Вы упомянули, что боитесь, как бы я не вышла замуж. Так вот, если до вас дойдут слухи, будто я намерена совершить этот шаг – о девушках их часто распространяют, вспомните, что я сказала вам о моей любви к свободе, и рискните в них усомниться.
Она говорила с такой страстной убежденностью, а глаза светились такой искренностью, что он поверил ей. И по тому, как живо он откликнулся на ее слова, можно было заключить, что у него отлегло от сердца.
– Стало быть, вы решили просто попутешествовать год-другой? Ну два года я вполне согласен ждать; можете делать все это время, что вам угодно. Так бы с самого начала и сказали. Я вовсе не жажду видеть вас примерной тихоней – я ведь и сам не из таких. Вам хочется развить свой ум? По мне вы и так достаточно умны, но если вам этого хочется – что ж, поездите по свету, посмотрите на разные страны, я буду только счастлив помочь вам всем, чем смогу.
– Вы очень великодушны, и я всегда это знала. А если вы и в самом деле хотите мне помочь – сделайте так, чтобы нас разделяли сотни миль Атлантического океана.
– Не иначе как вы задумали что-то ужасное, – заметил Каспар Гудвуд.
– Все может быть! Я хочу быть свободной, совсем свободной – пусть даже чтобы совершить что-то ужасное, коль скоро мне взбредет это на ум.
– Хорошо, – сказал он медленно. – Я возвращаюсь домой.
И он протянул ей руку, стараясь сделать вид, что вполне доволен и уверен в ней.
Однако она была уверена в нем больше, чем он в ней. Не то что бы Гудвуд и в самом деле считал ее способной сделать «что-то ужасное», но при всем желании он не мог не видеть: то упорство с каким она отстаивала свое право на выбор не сулило ему ничего хорошего. Изабелла же взяла его руку с чувством глубокого уважения; она знала, как сильно он любит ее, и ценила его благородство. Они стояли, глядя друг на друга, рука в руке, и с ее стороны это было не только привычное рукопожатие.
– И прекрасно, – сказала она ласково, почти нежно. – Вы ничего не потеряете, поступив разумно.
– Но через два года я разыщу вас, где бы вы ни были, – ответил он с присущим ему мрачным упорством.
Наша юная леди, как мы видели, не отличалась последовательностью и, услышав подобную декларацию, тотчас изменила тон.
– Помните: я ничего не обещала – ровным счетом ничего! – И уже более мягко, желая дать ему возможность спокойно уйти, добавила: – И помните: меня не так-то легко прельстить.
– Вам скоро опротивеет ваша независимость.
– Может быть, даже наверное. Вот тогда я буду рада вас видеть.
Положив ладонь на ручку двери, ведущей в спальню, она стояла, дожидаясь, когда гость наконец откланяется. Но Каспар не находил в себе сил уйти: его поза выражала упорное нежелание расстаться с ней, а в глазах затаилась глубокая обида.
– Мне придется оставить вас, – сказала Изабелла и, толкнув дверь, крылась в спальне.
Там было темно, но через окно из двора гостиницы, разрежая темноту, проникал слабый свет, и Изабелла различила очертания мебели, тусклый отсвет зеркала и большую, с пологом на четырех столбиках, кровать. Она стояла недвижно, вслушиваясь: наконец Каспар Гудвуд вышел из гостиной, и дверь за ним закрылась. Изабелла постояла еще немного и вдруг в неудержимом порыве опустилась возле кровати на колени и уронила голову на руки.
17
Она не молилась, она дрожала – дрожала всем телом. Ее вообще легко бросало в трепет – пожалуй, даже слишком легко, а сейчас она вся звенела, как растревоженная ударом пальцев арфа. Правда, в таких случаях достаточно было закрыть крышкой футляр, натянуть снова полотняный чехол, но Изабелле хотелось самой подавить волнение, а коленопреклоненная поза, казалось, помогала унять дрожь. Она ликовала – Гудвуд ушел, она избавилась от него и теперь испытывала такое ощущение, словно уплатила давно тяготевший над нею долг и получила заверенную по всей форме расписку. Облегчение было огромное, а между тем голова ее клонилась все ниже и ниже: сознание торжества не покидало Изабеллу, заставляя сильнее колотиться сердце и наполняя его ликованием, но она знала, что это постыдное чувство – дурное, неуместное. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем она встала с колен и вернулась в гостиную, и даже тогда ее еще всю трясло. Состояние это объяснялось двумя причинами – отчасти долгим препирательством с Каспаром Гудвудом, но в основном, боюсь, наслаждением, которое она испытала, проявив свою силу. Она уселась в то же кресло и взяла в руки ту же книгу, но не раскрыла ее даже для виду. Откинувшись на спинку, она напевала про себя что-то тихое, мелодичное, мечтательное – это был ее обычный ответ на события, добрый смысл которых не лежал на поверхности, – и не без удовлетворения думала о том, что за истекшие две недели отказала двум пламенным поклонникам. Любовь к свободе, которую она так ярко расписывала Гудвуду, носила пока для нее только умозрительный характер: до сих пор она не имела возможности проявить ее. Однако кое-что, как ей казалось, она уже совершила – испытала радость если не битвы, то по крайней мере победы и сделала первый шаг на пути к исполнению своих планов. В свете этих радужных мыслей образ мистера Гудвуда, печально бредущего по закопченному Лондону, бередил ей совесть, и, когда дверь в гостиную внезапно отворилась, она вскочила в страхе, что сейчас увидит его вновь. Но это была возвратившаяся из гостей Генриетта Стэкпол.
Мисс Стэкпол тотчас заметила, что с нашей юной леди что-то «стряслось» – правда, для такого открытия не требовалось особой проницательности. Она поспешила подойти к подруге, но та встретила ее молчанием. Разумеется, не явись мистер Гудвуд с визитом, ей не представилось бы счастливого случая отослать его в Америку – обстоятельство, которое ее очень радовало, но в то же время она ни на минуту не забывала, что Генриетта не имела права расставлять ей ловушку.
– Он был здесь? – спросила Генриетта, сгорая от нетерпения.
Изабелла отвернулась.
– Ты поступила очень дурно, – сказала она после долгого молчания.
– Я поступила наилучшим образом. Надеюсь, и ты тоже.
– Ты плохой судья. Я не могу доверять тебе, – сказала Изабелла.
Это было нелестное заявление, но Генриетта, слишком бескорыстная, чтобы думать о себе, не придала значения содержавшемуся в нем обвинению: в этих словах ее взволновало лишь то, что они раскрывали в подруге.
– Изабелла Арчер! – изрекла она, торжественно чеканя каждый слог. – Если ты выйдешь замуж за одного из этих господ, я порву с тобой навсегда.
– Прежде чем бросать такие страшные угрозы, подожди хотя бы, чтобы кто-нибудь из них сделал мне предложение, – отвечала Изабелла.
Она и прежде ни словом не обмолвилась мисс Стэкпол о признании лорда Уорбертона, а сейчас и подавно не собиралась поведать о своем отказе английскому лорду, чтобы оправдаться перед ней.
– О, за этим дело не станет, как только ты переправишься через Ла-Манш. Анни Клаймер – на что уж дурнушка – и той в Италии трижды делали предложение.
– Но если Анни Клаймер не соблазнилась, что может соблазнить меня?
– Ее вряд ли так уж добивались. А тебя будут.
– Ты очень мне льстишь, – сказала Изабелла с полной безмятежностью.
– Я не льщу тебе, Изабелла, я говорю, что есть, – возразила ей подруга. – Надеюсь, ты не собираешься сказать мне, что не оставила Каспару Гудвуду никакой надежды?
– Ас какой стати я вообще должна тебе что-то говорить? Я же сказала, что не могу тебе доверять. Но раз ты так интересуешься мистером Гудвудом, не скрою – он немедля возвращается в Америку.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что прогнала его! – почти крикнула Генриетта.
– Я попросила его оставить меня в покое. И о том же прошу тебя, Генриетта.
В глазах мисс Стэкпол отразилось глубокое разочарование, но уже в следующее мгновение она подошла к висевшему над камином зеркалу и сняла шляпку.
– Надеюсь, ты осталась довольна обедом? – спросила Изабелла.
Но пустые любезности не могли сбить Генриетту Стэкпол.
– Да знаешь ли ты, куда ты идешь, Изабелла Арчер?
– В настоящую минуту – спать, – сказала Изабелла, не меняя тона.
– Да знаешь ли ты, куда тебя несет? – не унималась Генриетта, простирая руки, хотя и не без оглядки на шляпку.
– Нет, не знаю и не желаю знать. Экипаж, запряженный четверкой резвых коней, которые мчатся ночью по незримым дорогам, – вот мое представление о счастье.
– Уж, конечно, не мистер Гудвуд научил тебя говорить так, словно ты героиня безнравственного романа, – сказала мисс Стэкпол. – Тебя несет прямо в пропасть!
Хотя Изабеллу коробило от подобной бесцеремонности, все же она на минуту задумалась, нет ли в тираде подруги крупицы правды, но, не найдя ни одной, сказала:
– Ты, наверно, очень привязана ко мне, Генриетта, если позволяешь себе так нападать на меня.
– Да, я по-настоящему люблю тебя, Изабелла! – воскликнула Генриетта с глубоким чувством.
– Ну, если ты по-настоящему любишь меня, дай мне быть по-настоящему свободной. Я уже просила об этом мистера Гудвуда, а теперь прошу тебя.
– Смотри, эта свобода может плохо для тебя кончиться.
– Мистер Гудвуд уже пугал меня. Но я ответила, что готова рискнуть.
– Ты рискуешь стать искательницей приключений! Я просто в ужасе от тебя! – возопила Генриетта. – Когда мистер Гудвуд уезжает в Америку?
– Не знаю – он мне не сказал.
– Вернее, ты не поинтересовалась, – сказала Генриетта не без справедливой иронии.
– Я так мало порадовала его, что, по справедливости, не сочла себя вправе задавать ему вопросы.
Мисс Стэкпол просто подмывало прокомментировать эту реплику, но она сдержалась.
– Ну, Изабелла! – воскликнула она. – Не знай я тебя, я решила бы, что ты бессердечна.
– Смотри, – ответила Изабелла, – ты меня испортишь.
– Боюсь, я уже тебя испортила! Надеюсь, – добавила мисс Стэкпол, – что на обратном пути он хотя бы встретится с Анни Клаймер!
На следующее утро она сообщила Изабелле, что решила не возвращаться в Гарденкорт (двери которого, по словам мистера Тачита, будут по-прежнему перед нею открыты), а дождаться в Лондоне обещанного мистером Бентлингом приглашения от его сестры, леди Пензл. Мисс Стэкпол, не скупясь на подробности, пересказала состоявшийся между нею и общительным другом мистера Тачита разговор и заявила, что уверена – наконец-то заполучила то, из чего можно хоть что-то извлечь. Она немедленно отправится в Бедфордшир, как только получит от леди Пензл письмо – поступление сего документа мистер Бентлинг, можно сказать, гарантировал, – и, если Изабеллу интересуют ее впечатления, она, безусловно, найдет их на страницах «Интервьюера». Уж на этот раз Генриетте удастся познакомиться с частной жизнью англичан.
– Да знаешь ли ты, Генриетта Стэкпол, куда тебя несет? – спросила Изабелла, в точности повторяя интонацию, с которой ее подруга произнесла ту же фразу вчера.
– Еще бы. На высокий пост. На пост Королевы американской прессы. Я не я буду, если все наши газеты не перепечатают мое следующее письмо.
Она договорилась пойти с мисс Клаймер – с той самой молодой особой, которая была взыскана таким вниманием в Европе, а теперь покидала восточное полушарие, где ее по крайней мере оценили по заслугам, – за прощальными покупками и, не мешкая, отбыла на Джермин-стрит. Не успела она уйти, как слуга доложил о Ральфе Тачите, и, едва тот вошел, Изабелла по выражению его лица догадалась, что он чем-то удручен. Ральф почти сразу объяснил кузине, в чем дело: от матери пришла телеграмма, сообщавшая, что с отцом приключился тяжелый приступ его давнишней болезни; она крайне обеспокоена и просит Ральфа немедленно вернуться в Гарденкорт. Во всяком случае, в данных обстоятельствах любовь миссис Тачит к телеграфу не давала повода для возражений.
– Я решил первым делом снестись с сэром Мэтью Хоупом, крупнейшим лондонским врачом, – сказал Ральф. – К счастью, он оказался в городе. Он назначил мне прийти в половине первого, и я буду просить его поехать в Гарденкорт, в чем он, конечно, не откажет, – он уже не раз пользовал отца и в Лондоне, и там. Я отправлюсь скорым поездом в два сорок пять. А вы – как пожелаете – хотите, едем вместе, хотите, останьтесь здесь еще на несколько дней.
– Я, разумеется, поеду с вами, – ответила Изабелла. – Не знаю, смогу ли я быть чем-нибудь полезной дяде, но, если он болен, я хочу быть рядом с ним.
– Стало быть, вы полюбили его, – сказал Ральф, и лицо его осветилось тихой радостью. – Вы оценили его по достоинству, а это мало кто сумел сделать. Слишком он тонкий человек.