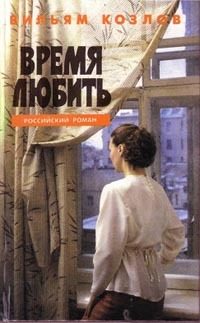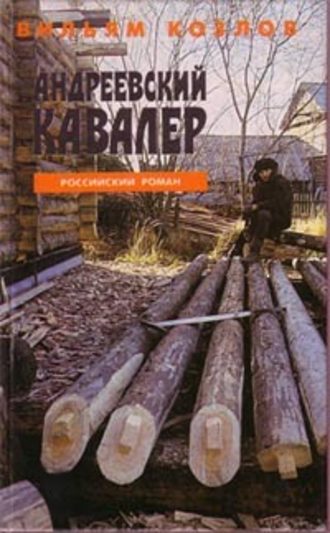 полная версия
полная версияАндреевский кавалер
Наверное, Греков с кем-то переговорил, потому что вскоре Кузнецова вызвали к генералу, который тоже много расспрашивал про базу в Андреевке. После визита к генералу Иван Васильевич поступил в ведение Грекова.
Его разыскал вернувшийся из госпиталя Петя Орехов и стал проситься в разведку. В тылу врага Иван Васильевич воочию убедился, что у Пети явные способности к этому делу. Он попросил Грекова, к которому попал в подчинение, чтобы Орехова направили в разведшколу.
Вылетел Кузнецов 28 октября 1941 года. Несмотря на все старания гитлеровцев, их наступление под Москвой приостановлено. Новым командующим Западным фронтом Ставка назначила Жукова, о нем ужо шла слава как о талантливом военачальнике.
На московское направление перебрасывались части с других фронтов, с Дальнего востока, из Средней Азии. Каждый день шли упорные бои. Кузнецов слышал от товарищей о героических боях, которме вели генералы Панфилов и Доватор, сдерживая под Москвой натиск немецких войск. За три дня до его вылета противник форсировал Рузу и захватил станцию Волоколамск. Иван Васильевич чувствовал, что назревают великие события. Вспомнился последний разговор с полковником на аэродроме.
– Ты, Иван, ни на кого зла не держи, что тебя проверяли и перепроверяли, – сказал Греков. – За все, что произошло в июне сорок первого, и на нас лежит большая вина… Мы – разведчики, а многого ведь не знали. – Помолчав, прибавил: – А если и знали, то не сумели доказать.., Плохо работали, плохо, теперь нужно каждому за десятерых! Хитры и коварны немецкие разведчики, а мы должны… обязаны их перехитрить! Это наш, Ваня, святой долг.
Не такое сейчас время было, чтобы на кого-то обижаться! Однако в чем-либо винить себя Иван Васильевич тоже не мог: служил честно, не щадил себя, не раз рисковал жизнью… Папка с документами, которую он вынес с оккупированной территории, оказалась ценной, как сообщили ему.
В Ленинград можно было попасть только на самолете, а Ивану Васильевичу очень хотелось туда! Там в его квартире осталась двоюродная сестра Анджелла… Греков по его просьбе навел справки, но ничего путного первое время не смог сообщить, мол, наши ленинградские товарищи выясняют… Почуяв неладное, Кузнецов насел на полковника и тот вынужден был сказать, что Анджелла погибла.
Смерть двоюродной сестры, приехавшей к нему перед самой войной, лишила Ивана Васильевича последнего близкого человека, хотя он знал о ленинградской блокаде, обстреле дальнобойными орудиями города, о начинающемся голоде и сколько за эти страшные месяцы было смертей, но гибель сестры как-то не укладывалась в сознании. Она хотела уехать в Таганрог к отцу, но он уговорил ее остаться до осени. Анджелле было всего тридцать лет.. К тому, что и он в любой момент может погибнуть, Кузнецов давно уже приучил себя. Вернее, вообще не думал о смерти. Этому он научился еще там, в Испании. Да и вся его работа была связана с риском. Разве враги не стреляли в него и в мирное время?..
Мысли с сестры перескочили на Тоню Абросимову. Где теперь она? Жива ли? И что с детьми? Почему-то лицо дочери Гали забылось, а вот Вадим так и стоял перед глазами.
Ич кабины управления вышел штурман в кожаной куртке и меховых унтах. В салоне легкого транспортного самолета было довольно прохладно, Кузнецов поежился в стеганой телогрейке, под которой был толстый шерстяной свитер. Он понял, что пора. Улыбающийся штурман похлопал его по плечу, прокричал: «Ни пуха ни пера!»
Иван Васильевич, как водится, послал его к черту и привычно шагнул в ревущую черную тьму. Сильный рывок, затем негромкий хлопок, и он один на один с темнотой. В буквальном смысле между небом и землей!
Покачиваясь на стропах парашюта в чуть разбавленной светом далеких звезд ночи, он еще какое-то время слышал удаляющийся гул двухмоторного самолета, а потом со всех сторон обступила тишина. Скоро глаза привыкли к сумраку, и внизу тускло блеснула неширокая полоска реки – надо полагать, Шлемовка, обозначились мшистыми мягкими холмами лесные массивы. Сверху казалось, приземлишься в них, будто в пух, на самом же деле мало удовольствия угодить на кроны деревьев. Днем, подтягивая стропы, можно было бы выбрать полянку, а сейчас приходилось уповать только на собственное везение. Ни одного огонька внизу, никто не встречает его и не ждет здесь. Иван Васильевич надеялся, что штурман точно рассчитал место приземления. Пойма Шлемовки в десяти километрах от станции. Тут ни одной живой души нет. Обе деревни жмутся к железной дороге. Главное – не спикировать на макушки сосен или в холодную октябрьскую воду.
Ему повезло – он приземлился в болотину с густыми зарослями камыша, ноги увязли в грязи, но воды в сапоги не зачерпнул. Ветра не было, и парашют спокойно погасился рядом. Иван Васильевич выбрался из пружинящей болотины на твердую землю, сложил парашют, связал его стропами и оттащил к видневшемуся неподалеку березняку. Разбросав ногами опавшую листву и податливый мох, он положил в углубление парашют, а сверху накидал ветки и только после этого присел на влажный пень.
Было тихо, звезды над головой испускали голубоватый холодный свет, над луговиной неподалеку стлался густой туман, в котором пряталась речка. Удивительно после всего, что происходило с ним за последнее время, после суеты, разговоров, людей, вдруг оказаться одному в совершенно безмолвном мире. Он никогда не был охотником, но, наверное, то же самое чувствует человек с ружьем, оторвавшийся от шумного города и оказавшийся в глухой чащобе. Но охотник знает, что рано или поздно он, отдохнувший и обновленный, снова вернется домой, а Иван Васильевич и не мечтал об этом, да и дома у него больше не было.
Выглянувшая луна посеребрила листья на березах, будто бы приподняла туман над рекой, засветилась узкая темная полоска воды. Папироса выскользнула из пальцев Кузнецова, он машинально нагнулся за ней, и его рука утонула в пружинящей мякоти высокой кочки. Он нагнулся и долго смотрел на бело-розовые ягоды клюквы. Одну сорвал и положил в рот. От твердой кислой ягоды свело челюсти. Вкус недозрелой клюквы вызвал в памяти мирные дни, семейные походы на болота за клюквой – она созревала с началом заморозков. Больше всех набирала ягод Ефимья Андреевна, не отставала от нее Тоня. Вадим и Галя тоже ходили с ними. Однажды на краю болота, в ельнике, они увидели громадного лося…
Страшно подумать, все эти знакомые, не раз исхоженные места стали чужой, вражеской территорией! И ему, Кузнецову, придется тайком пробираться к дому, где он жил, прятаться от людей, все время быть начеку…
Сняв с предохранителя пистолет, он снова засунул его во внутренний карман ватника, перешагнул через кочку и зашагал по пружинящему болоту к станции Шлемово.
2
Вадим и Павел шагали по лесной дороге. Услышав впереди скрип телеги, они переглянулись, не сговариваясь, метнулись в чащу и укрылись за стволами сосен. На повозке, запряженной белой с серым лошадью, ехал старик в зеленом, порванном на плече ватнике. За его спиной раскорячился железный, с блестящим лемехом плуг. Мальчишки проводили взглядом повозку до повертки. Наверное, лошадь почуяла их, потому что пофыркивала и косила большим глазом в их сторону. Старик, казалось, дремал с вожжами в руке.
– Чего в лес шарахнулся? – покосился Павел на приятеля.
– А вдруг это полицай?
– Полицай с плугом? – усмехнулся Павел. – Я таких не видел.
– Что нам сказал дядя Митя? Быть осторожными… Слушай, а какое сегодня число? – вдруг остановился Вадим.
– Третье ноября… А что?
– Да так, ничего, – ответил Вадим. – Мне сегодня десять лет.
– Хм, это… поздравляю, – промямлил приятель. – . Мне весной было десять, а я и не заметил.
– В прошлом году в Великополь третьего ноября пришла посылка из Ленинграда, – вспомнил Вадим. – Отец прислал мне книги и шоколадных конфет… Я всех из нашего дома угостил и еще на завтра осталось.
– А мне ничего не дарили, – уронил Павел.
Они свернули на узкую травяную тропинку, ведшую на Утиное озеро. Стоило подуть даже легкому ветру, как с берез и осин срывались стаи листьев. В солнечном свете они казались выкованными из меди, вот только не звенели. Некоторые были так красивы, что жалко было на них наступать.
Мальчишки не видели, как, переходя от дерева к дереву, за ними крался высокий человек. Когда ребята спрятались за соснами, он тоже укрылся. По лесу человек шагал осторожно, ни один сучок не треснул под его сапогом. Из двух мальчишек тот, что повыше, был явно осторожнее, он чаще оглядывался, один раз человек едва успел спрятаться за осиновый ствол: мальчишка внезапно повернул голову и внимательно посмотрел в его сторону, но ничего подозрительного не заметил. Иногда человек приближался совсем близко к ребятам и тогда слышал их разговор.
– Ходит к вам краснорожий Ганс? – спрашивал Вадим.
– Были бы у меня патроны, я бы его кокнул…
– Стоит ли из-за одного фрица жизнью рисковать? – рассудительно говорил Вадим. – Вот если бы поджечь комендатуру или гранатой взорвать… И полицаев заодно. Вчера Ленька Супронович мне ни за что пендаля врезал, сволочь!
– Копченый и Лисица пришли на двор к Широковым, увели корову, тетя Маня воет, Иван ухватил буренку за хвост, так они его жердью от изгороди избили, чуть живой отлеживается на печи… Матка его бегала к Сове за травами.
Перед ними открывался вид на озеро с небольшим камышовым островком. Павел кепкой зачерпнул прозрачной воды, по очереди попили. Слышно было, как крупные капли падали в воду, щелкали по листьям, скопившимся у берега. Мальчишки, оглядевшись, прислушались, потом пошли вдоль берега в глубь молодого, тонконогого березняка. Человек двинулся за ними. Скоро они приблизились к землянке, замаскированной лапником. Вадим поднял толстый сук и негромко постучал по огромной ели, до половины укрывавшей землянку. Из высокого камыша выбрался с удочкой Дмитрий Андреевич Абросимов, Был он в коротком суконном пальто, высоких болотных сапогах, на голове – выгоревшая кепка. Крепкие щеки заросли черной щетиной. Увидев мальчишек, он приветливо заулыбался, закивал.
– Чего мы тебе, батя, принесли-то! – помягчев лицом, сказал Павел и опрокинул содержимое корзинки на траву – из-за клюквы вывалилась синеватая ощипанная тушка курицы. Высыпал ягоды и Вадим, под ними оказалась картошка.
– Ну, ребята, – сказал Дмитрий Андреевич, – устроим царский пир!
– Надеюсь, и меня примете в свою компанию? – выходя из-за березы, сказал Иван Васильевич.
3
Они вдвоем сидели у небольшого прогоревшего костра, прихлебывая из алюминиевых кружек крепко заваренный чай. Солнце совсем низко склонилось к озеру, отчего спокойная вода полиловела, а небо стало розовым, с зеленой полоской чуть повыше вершин деревьев. Слышно было, как за вытянутым островком полощутся утки, ударяет в осоке щука,
– Нам, Ваня, с сыновьями здорово повезло, – заметил Дмитрий Андреевич. – Не знаю, что бы делал тут без них!
– Так-то оно так, Дмитрий, но конспираторы из них, прямо скажем, хреновые, – заметил Иван Васильевич. – Я ведь шел за ними, почти от самого клуба – твой Павел хоть нет-нет да оглянется, а мой Вадька чешет по лесу, как по Невскому проспекту!
– Научатся! – сказал Дмитрий Андреевич.
– А стоит ли их всем этим премудростям учить? – раздумчиво заметил Кузнецов. – Для них это сейчас вроде игры, а случись что – расплачиваться придется, как взрослым.
Они уже переговорили о многом. Дмитрий рассказал, как он в Туле добился, чтобы его признали годным к военной службе. Военкомат направил его старшим политруком в стрелковую часть. Был под Великополем, потом его рота оказалась в окружении, а затем – плен. Ночью вместе с двумя другими командирами сделали подкоп под ригой, в которой их заперли.
– А ты как сюда попал? – полюбопытствовал Дмитрий Андреевич, – Тоже из окружения?
– К тебе меня мальчишки привели, – улыбнулся Иван Васильевич. – А будь бы на моем месте враг?
– Ты не ответил на мой вопрос. Откуда ты? С неба свалился?
– Слышал что-либо про базу? – спросил Кузнецов.
– Что-то строят там, гонят в военный городок пленных, отец говорил, что на базовскую ветку частенько маневровый толкает нагруженные чем-то вагоны и платформы. И охрана там сильная. Но что там делают, никто пока не знает.
– Узнаем, – заметил Иван Васильевич.
– Теперь понятно, зачем ты здесь, – сказал Дмитрий Андреевич.
– Ну а раз и ты здесь, то нам, двум бывшим родственникам, сам бог велел объединиться!
– Мне нужно пробираться к фронту, – сказал Дмитрий Андреевич. – Повезет – попаду к своим… Ты ведь понимаешь, если меня схватят здесь, то не пощадят отца и мать. Я и так уже тут задержался. Вот и мальчишки рискуют…
– Бить фашистов, Дмитрий, можно и здесь, – заметил Кузнецов.
– Вдвоем с тобой? – усмехнулся Дмитрий.
– А это уж от нас зависит – быть нам вдвоем или организовать отряд…
– И первым делом сыновей в него запишем.
– Они ничего не должны знать, – сказал Кузнецов. – Еще не хватало ребятишек в войну втягивать.
– Война сама их втянула, – возразил Дмитрий Андреевич. – Не знаю, как Вадик, а Павел – одна ненависть: к фашистам, отчиму и даже к матери…
– Рослый, в вашу, абросимовскую породу.
– Хотел пришить из винтовки Ганса, ну который к Александре ходит, да я запретил, – сказал Дмитрий Андреевич.
– А ведь я не верил Шмелеву, или как там его зовут на самом деле? – сказал Иван Васильевич. – Документы у него, правда, в порядке, но нутром чувствовал, что он не наш, чужой…
– Скоро, наверное, объявится в Андреевке, – проговорил Дмитрий Андреевич. – Ленька Александре от него письмо принес, вещевой мешок с продуктами… Павел рассказал.
– Александра-то какова, а? – посмотрел на Дмитрия Кузнецов. – Может, помогала ему?
– Не думаю, – помрачнев, ответил Дмитрий Андреевич. – Она могла ничего и не знать…
– Ну-ну, защищай… А Ганс этот?
– – Ганс силой к ней ворвался… Александра – тяжелый человек, собственница, но не враг, – твердо сказал Дмитрий Андреевич.
– Как воспримет Шмелев известие, что его жена сожительствует с немцем? – сказал Кузнецов.
– Пристрелит Ганса и прибежит к нам в лес, – усмехнулся Абросимов. – Куда ему еще деваться?
– Ладно, хватит темнить, Дмитрий! – сказал Кузнецов. – Ты прав, я здесь не случайно… Мы должны с тобой организовать партизанский отряд, наверняка в наших лесах бродят оказавшиеся в тылу красноармейцы. Многие из окружения в одиночку и группами пробираются к своим. Сколько может нынешняя осень нас баловать? Ноябрь, а еще крепких морозов не было. Высыпет снег – труднее будет собирать людей, да и зимой мало кто в лесу выдержит…
– Отец говорил, что через Андреевку немцы гонят к себе в тыл пленных красноармейцев, часть отправляют прямо со станции, – сообщил Абросимов.
– А ты говоришь, вдвоем будем воевать! – сказал Кузнецов. – Можно напасть и на колонну с военнопленными, можно и путь разобрать перед эшелоном.
– Вряд ли мы вдвоем с тобой что-нибудь сделаем, – возразил Дмитрий Андреевич.
– Но с чего-то, надо начинать? Как говорится, под лежачий камень и вода не течет… Ты хоть в курсе, что там, в Андреевке?
– А что там – старики да женщины с детьми, а молодые, вроде Леньки, Копченого, Лисицына, Кости Добрынина, работают на фрицев.
– А Семен?
– В батькином казино.
– Надо повидаться с ним, он ведь твой шурин. И потом, Семен – не чета Леньке. Надо его, Дмитрий, прощупать… Сначала через Варвару, что ли?
– Да, тут еще Николай Михалев, – вспомнил Дмитрий. – Этот спит и видит Леньку Супроновича в гробу! У того старые шашни тянутся с его женой, Любой… И Архип Блинов здесь.
– Он беспартийный, а немцы таких охотно используют в своих целях… – задумчиво проговорил Кузнецов. – Людей мы наберем. Не сразу, конечно, для этого понадобится время.
Но умолчал о том, что Блинов оставлен в Андреевке по особому распоряжению.
– Как ни крути, а без ребятишек нам не обойтись, – вздохнул Дмитрий. – Соваться в Андреевку не стоит, слишком большой риск. А ты ведь был в поселке, встречался с кем-нибудь?
– Того, с кем я там встречался, никто не должен знать, – ответил Кузнецов. – Даже ты, Дмитрий. Пока это единственная для меня зацепка. А чем Андрей Иванович занимается?
– Все тем же – путевой обходчик, – ответил Дмитрий Андреевич. – Сидит в будке и…
– …эшелоны считает, – подхватил Иван Васильевич. – А ты знаешь, Дмитрий, это великолепно! Неужели он не заметил, что немцы привозят на базу?
– Ты сам с ним поговори…
– Пока никто не должен знать, что я тут, – нахмурился Иван Васильевич. – Даже он. Я ребят предупредил, чтобы молчали.
– Значит, с сегодняшнего дня я поступаю в твое распоряжение? – сказал Дмитрий Андреевич. – Ты, наверное, уже полковник?
– Капитан я, Дмитрий.
– Что же так медленно растешь? – подковырнул Абросимов. – Дерюгин и тот тебя обскакал.
Костер подернулся серой пленкой пепла, крупная рыба всплескивала на воде. На вечернем небе появилась пока единственная яркая звезда.
– Я все же пойду, – поднялся Дмитрий Андреевич. – Нынче в ночь заступает на дежурство отец. Мы договорились повидаться. Может, через него Семена вызову…
– Пойдем вместе, – поднялся Иван Васильевич. – Какой нынче день-то?
– Суббота.
– То-то все тело просится в баню… – улыбнулся Кузнецов. – Помнишь, как мы с тобой когда-то славно парились в баньке Андрея Ивановича? Намахаемся березовым веничком, а в предбаннике жбан с холодным кваском…
– Лучше бы не вспоминал… – проворчал Абросимов. – Я уж и забыл, когда последний раз был в бане… Пожалуй, еще до войны? А так на речке помоешься с мылом или в озере выкупаешься, пока вода была терпимой. А сегодня, поди, Ганс своего хозяина, коменданта Бергера, в нашей бане парит.
– Рискнем, Дмитрий? – На обветренном лице Кузнецова появилась мальчишеская улыбка. – Чистому и помирать-то легче.
– Ты что имеешь в виду? – удивился Абросимов, он не мог всерьез поверить, что Иван Васильевич предлагает ему пойти в баню.
– У твоего дружка Михалева баня у самого леса? – развивал свою мысль Кузнецов. – Он постоит на часах, а мы с тобой попаримся.
– Ты же только что говорил, дескать, никто не должен знать…
– Никто и не узнает, кому не положено нас узнавать… – засмеялся Кузнецов. – Но друзей-то в Андреевке мы должны навестить? Баня баней, а у меня там и еще есть кое-какие дела… Рано или поздно все равно нужно с товарищами встречаться!
Дмитрий Андреевич знал, что его бывший шурин способен на самые отчаянные поступки. Как-то в тридцатых годах Иван, тогда еще сотрудник ГПУ, на полном ходу скорого поезда спрыгнул вслед за бандитом сразу за переездом. С вывихнутым плечевым суставом догнал бандита, разоружил и привел в часть. В другой раз, во время пожара на станции, один ухитрился сдвинуть с места вагон со взрывчаткой и толкать его по запасному пути до самого шлагбаума. Даже Андрей Иванович – известный в поселке силач – не смог бы такое повторить… Местные хулиганы боялись Кузнецова больше, чем милиционера Прокофьева. Еще неизвестно, остался бы жив Дмитрий, – ведь это Иван спас его тогда от ножа…
– Ты – командир, – сказал Абросимов.
– В таком случае: вперед, политрук!
– Старший политрук, – ехидно поправил его Абросимов.
4
Рудольф Бергер с Михеевым отобрали двадцать пленных красноармейцев, которые были покрепче на вид, и Леонид Супронович тут же под конвоем должен был препроводить их на базу. Переводчик для порядка задавал им вопросы о гражданской специальности, но это особенного значения не имело: нужна была грубая рабочая сила. А уж ломом и лопатой всякий может владеть, главное, чтобы силенка была.
– Вы не интересовались, есть ли среди них коммунисты, комиссары? – спросил Бергер своего помощника.
– Я думаю, коммунистов и комсостав вылущили эсэсовцы, – ответил Михеев.
Бергер выдал справку начальнику конвоя о том, что им лично отобраны для строительства военного объекта двадцать пленных, унтер-офицер козырнул и отдал конвою команду поднять и построить остальных пленных. Пока автоматчики покрикивали: «Ком, ком! Шнель, русиш швай!» – он выяснил у коменданта, в каком населенном пункте по пути следования лучше будет переночевать. У него приказ доставить остальных пленных на перевалочный пункт, до которого еще два дня пути. Бергер посоветовал сделать остановку в Леонтьеве: там есть помещение, где можно запереть пленных на ночь.
Колонна из шестидесяти восьми оставшихся красноармейцев уныло потянулась по проселку в сторону бора. Женщины открывали калитки, выбегали на дорогу и совали бойцам сваренную в мундире картошку, краюхи хлеба, яйца. Конвойные покрикивали на них, замахивались автоматами, но делали это равнодушно, скорее, чтобы угодить рослому, с хмурым лицом начальнику с нашивками унтер-офицера. До перевалочного пункта все равно никто их кормить не будет. Пленные выглядели усталыми, повязки у раненых стали серыми от грязи, большинство было в обмотках. Некоторые шлепали босиком. У одного рука болталась на перевязи из зеленой обмотки. Они хватали подношения женщин, тут же на ходу торопливо жевали, будто боялись, что эту скудную еду могут отобрать.
Бергер и Михеев стояли у крыльца комендатуры и смотрели вслед колонне. Конвоиры с автоматами на шее курили и перебрасывались друг с другом короткими репликами, один из них изловчился и шлепнул по заду молодую женщину, которая совала в руки парням золотистые луковицы. Женщина взвизгнула, немецкие солдаты громко рассмеялись.
– Добрая русская душа, – усмехнулся Бергер. – Самим жрать нечего, а этих голодранцев подкармливают! Кстати, кто эта бабенка? – Бергер кивнул на юркнувшую в калитку стройную женщину в меховой безрукавке.
– Я выясню, господин гауптштурмфюрер, – пряча улыбку, сказал Михеев.
Невысокого роста, худощавый, с рыжеватой негустой шевелюрой и усиками под Гитлера, Рудольф Бергер был до болезненности чистоплотным, он носил в кармане алюминиевую мыльницу с душистым французским мылом. Руки он никому не подавал, а если приходилось здороваться с вышестоящим начальством, старался поскорее найти умывальник и сполоснуть ладони. Ел он всегда один, сам резал хлеб, колбасу, сыр. Садясь за стол, придирчиво рассматривал тарелки, стаканы. Наверное, брезгливость его распространялась и на женщин: два или три раза Леонид Супронович приводил к нему молодых женщин, но, немного побеседовав с ними на ломаном русском языке, Рудольф вскоре отсылал их домой. О своих подчиненных Бергер знал все, а о нем знали только, что он раньше служил в Берлине в гестапо. Была у Рудольфа еще одна странность – он любил оружие и никогда не расставался с ним. Кроме парабеллума при нем всегда был в нагрудном кармане маленький «вальтер». На стене у кровати висел заряженный автомат, который утром Ганс уносил в комендатуру и клал на тумбочку у письменного стола, чтобы был под рукой. Свое оружие Бергер чистил сам, патроны смазывал маслом, чтобы легко и бесшумно подавались из обоймы в ствол. А вот стрелял комендант почему-то редко, хотя Ганс утверждал, что он отличный стрелок и может запросто попасть в монету на расстоянии тридцати шагов.
Сергей Георгиевич Михеев был полной противоположностью своему начальнику – высокий, осанистый, с густым, зычным голосом. Подбородок с ямочкой придавал лицу переводчика добродушное выражение. Он имел офицерское звание, но предпочитал носить гражданский костюм, дескать, это помогает ему быстрее находить общий язык с русскими. Сергей Георгиевич и был чистокровным русским: маленьким мальчонкой родители увезли его во Францию, откуда его отец – кадровый военный – перебрался в Берлин, там Сергей закончил гимназию, служил на железной дороге, за два года до войны его уговорили поступить в разведшколу, а когда Германия напала на Россию, он сразу же попал на Восточный фронт переводчиком в штаб дивизии. С гауптштурмфюрером Бергером они ладили, тот усиленно изучал русский язык, интересовался фольклором, и лучшего наставника, чем Михеев, ему было бы трудно найти.
И Бергер, и Михеев еще до приезда в Андреевку знали, что здесь действовала немецкая агентура. И лишь на месте они поняли, что Андреевка не просто маленький поселок при железнодорожной станции, а наиважнейший объект, за охрану которого они теперь отвечают головой. Им же поручили отбирать для строительства и расширения бывшей советской воинской базы военнопленных. Немного позже пришло еще одно указание: усилить охрану базы. Со дня на день должна прибыть рота эсэсовцев, в распоряжение которых поступали все пленные. По опыту своей работы Рудольф знал, что ни один пленный отныне не уйдет с территории базы живым. Каждый, кто не сможет держать лопату в руках, будет уничтожен. Только таким способом сохраняется военная тайна. И Бергер был рад, что эта грязная работа – уничтожение изнуренных военнопленных – ляжет на плечи эсэсовцев.
В обязанности Бергера входило также подбирать среди русских военнопленных и местного населения людей для разведшколы, которая обосновалась в ста двадцати километрах от Андреевки, в бывшем поселке лесорубов. Раз в две недели он ездил с Михеевым на автомашине в Климово, где находился этапный лагерь военнопленных, и тщательно отбирал кандидатов. Бергер понимал, что почти каждый из них поначалу лелеял в душе мечту, попав в тыл, сдаться советским чекистам, но в школе тоже сидели не олухи. Кандидаты, отобранные Бергером, подвергались интенсивной обработке, их заставляли некоторое время попрактиковаться в тайной полевой полиции, где приходилось участвовать в облавах на партизан, пытках и расстрелах советских граждан. Только после этого тех, кто, как говорится, сжег все мосты за собой, забрасывали со шпионскими и диверсионными заданиями в тыл к коммунистам.