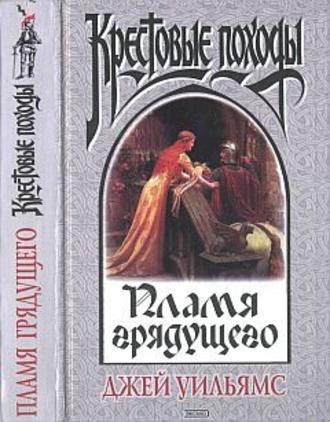 полная версия
полная версияПламя грядущего
Один из пуатевенских рыцарей сказал что-то громким, хриплым голосом. «…Десять на одного…» – успел разобрать Дени. Солдаты поворотили коней и, сбившись в кучу, галопом припустили по дороге в обратную сторону, причем один из них свесился вперед через луку седла.
– Назад, вы, грязные ублюдки! – проревел рыцарь, у которого на щите была изображена голубая звезда. Его голос сорвался от гнева. Ричард захохотал, поигрывая секирой.
В это время защитники города соединились с остатками отряда фуражиров. Объединившись, они помчались во весь опор на Ричарда и троих рыцарей. Дени по-прежнему не двигался с места, убеждая себя, что вся эта суета его не касается. В воздухе висела плотная туча пыли. Тускло сверкали клинки мечей. Громкий и страшный вопль заставил Дени содрогнуться. Кричал не человек, этот страшный звук издала лошадь. Дени увидел, как боевой конь рухнул под Ричардом. Граф вылетел из седла и покатился по дороге, но быстро вскочил на ноги, подняв щит над головой. Свою секиру он потерял.
Какой-то рыцарь направил в него копье. Он ухватился за древко и потянул противника на себя. Мгновение они боролись, потом деревянное древко сломалось с громким треском. Ричард отскочил назад, сжимая половину древка с наконечником так, словно это был короткий меч. Привязанный к древку вымпел вился вокруг его окровавленной руки.
Дени разглядел его лицо. Тень жестокой решимости покрыла чело графа. Он больше не улыбался и еще больше походил на льва.
– Сдавайся! – завопил кто-то.
– Убей его! – прокричал другой.
Дени пришпорил своего коня, больше не раздумывая. Он прорвал кольцо воинов, окруживших графа, сразил одного из нападавших, тогда как его конь сшибся с другим всадником и обратил того в бегство. Рыцари в замешательстве шарахнулись в разные стороны. Дени задержался подле графа и протянул ему руку.
– Прыгайте, – выпалил он.
В мгновение ока Ричард очутился позади него на лошади. Дени тотчас же пустил коня вскачь и понесся вверх по дороге. Ричард держался за его пояс. Враги преследовали их некоторое время, потом остановились и повернули к городу, поскольку солдаты-пуатевенцы, которые прежде бежали, теперь возвращались назад легким галопом, растянувшись вереницей по дороге и потрясая оружием.
Дени остановился, и Ричард соскользнул с конского крупа, вытирая лицо вымпелом, привязанным к обломку древка, который он все еще сжимал в руках. Он оглянулся на город и сказал горько:
– Гай, Элиа, Сентол, все взяты в плен или мертвы. И добрый конь…
Он посмотрел на своих воинов. Большинство из них с каменными лицами уставились в землю.
– Мерзавцы, – бросил он. – Но чего можно от них ждать? – Он ткнул пальцем одного из них. – Ты, дай мне своего коня.
Солдат молча спешился и держал стремя, пока его господин садился в седло. Теперь Ричард обратил свой взор на Дени. У него были пронзительные голубые глаза под красиво изогнутыми дугами бровей, глаза, обрамленные длинными ресницами. Он улыбнулся и сказал:
– Благодарю. Для рыцаря нет ничего более скверного, чем оказаться пешим. Тебе известно, кто я?
– Я узнал вас, граф де Пуату.
– Ты знатного рода?
– Это так. Мое имя – Дени из Куртбарба.
– А! Где находятся твои земли?
– Неподалеку от Сомюра, по берегам Туе.
– Ты спас мне жизнь. Я благодарен тебе. Как вышло, что ты оказался на поле боя?
– Я трувер. Я покинул этим утром Шатору, потому что для меня там было немного шумно. Я предпочитаю спокойную жизнь, монсеньор граф.
Ричард усмехнулся. Он снял с руки перстень, неотшлифованный аметист; оправленный в золото.
– В таком случае навести меня, когда в моих землях будет немного поспокойнее, трувер, – сказал он. – Я люблю музыку и поэзию. Приходи ко мне за своей наградой. Но не забудь приготовить хорошую песню.
– Не забуду, – пообещал Дени, принимая кольцо и учтиво кланяясь.
Он смотрел Ричарду вслед, когда тот удалялся в сопровождении своих воинов. Надевая на палец кольцо, он вспоминал мужественное, с резкими чертами лицо графа, острый взгляд его голубых глаз, золотистые волосы, забрызганные кровью. Он сказал себе: вот господин, служить которому не зазорно для мужчины. Но также это был человек, которого следовало остерегаться. Ибо кто отважится погладить льва?
…Именно о том случае он думал теперь, скрючившись в сундуке, пока барон Эсташ готовился ко сну. В течение нескольких прошедших лет он иногда вспоминал о Ричарде, когда во время своих странствий узнавал о нем что-то. Ричард пытался содействовать заключению договора между королем Генрихом и королем Филиппом и в награду за свои труды не получил ничего, кроме неприятностей. Довольно много сплетничали о том, что старый король отдает предпочтение младшему сыну, Джону Лэкленду[44], а не Ричарду, своему наследнику, и этот факт стал совершенно очевиден на встрече королей в Уитсантайде, когда Генрих предложил, чтобы французская принцесса Алисия, которая находилась под его опекой как нареченная невеста Ричарда, вышла бы замуж не за него, а за Джона и получила в приданое земли Плантагенетов во Франции. В результате у Ричарда не осталось иного выбора, кроме как объединиться с Филиппом против собственного отца, чтобы защитить свое наследство.
«Приходи ко мне, когда в моих землях воцарится мир», – сказал тогда Ричард. Что же, теперь спор между отцом и сыном был окончен. Во всяком случае, новости, привезенные бароном Эсташем, были верными.
Дени зевнул. В сундуке не хватало воздуха. Он услышал глухой удар, когда Эсташ швырнул в угол сапоги для верховой езды, затем до его ушей донеслись лязгание и звон – барон вешал свой меч и пояс на колышек, вбитый в стену.
– Как умер король Генрих? – приглушенно спросила Иоланда.
– Жалкой смертью, так Аймар сказал, – ответил Эсташ. – В этом кувшине осталось вино?
Барон жадно, большими глотками пил вино, производя такие звуки, словно лакала собака. Он тяжко вздыхал и сетовал.
– Боже, как я устаю от верховой езды. Я уже не тот, что был в юности, – говорил он.
Дени услышал, как заскрипела кровать, когда барон опустился на край, и легко представил волосатое брюхо, отвисшее до колен. Затем раздались сладострастные стоны и какой-то скрежет, над происхождением которого Дени ломал голову, пока не сообразил, что Эсташ с наслаждением скребет голени в тех местах, где его чулки терлись о спину лошади.
– Жалкой смертью, – повторил он, будто сама мысль об этом доставляла ему удовольствие. – В Шиноне. Он отправился туда после скверного разговора с Филиппом. Говорят, после его смерти слуги разворовали все, что было в доме, и ограбили мертвеца, так что он лежал там совершенно голый. Какой-то мальчишка набросил на него летний плащ. – Он хихикнул. – Аймар сказал, что его обычно называли Генрих Короткий Плащ, стало быть, он окончил жизнь в соответствии с прозвищем[45]. И жил в соответствии с ним. Понятно? – он фыркнул и задохнулся от смеха. – Что ж, Господь да упокоит душу этого старого черта, – продолжал он, устраиваясь в постели и ворочаясь с боку на бок. Дени показалось, что кровать вот-вот развалится.
– Во всяком случае, это положило конец нашим разговорам. Никто не знает, что случится дальше. Ричард – король Англии! Завтра я пошлю за управляющим и еще хочу созвать всех кастельянов… – сонно добавил он напоследок.
– Бедняга, – всхлипнула Иоланда; любое несчастье всегда трогало ее сердце, даже если к ней оно не имело никакого отношения. – Лежать одному и в таком виде. О Боже мой, какая ужасная смерть! – Она представила себя на его месте, покинутую и ограбленную, представила свое прелестное, брошенное на поругание мародеров тело. – Я должна сию минуту встать и помолиться за душу несчастного.
– Закрой рот, – любезно сказал ее муж. – Утром молись, о чем угодно. Дай мне немного поспать. Я два часа провел в седле.
Наступила тишина, нарушаемая время от времени едва слышными всхлипами Иоланды и редким похрапыванием Эсташа.
У Дени затекла шея. Ему удалось протиснуть одну руку под голову и осторожно размять кончиками пальцев одеревеневшие мускулы шеи. Он думал, что придется ждать еще по меньшей мере полчаса, пока барон заснет достаточно крепко, и только потом осторожно выбраться наружу. Его занимало, вправду ли Иоланда совсем забыла о нем, и весьма на это надеялся. Менее всего он желал, чтобы она принялась вздыхать и проливать слезы над ним самим в такой час и при таких забавных обстоятельствах.
Он попытался успокоиться, повторяя про себя избранные строфы.
Ричард хотел, чтобы он привез новую песню… Необходимо соблюдать осторожность в том, что касается содержания песни, написанной для короля. С баронами иметь дело довольно трудно, но графы и герцоги еще более обидчивы, а что уж говорить о королях! Сочинить элегию[46] на смерть старого Генриха? Возможно, было бы разумно вообще не упоминать о старике. «Я знаю одного короля, владения которого залиты солнцем…» Милостивый Бог, нет. Известно, что в Англии так же пасмурно и сыро, как если бы она лежала на дне Узкого моря[47]. Говорят, что в Англии день и ночь отличаются друг от друга единственно тем, что днем люди выходят на улицу под дождь, а ночью – нет. Английские петухи не кукарекают, а булькают. «Я знаю одного короля, владения которого обширны и пропитаны влагой…» Это не особенно расположит его к гостеприимству.
Он сочинял песни, и все его песни были пропитаны дождем. Все время вспоминался тот менестрель, которого он однажды встретил в промозглой харчевне. Тогда снаружи бушевало ненастье – дождь пополам со снегом. В ту зиму ему так и не удалось как следует согреться – когда лицо уже начинал обжигать огонь очага, спина застывала от холода.
Он вспомнил, как в возрасте семи лет его отослали служить пажем[48] в замок кузена отца, Раймона из Бопро. Окоченевшие пальцы, замерзший нос. Шестеро детей, свернувшихся калачиком под одной овчиной, чтобы сохранить тепло, дрожавших от холода и от тоски по родному дому. Они походили на мышек. «Мыши в амбаре. Я не должен забывать об этом», – подумал он. Голенькие мышата, устроившие теплое гнездышко и затевавшие невинные игры, чтобы не замерзнуть; они толкались, хихикали и болтали без умолку, и это помогало забыть тепло домашнего очага, белье, благоухающее лавандой, и ласковые материнские объятия. В замке сеньора Раймона было холодно, всегда холодно и всегда сыро. Сыростью тянуло из переполненных водой крепостных рвов. А дома, в Куртбарбе? Там река была более приветлива. В заводях резвились рыбы, лягушки. Там рос высокий камыш, служивший копьями в играх сыновей Аймона.
Четверо сыновей Аймона. Из всех воспоминаний это было самым приятным для него. Он лежит, зарывшись в подстилку из сухого камыша, на теплых камнях подле очага и следит, как хлопья снега мягко падают сквозь дымовое отверстие в крыше зала; он укрыт медвежьей шкурой, а нога его матери, обутая в туфельку из мягкой кожи, покоится у него на спине, порой ласково подталкивая… А менестрель, коленом придерживая свою арфу, поет песнь о четырех сыновьях Аймона.
Обычно он думал о трех своих братьях, уже покинувших родное гнездо и где-то служивших пажами. Старший, Роже, был уже достаточно взрослым, чтобы начинать учиться владению оружием.
В тот вечер у него не возникло тревожного предчувствия, что очень скоро двери родного дома захлопнутся и за его спиной и он будет отослан – учиться всему тому, что надлежало знать и уметь человеку знатного происхождения. Он знал, что когда-нибудь этот день наступит, однако о будущем у него было весьма смутное представление. Будущее не простиралось дальше завтрашнего дня, когда он станет выслеживать в лесу зайцев по следам на снегу. Менестрель, не спуская с хозяина проницательных глаз, пел об Аймоне, о том, как император Карл Великий[49] сам лично в праздник Рождества Христова посвятил в рыцари четырех высокородных братьев: Рено, Алара, Гишара и Ришара, о том, как Рено в гневе убил племянника императора шахматной доской, и о том, как Аймон, примерный вассал, предпочел стать врагом собственных сыновей, нежели предать своего сеньора. Пел он и о том, как четверо несчастных в нищенском рубище вернулись домой в Дордонь и их мать, едва признавшая их в том убогом виде, бросилась к ним, рыдая: «Рено, сын мой, не скрывай, если и вправду ты есть Рено, тогда во имя Господа, который всемогущ, признайся мне». И все, кто присутствовал в зале и внимал песне, тяжко вздохнули.
В глазах матери засверкали слезы и тихо покатились по щекам. Дени, подперев голову руками, сонно смотрел на нее и твердил про себя: «Не плачь, мама. В конце все будет хорошо, и я отправлюсь в Святую Землю. Я, Дени (он мнил в тот момент себя взрослым, не ребенком), стану святым».
Он усмехнулся. Не много святости он нашел в доме кузена Раймона. Он был мальчиком на побегушках, носился из конюшни на кухню, от псарни в спальню, всегда по чьему-нибудь приказу: «Эй, как там тебя, подержи-ка этот моток шерсти… Иди сюда, малыш, подай мне скамеечку, мою иголку, мое веретено… Стой здесь с этой чашей… Беги на кухню и принеси для ребенка хлеба, размоченного в молоке». И так до бесконечности, пока, дойдя до полного изнеможения, он не научился дремать стоя, улучив минуту и забившись в укромный уголок. Когда ему минуло восемь, он уже умел чуять сквозь сон приближение человека, готового дать ему тумака или вывести из блаженной дремоты, обременив новым поручением. «Только так ты сможешь стать настоящим рыцарем, в услужении закалив добродетель. Рыцарю надлежит быть почтительным и услужливым. Пусть Жан-крестьянин балует своих детей сейчас, они потянут плуг позже. Что касается вас, то если вы надеетесь когда-нибудь препоясаться мечом и повелевать людьми, то должны научиться властвовать собой». Так этот добрый капеллан[50] Феликс, подобно наседке, кудахтал над пажами и оруженосцами помоложе, обдавая всех сильным запахом сырого лука. Этим ароматом он пропитался насквозь, ибо истреблял луковицы, точно яблоки, ради смирения и как средство от насморка, которым он страдал с сентября по май. Dominus vobiscum. Et tibi pax[51], капеллан Феликс. Божьей милостью ты уже давно должен был превратиться в чистейший луковый сок, если от тебя вообще что-нибудь осталось.
Однако пребывание в замке имело одно неоспоримое преимущество, а именно то, что сеньор Раймон благоволил менестрелям и труверам и окружал себя ими в таком количестве, какое отец Дени ни за что бы не потерпел. С восьми лет Дени начал учиться игре на арфе и виоле и подражать стихам некоторых из гостей. А также он слышал великое множество песен, волнующих и повергающих в трепет баллад: «Песнь о Гильеме», «Песнь о Роланде», «Песнь об Уоне» и дюжины других. Каждую населял целый сонм достойных героев, в каждой обильно лилась кровь, крушились кости и вытекали мозги, а головы нехристей свистели в воздухе подобно ядрам катапульт. Гарен, вырвавший сердце своего врага собственными руками, Журден, отрезавший ухо у предателя Фромона…
Журден. Он почти полностью позабыл эту песнь. Господи, он слышал ее один-единственный раз, должно быть, в возрасте двенадцати лет и так сильно испугался, что не смог дослушать до конца и заткнул уши. Но почему? Он не помнил этого, как не помнил ни одной строчки из песни, ничего, кроме одной смутной картины – может, то был сон? – будто некто (возможно, даже и не Журден?) нанес удар мечом по шлему, изукрашенному позолотой и усеянному драгоценными камнями, и клинок скользнул так, что отрубил ухо противнику, не повредив самого шлема. Отчего это повергло его в такой ужас? Ему доводилось слышать истории и похуже. Почему именно этот сюжет произвел на него столь тягостное впечатление, посеяв в душе ядовитые ростки страха, ведь, в конце концов, это было всего лишь ухо, ухо предателя?
…Во сне он отчетливо видел сумрачный зал с высокими сводами, освещенный адскими факелами с ореолом, вроде того, какой появляется, если зажмуриться. В зале находился длинный пиршественный стол. За столом сидел Фромон, оскалив свои острые зубы и облизывая языком, подобным змеиному жалу, кроваво-красные губы. Медленно опускается меч, и его, Дени, собственные руки сжимают рукоять. Драгоценные камни – огромные карбункулы, смарагды[52], неотшлифованные алмазы, бериллы, точно застывшие капли морской воды, – брызгами разлетелись в разные стороны. Фромон, елейный толстяк, протянул ему блюдо, на котором лежали хлебный нож с закругленным концом и салфетка. Он, Дени, поднял салфетку и с отвращением отшатнулся – на блюде лежало отрезанное ухо. Он резко оттолкнул от себя тарелку. Фромон настаивал.
– Пожалуйста, возьми это, – сказал он. – Для своей же пользы. Как ты собираешься стать рыцарем, когда вырастешь?
– Я не хочу быть рыцарем, – отвечал Дени. К горлу подступали рыдания.
– Твоя мать очень рассердится, – говорил Фромон. Он взял метлу и принялся выметать из-под камыша, устилавшего пол, кровь, превратившуюся в кристаллы. Кровь звенела, точно осколки битой посуды.
Журден спрыгнул прямо с небес или с потолка, мягко приземлившись на ступни.
– Вот как надо делать, – сказал он. – И размахнуться правой рукой, вот так! – Он показал, как именно, с помощью большого деревянного меча. – Видишь? Ты бьешь негодяя под руку в тот момент, когда тот поднимает свой щит. – Он подмигнул. – Если ты верно действуешь мечом, то можешь разрубить его надвое. Это будет ему хорошим уроком. Понимаешь?
– Понимаю, – ответил Дени. – Но мое ухо, вы делаете мне больно.
И в самом деле кто-то тащил Дени за ухо, будто хотел вовсе оторвать его. Краем глаза он заметил, как его ухо исчезло в темноте. Крик ужаса и боли застрял в горле, и он захныкал, обхватив голову руками:
– Пустите. Пожалуйста, пустите.
Он пробудился ото сна в полном замешательстве, смутно припоминая, где он находится. Крышка сундука была откинута, и кто-то помогал ему выбраться. Он так долго пробыл в скрюченном положении, что все тело одеревенело. Он невольно вскрикнул, когда попытался выпрямиться.
– Тсс! – прошипел кто-то.
– Это вы, госпожа? – простонал он.
– Нет, не она, – произнес голос, принадлежавший барону Эсташу. – Ты шумел достаточно громко, чтобы разбудить и мертвого. Она может спать, невзирая ни на что, но будь я проклят, если б не проснулся сам от такой возни. Послушай, трувер, у меня был трудный день, я больше двух часов провел в седле. Убирайся отсюда к дьяволу.
– Монсеньор, я…
Эсташ сунул Дени в руки его одежду, пробормотав:
– О, Христос, мои рубашки… Вон! Я слишком устал, чтобы наказать тебя сейчас. Кроме того, все наслышаны о трубадурах… – Он сильно толкнул Дени к двери. – Что бы ты тут ни делал, не попадайся мне утром на глаза.
Прихрамывая, он поплелся назад, в постель, и захрапел еще до того, как Дени достиг последней ступени лестницы.
Глава 2
Англия
Дневник Дени из Куртбарба. Отрывок 2-й.
Седьмой день до июльских ид, 1189. В сей день я прибыл в город Сомюр, где граф Пуату содержал двор, перебравшись туда из Фонтевро, в котором был погребен его отец, король Генрих. Я размышлял о нем, пока карабкался на холм, на вершине которого стоял замок, и в моей памяти всплыли строчки прославленного плача, что был написан Бертраном де Борном на смерть короля-юноши, брата Ричарда:
Если б собрать нам все множество бед,Слез и несчастий и тяжких докук,Слышал о коих сей горестный свет,Легок сейчас оказался б их вьюк,Ибо наш юный английский корольУмер…
Едва ли кому-то придет в голову сочинить подобный плач на смерть старого короля, зато благодарственные молитвы по поводу его кончины будут возноситься многими, как если бы пала наконец некая старая крепость, бывшая разбойничьим гнездом. Со всех сторон до меня доносились слухи о милосердии Ричарда, как, например, в случае с Уильямом Маршалом, могучим воином и лучшим из рыцарей, который в прошлом выступал против него из преданности своему королю и которого он ныне легко простил и возвеличил. И еще говорили, что его щедрость не знает границ и он, в духе пословицы, подает обеими руками. Это весьма радовало мое сердце.
Однако мне предстояло еще многое преодолеть, чтобы вкусить от его щедрот. Было не так-то легко подступиться к графу (ибо именно так его продолжали величать, поскольку он еще не стал королем и не станет, пока не отправится в Англию принять корону). Готов поклясться, что все труверы, менестрели, жонглеры, певцы и танцоры, во множестве бродившие по дорогам Франции, подобно пчелиному рою устремились теперь к новой пчелиной матке, так что я не только не смог подойти к замку ближе чем на сто шагов, но первую ночь мне пришлось провести под сводами моста через Луару за неимением лучшего пристанища. Там было ужасно сыро, к тому же ночью пошел дождь, потому я укрыл арфу своим плащом, а сам сидел до рассвета, дрожа и чихая. Наутро я охрип и простился с надеждой хорошо петь, а позже в тот день граф выехал из замка со всей своей свитой и поехал по дороге в сторону Сизы. Путешествие продлилось пять дней, а затем и еще пять до Руана, и все это время я держался в хвосте этого кортежа вместе с сотней других бедолаг, питавшихся черствой коркой и надеждой.
Руан – большой и красивый город, главная часть которого расположена на северном берегу реки Сены и соединена мостом с противоположной стороной, где раскинулись красивые предместья. Там я и нашел временный приют в доме торговца. Он удовлетворился обещанием, что я буду петь ему те самые песни, которые так нравятся норманнам[53], в основном о войне. Ибо не зря говорят: «Север любит войну, а юг предпочитает жизнь». В четверг, который приходился на тринадцатый день до августовских календ, в кафедральном соборе граф Ричард принял меч и стяг герцогства Нормандского. Церемонию совершил архиепископ Руана, и присутствовавшие при сем событии пропели Jubilate[54]. Я пришел туда, желая хотя бы одним глазком взглянуть на графа Ричарда, что и сделал, когда он вышел на ступени собора, чтобы принять от своих подданных присягу на верность. Он выглядел весьма величественно в прекрасной пурпурной мантии на беличьем меху, увенчанный герцогской короной. Когда я стоял в этой огромной толпе, заполнившей всю площадь, я почувствовал, как чья-то тяжелая рука опустилась мне на плечо, и, обернувшись, узрел Понса де Капдюэйля, которого не видел целых шесть лет. Вот послушайте и узнаете, каким великим благом явилась эта случайная встреча благодаря покровительству блаженного св. Дени и вмешательству Пречистой Девы.
Мы с Понсом обнялись и, выбравшись из толчеи, направились к берегу реки, где находилось несколько винных лавок для моряков и рыбаков, живших неподалеку. Мы уселись, и после того, как оба выпили, Понс поведал мне, что недавно прибыл из Бове, где господин епископ радушно принимал его у себя около года. Но затем между ними произошла размолвка из-за каких-то пятидесяти фунтов – денег из Парижа, которые нашли прямую дорогу из кошелька епископского чиновника, ведавшего раздачей милостыни, в руки достойного бедняка. «Но, разумеется, у епископа не было причин сожалеть о столь богоугодном деянии?» – заметил я. И на это Понс ответил: «Ты справедливо рассудил, Дени, это было богоугодное дело, ибо, Господь свидетель, я не могу назвать другого бедняка, столь достойного милости, как я сам. Но епископы, как тебе известно, особенно подвержены алчности и скаредности, и я, будучи человеком великодушным, не смог более оставаться с ним, ибо клянусь спасением своей души в том, что ставлю милосердие превыше других добродетелей в священнослужителях».
Затем мы заговорили о графе Ричарде, и Понс рассказал мне, что надеялся получить кое-какую награду за песнь, которую он сложил в честь Ричарда. Именно это привело его в Руан, но теперь он увидел, какое множество трубадуров собралось здесь с той же целью, и потому решил вновь отправиться на юг, возможно, во владения графа де Сен-Жиля, и преподнести ему ту же самую песнь. Я сказал ему, что граф Раймон не питает любви к Ричарду, хотя и поклялся тому в верности. Тогда Понс ответил, что, благодарение Господу, в имени Раймон такое же число слогов, сколько и в имени Ричард, и не столь уж большой труд заменить в песне одно имя на другое. Еще он сообщил мне, что живет в доме некоего доброго человека, ткача, который был весьма польщен, что под его кровом ночует трубадур столь благородного происхождения и повсеместно прославленный, так что вовсе не возьмет с него денег, если только Понс не заставит его. Далее Понс сказал, что не уедет из Руана, пока Ричард не покинет провинцию, поскольку такое скопление рыцарей и баронов в городе непременно сулит множество развлечений – игру в кости, в мяч и турниры, приняв участие в которых мужчина вроде него вполне может добыть и деньги, и рыцарские доспехи. Ему очень нравились турниры, а так как он был высокого роста и хорошо сложен, то часто побеждал своих соперников и в качестве приза забирал их вооружение и коней. Что же касается азартных игр, то он так же любил игральные кости, как и монах свои четки. Я обещал, что навещу его завтра в его жилище, и на том мы расстались. Но прежде, когда настало время платить за выпитое вино, Понс вскричал, что – увы! – он забыл кошелек и не имеет при себе ни су. С улыбкой обняв меня, он попросил заплатить за двоих и заверил, что отблагодарит. Денег у меня не было, и потому в уплату я оставил свой кинжал с серебряной рукоятью, внутри которой находился кусочек древка одной из стрел, от которых принял мученическую смерть св. Себастьян[55], и я считал, что поступаю дурно, расставаясь с этим сокровищем таким образом.

