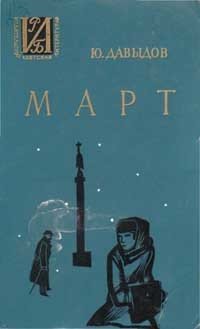полная версия
полная версияВечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...
За несколько дней до приезда в Колмово г-жи Успенской у Глеба Ив. вышло с Егоровым столкновение особого свойства. По словам последнего, он утром, как обычно, принялся за приборку, а Глеб Ив. ни с того, ни с сего замолотил по столу кулаком, ногами затопал и стал криком пенять в том смысле, что он, Егоров, природный крестьянин, из лучшего в России сословия, а он, Егоров, вместо того, чтобы крестьянствовать, землю пахать, веником шваркает и его, Успенского, ночную посудину выносит и т. д. и т. п. Ударил Глеб Ив., видать, по открытой, незаживающей ране. Егоров мне признавался, и я уверен, так бы и приключилось, признавался, что еще бы минута – и он, право, вздул бы барина-обидчика, но тут Глеб Ив., уронив голову, повинно, тоскливо молвил: «Эх, Андрей Петрович, жить бы нам с тобой не здесь, а в избе» – и заплакал. Егоров, однако, не остыл, хлопнул дверью, пришел ко мне и угрюмо попросил перевести в другое отделение, он-де ни за какие коврижки услужать г-ну Успенскому не станет. Я долго уламывал Егорова. Он наконец нехотя согласился, сказав: «В последний раз, а там хоть режьте…» Согласиться-то согласился, но держал вооруженный нейтралитет, и Глеб Ив. сокрушался: «Бойкот объявил, волком смотрит».
А сейчас «волк» бежал по дорожке, махал руками, улыбался, выкрикивал: «Лександра Васильевна приехали! Лександра Васильевна приехали!»
Приезд жены не был неожиданностью – и письмо прислала, и телеграмму, а Глеб Ив., словно бы пораженный известием, сбился с шагу, юношески зарделся и бросился в сторону больничной конторы. Я увидел, как Егоров догнал Глеба Ив., как Глеб Ив. доверчивым, детским движением взял Егорова за руку, и вот так, держась за руки, они мелькали среди вишневых деревьев, окружавших контору.
Я уступил Успенскому свою квартиру. Александра Васильевна прожила у нас три дня. Все это время я был в тревоге. Для меня не были секретом горестные переживания Глеба Ив. Он полагал, что обрек свою семью на прозябание. Его угнетало не только настоящее, но и прошлое – вечная поглощенность спешной работой и никакой заботы о домашнем очаге, о детях. Все тяготы несла Александра Васильевна. А теперь вот донашивала старые фуфайки, ходила в стоптанных туфлях, утверждая, что других ей не надо, эти в самый раз, по ноге. Глеб Ив. мучился, никакой, говорил, я не муж, не отец, а нахлебник, да к тому же нахально требующий, чтобы его навещали, о нем тревожились, ему писали. Случалось, что мученья достигали степени отчаяния, он ожесточенно бил себя по голове каким-нибудь тяжелым предметом, благо Егоров всякий раз, будто чутьем угадывая, поспевал вмешаться. Понятно, что я тревожился. Не о том лишь, как пройдет свидание, но и о том, как сойдет разлука. Правда, еще с первых оттепелей он настойчиво добивался «отпуска», хотел совершить пешее хождение по здешним весям, это, говорил, необходимо ему, надо обновиться существом, получить свежие впечатления, и тогда он возьмется, непременно возьмется за перо, напишет, как он говорил, о «великих людях земли русской», нынешних шлиссельбуржских мучениках – о Вере Фигнер, о Германе Лопатине, который, заворожив его однажды, приворожил пожизненно…
Я этот «вояж» обещал, сказать честно, не очень-то твердо и определенно: смотря, мол, «по состоянию». Но с течением времени все больше склонялся к тому, чтобы исполнить свое обещание. Стало быть, и теперешняя разлука с женой могла сойти благополучно, потому что Александра Васильевна часто живала в здешних местах, точнее, в Сябринцах, близ Чудова, а значит, во дни пешего хождения Глеб Ив. не минует Сябринцы.
Кратким прологом «вояжа» была поездка в Новгород, на станцию железной дороги. Глеб Ив. провожал Александру Васильевну; я сопровождал Глеба Ив.
Колмовское свидание протекло спокойно, даже и радужно. На блеклом, нервном, усталом лице Александры Васильевны возникала робкая улыбка. Она, видимо, страшилась внезапной перемены к худшему, так уже случалось. Глеб же Иванович, ласково забирая ее ладонь в свои ладони, улыбаясь, развивал идею «убийства времени», остающегося до встречи в Сябринцах. Идея была в том, чтобы «разыграть письменные этюды воспоминаний», он возьмет сюжетом прекрасную мадемуазель Бараеву, а она, Александра Васильевна, – что пожелает, по своему усмотрению.
Благое намерение, эти вот «этюды», осталось благим намерением, но и Глебу Ив., и Александре Васильевне было так хорошо в тот пасмурный, тихонький, теплый день в извозчичьей пролетке, неспешно катившейся в Новгород, на станцию железной дороги.
На вечерах в этом доме ювелирных фейерверков не бывало, и вдруг… «В этом доме»? Надо, пожалуй, напомнить: на Малой Итальянской, в адвокатской квартире, там, где Глеб Иванович говорил о покойном Решетникове…
Так вот, собралась, как обычно, публика интеллигентная, молодая и возраста среднего, разговор на сей раз шел не о литературе, а о политике внутренней, неизменно поставлявшей пищу для суждений, подчас рискованных.
Опоздавший завсегдатай, описывать которого нужды нет, явился с незнакомкой блистательной: серьги бриллиантовые, брошь бриллиантовая, кольцо с бриллиантом. Уже не расцветающая, но еще цветущая дама была в черном кружевном парижском платье с высоким воротом а ля Медичи. Лицо тонкое, четкое, твердое. Глаза? Бесспорно, выразительные, но коль скоро смысл выразительности оставался спорным, все решили, что глаза у нее загадочные.
Несмотря на усердные разыскания, мне не удалось установить ее имя, буду называть, как называл Глеб Иванович, – Шантрет. Французское словцо ничего иного не значит, как только «шатенка». Глеб же Иванович произносил протяжно, с нарочитым прононсом, возникал легкий, звуковой, что ли, шарж.. Иронией, шаржем маскировал он и замешательство, и досаду, и вообще черт знает что, возникавшее в душе то поочередно, то вперемешку, как от мутовки.
Шантрет появилась в ту минуту, когда политическая тема сменялась литературной: у Глеба Ивановича просили «чего-нибудь новенького»… Он знал насквозь этих серьезных слушателей. Все они наперед имели обо всем мнение само-сто-ятельное. И потому на литературных вечерах, не робея, допрашивали писателя, почему он пишет так, а не эдак. Одни обвиняемые притворно и лениво капитулировали – да, не так пишу, не так, уж не обессудьте. Другие, еще не обстрелянные, сердито недоумевали, отчего читающая публика взяла за правило глядеть на писателя сверху вниз. За Глебом Успенским читающая публика признавала талант, и даже талант замечательный, однако сетовала на то, что Глеб Успенский не пишет «настоящих романов», а печатает «отрывки», «наблюдения», «страницы из записной книжки». Полагая свои мнения самостоятельными, они пели с чужого голоса – повторяли так и сяк журнальную критику. А журнальная критика то упрекала г-на Успенского в сжатости, которая, утрачивая достоинства краткости, приобретает недостатки схематизма, то чуть ли не осуждала на смертную казнь за бегство из садов художественной прозы в каменоломни прозы публицистической. Критика, отнюдь не всегда благожелательной тональности, не то чтобы вовсе не задевала, не огорчала, не коробила Успенского, однако и не опрокидывала навзничь. «Какая же у меня словесность, – разводил он руками, – не словесность у меня, а черная, ломовая работа…»
Ну-с, просили «чего-нибудь новенького». Отказывать он стеснялся, не умел: конфузили даже малейшие подозрения в капризности и жеманности артистической натуры. Он прочел «отрывок» «наблюдение», видел, что задел за живое, но готов был и к самостоятельным мнениям. Никто, однако, и губой не успел шевельнуть, как новоявленная Шантрет без всяких вводных предложений, вроде «на мой взгляд» или «мне кажется», произнесла безапелляционно: скучно, плоско, глупо. И повергла собравшихся в единодушное замешательство. Или, как, наверное, выразился бы д-р Усольцев, в коллективное помешательство, характерное для иных периодов истории человечества. Все ошеломленно молчали. Нигилизм нигилизмом, но не эпатаж ради эпатажа. И все решили, что у загадочной Шантрет самобытный и, может быть, поистине глубоко национальный взгляд на искусство. Ничего иного не пришло в голову само-сто-ятельной публике.
А виновник торжества? Возражать было бы еще скучнее, еще площе и глупее, чем он пишет. Он чувствовал себя нелепо, неуклюже, скверно. Так скверно, что из головы сразу, как под обухом, вылетел срок возвращения домой. Задерживаться, опаздывать в такой день было непростительно, как измена. Вымученно усмехнувшись, он сказал:
– Мне сделали аванию. – И, поклонившись, вышел.
Нарочитой заменой расхожего «мне нанесли обиду» на редкостную «аванию» Глеб Иванович не избавил себя от скверного, нелепого, неуклюжего положения в пространстве и вместо того, чтобы поторопиться домой, вялым шажком поплелся к Фонтанке.
Опершись на парапет, он долго и тупо смотрел на черную речку, меченную, как желтком, отблеском фонаря, и потряхивал головой, как ныряльщик, в ушах которого застряла вода.
Дома он застал акушерку. Поджав губы, повитуха смерила взглядом обжигающей презрительности гуляку праздного. Он похолодел, у него дрогнуло под коленками, он страшно перепугался, как бы и второго, долгожданного и желанного младенца не постигла участь первенца.
Первенец родился мертвеньким. Александра Васильевна обреченно шептала: «Пусто… Пусто…» Глеб Иванович, не зная, что делать, чем ее утешить, глотая слезы, хотел было затеплить лампадку. Давно порожнюю плошку затянуло паутиной. Александра Васильевна повела глазами на красный угол, опять молвила: «Пусто…» – но в этом повторе был уже не прежний смысл, и Глеба Ивановича прохватило лютым одиночеством Сашеньки – нет ей прибежища, нет утешения. В отрочестве, гимназистом, он читал о мучениках веры; сейчас, сквозь слезы, холодившие скулы, видел мученицу безверия.
Еще до замужества Сашенька Бараева сказала жениху, что она «утратила способность веровать». Успенский не поперхнулся. И он, и она принадлежали к тому кругу, который не только не общался с господом богом, но и не раскланивался с господом богом. Одни отрекались медленно, посреди тягостных сомнений, другие рационалистически-спокойно. Сашенька Бараева, вчерашняя институтка, только что получившая аттестат, «утратила способность», потрясенная кончиной родного брата, совсем еще молодого человека, цветущего, полного сил. Сашенька отождествляла Всевышнего с Высшей Справедливостью, и потому ужасная несправедливость братниной смерти отрицала, как ей казалось, бытие божие.
Батюшка, знавший и любивший Сашеньку с самого раннего детства, печально цитировал священное писание: глупость человека извращает пути его, а сердце его негодует на господа. Да, ее отречение было негодованием. Потом негодования не было, ибо не стало предмета негодования. Но душа, освобожденная от веры, сиротеет, говорил батюшка. Она тоже могла бы сослаться на писание: нехорошо душе без знания. Добрый старик принялся бы объяснять, в чем тут суть. Это было бы впустую: Сашенька Бараева уже встретила на путях знания такие сочинения, как Бюхнерову «Силу и материю». Законы физики, химии, физиологии отменяли закон божий. Не душа сиротела без знания, а мыслящая материя.
Однако тайна из тайн: несуществующая душа жаждала любви, и, когда Сашенька Бараева думала о Глебе Успенском, мыслящая материя оставалась не у дел.
Их свадьба ужаснула бы ревнителей обрядности. Ни должного застолья, ни должного комплекта застолыциков. А время-то избрали, шут их возьми, неурочное, утреннее, в одиннадцатом часу. Малой компанией сидели у Палкина, ничуть не обращая внимания на сварливое шарканье еще не промявшихся, заспанных половых. Неудовольствие прислуги объяснялось не только ранью, но и отсутствием заказа на море разливанное. От таких гостей нечего было ждать. А Глеб Иванович и не желал моря разливанного. Не скаредничал, какое там… Повторял, сияя, что вот-де, друзья-товарищи, молодой супруг совершенно добровольно избирает позицию подкаблучника.
Затем вся компания покатила на Острова. День стоял высокий, весенний. Как часто бывает в Петербурге, тепло прореживалось длинным холодным ветром, и это было приятно, как и стук копыт по мостовой, сухой и звонкой.
На Островах полунагие рощи окунались в голубое, прозрачное. Взморье лежало как выглаженное. На тонком, в ниточку, горизонте всплескивал бледный дым парохода. Хорошо жить на белом свете!
Шампанское, выпитое у Фелисьена, гармонически сочеталось с рюмками водки, пропущенными в русском трактире. Там держали калужских кенарей. Глеб Иванович, улыбаясь, сказал, что канареечное дело птицеловы называют «благосклонным». Кенари по случаю супружества г-на и г-жи Успенских ликовали – и дудкой, и вроссыпь, и колокольчиком. Ах вы, пташки-канашки мои… Дома, в Туле, у деда была говорящая сорока Чипа, щегол щебетал, была и канарейка, выписанная из Полотняного Завода. Приживальщик Михалыч заструнит, бывало, на скрыпочке: «Ах вы, пташки-канашки мои…» – канареечка тотчас начнет перебирать лапками на жердочке, а головкой верть-верть, ребятишки смеялись и в ладошки хлопали… Ему вдруг взгрустнулось. Нет, не по тульскому детству, а так, черт знает почему, вроде бы от крутой перемены всех жизненных обстоятельств. Вот тебе и сюрприз! И своя-то душа потемки. Ждал, желал, Бяшечкой звал, ласточкой. Совершилось, а тут и на тебе – грустно… И как раз в эту минуту Сашенька перехватила его грустно-туманный взор. Он покраснел. Она посмотрела на мужа, в ее черных, смородинками, глазах светилось и счастье, и еще что-то такое, ему непонятное, да, кажется, и самой Сашеньке неотчетливое.
Кенари умолкли. Кто-то предположил, что певцы требуют гонорара. Глеб Иванович освобожденно засмеялся, он сказал, что канарейкам надо платить канарейками, желтыми рублевыми бумажками, но в соответствии с торжеством, каковое имеет быть, молодые жалуют на круг синенькую и зелененькую, и пусть уж хозяин делит эти восемь рублей, как вздумается…
Поженившись в мае, они чуть не год маялись. В мае добрые люди не женятся? Права пословица в тех случаях, когда в сундуках добра нет. У четы Успенских сундуки отсутствовали за ненадобностью. Была надобность в булке, в стеариновой свечке, в заварке чая. Он писал «Разоренье»: Михаил Иванович, человек рабочий, фабричный, ощущал потребность бунта отнюдь не бессмысленного. «Имею просияния моего ума, – говорил Михаил Иванович, – я всю эту разбойную механику понимаю…» «Разоренье» печатали «Отечественные записки». Платили исправно, до копейки – оставались копейки: молодоженов преследовали кредиторы. Александра Васильевна зарабатывала переводами с французского, с немецкого. Со стороны легко было счесть, что у молодоженов нет перевода деньгам. А Глеб Иванович задавался вопросом почти риторическим: «Александра Васильевна, не найдется ли чего-нибудь закусить?»
Наконец они сносно зажили на Гончарной. Ждали ребенка: первенец – царь в дому. Воцарения не дождались, первенец родился мертвеньким. «Пусто… Пусто…» – обреченно шептала роженица, Глеба Ивановича мучила какая-то тяжелая возня за стеной. Ему казалось, что он в каземате, а в соседнем каземате душат кого-то, душегубство творится в соседней темнице. Настенные часы, истратив силу пружины, не действовали. Глеб же Иванович думал, что смерть малютки остановила течение времени.
С постылой Гончарной они переехали на Фонтанку.
И вот теперь, сейчас, здесь, во флигеле, Александра Васильевна разрешилась благополучно. Усталая повитуха смотрела на «гуляку праздного» благосклонно. Он ходил фертом и насвистывал.
На другой день Глеб Иванович, торжествуя, извещал знакомых, полузнакомых, даже и знакомых шапочно:
– Александра Васильевна сына родила! Нос, знаете ли, не как у новорожденных, совсем, знаете ли, настоящий нос!
А что же Шантрет? О нет, она не забыла писателя, «пишущего плоско, скучно, глупо». Приговор должен был ошеломить писателя. Судя по всему, Шантрет преуспела. И она повадилась в дом на Малой Итальянской. Шантретин предмет, благожелательный ко всем и каждому, холодно сторонился обидчицы. Она была настолько умна, чтобы не переоценивать силу своего удара. И не настолько дура, чтобы рассчитывать на скорую победу. Она навела справки. Утверждали, что писатель Глеб Успенский счастлив в супружестве. Она не поверила. По ее мнению, он мог быть счастлив только с нею.
Приступая к осаде, Шантрет сменила доспехи: парижские туалеты на скромные платья, бриллианты – на железную цепочку. Объявляла сумрачно: «Эту цепь раскует только смерть!» Но смерть почему-то медлила, и осада продолжалась. Успенский получал записочки, лапидарные, как изречения риторов времен давно минувших, с эмблемами непреходящими. «Ты спишь, Брут, а Рим – в цепях», а вокруг, как виньетка, топор и кнут, кандалы и эшафот… Идейный писатель, казалось бы, должен был пасть ниц пред нигилисткой, готовой погибнуть за высокие идеалы. Идейный писатель не только не падал, но и устранялся от свиданий наедине. Шантрет дала ему понять, что он черствый, как сухарь.
– Вы совершенно правы, – обрадовался писатель, – я сухарь, сухарь заплесневелый и бесчувственный.
– Вы воплощение жестокости, – сказала Шантрет, ее красивое, четкое, твердое лицо злобно побелело.
Она перестала появляться на вечерах в адвокатской квартире. Но… Лотошница, ряженная старухой, выныривала из подворотни. Угадав Шантрет, страстный курильщик пускался наутек. Но… Обернувшись подростком-рассыльным, она гналась за ним с каким-то свертком, будто бы забытым в Пассаже. Он ретировался в первый попавшийся проходной двор. Но… Поблизости от его дома, на Фонтанке, скучал извозчик; Шантрет, сидя в пролетке, поглядывала из-под зонта, как филер.
Давно бы следовало дать отпор несносной «ритурнели», а Глеб Иванович не решался, терпел, надеялся на авось. Всего же муторнее было то, что он сразу не сказал Александре Васильевне об этой липучке. Не приведи господь, узнает стороной – бабьи сплетни страшнее пистолета. А узнает, спаси и помилуй, вспышка ревности. Чувство столь же гнусное, как и чувство собственности: ты мой – не отдам. Дьявольски неприятны подозрения в супружеской неблагонадежности. Не велика, конечно, радость и в подозрениях на счет политической благонадежности, но к тому имеются резоны, а вот каяться пред Александрой Васильевной, видит бог, не в чем. Однако давно надо было, что называется, доложить по начальству.
А Шантрет… Если цензор не верил в его преданность престолу, то она – в его преданность жене. Цензор не ошибался и пребывал начеку. Шантрет ошибалась и дошла до белого каления.
В один день филерши на извозчике не обнаружилось. Глеб Иванович вольно вздохнул. Едва он удалился в сторону Аничкова моста, как во двор его дома шмыгнула, подобрав юбку, торговка апельсинами. Проворно поднявшись на второй этаж, она брякнула дверным колокольчиком. Дверь отворила Александра Васильевна.
– Сочныя, сладкия, полновесный, – гостинодворским зазывом отрекомендовала Шантрет марсельский экспорт.
Александра Васильевне приятен был аромат апельсинов. Она нимало не подозревала присутствия смертельной дозы сернистого мышьяка.
– Чистое объядение, барыня, – охрипшим голосом посулила Шантрет и мгновенно побледнела.
– Что с вами? – всполошилась Александра Васильевна.
– Мне… мне… поговорить,—пролепетала Шантрет.
В комнате спал младенец. Над колыбелью почудился Шантрет нежный призрачный дымок ребяческого сна. Она вскрикнула и, судорожно вцепившись в корзину, бросилась вон.
Никогда больше Глеб Иванович не видел, Шантрет.
Он дал себе зарок впредь не мешкать с «донесениями по начальству». А поводы к тому подвертывались. Александра Васильевна, слава богу, не выказывала чувства собственности. Барышни увлекаются ее мужем? Господи, только Баба-Яга не испытает магнетизм его обаяния. Но Глебушка, пожалуй, чересчур мнителен, у мнительности глаза велики, а мнительность Глебушкина – производная величина душевной чистоплотности.
Он принимал как должное ее уверенность в его брезгливой чуждости пикантным историям. Но ему как бы и не хотелось верить в ее полную свободу от ревности. Он предполагал тайные страдания и сожалел об этом.
Она и вправду страдала. Однако он не догадывался, где зарыта собака.
На Островах, в день свадьбы, когда они встретились глазами и Глеб Иванович поймал в себе внезапный испуг от совершившегося, она и себя поймала на чем-то неожиданном, а теперь, матерью семейства, поняла, что это было предчувствием распри. Но тогда, на Островах, не поняла, потому что была счастлива неведением.
Чего же она не знала, о чем ведать не ведала?
О том ли, что счастье с несчастьем, как вёдро с ненастьем? Полноте. Переменчивость судьбы не секрет даже и для институток. Может, о том, что жизнь внезапно рвет жилы и ставит точку? Ну нет, страшным примером была скоропостижная кончина брата. Или о том, что жизнь, вытягивая жилы, то и дело ставит знаки препинания – препоны, неудачи, помехи? Господи, кто же этого не понимает!
Так в чем же таилось ее краткое – там, на Островах, – предчувствие долгой тяжбы?
Нет, не с безденежьем, не с невзгодами. И не со сверлящим, как древоточец: я, дескать, денно-нощно, словно пчелка, а ты исчезаешь надолго, пахнет от тебя не только табаком, пиджак швыряешь куда попало, да и забываешь, стыдно сказать, чистить зубы.
Не ежели не в том была тяжба, то, может, в борьбе за власть или в борьбе за свободу? Нет, она не посягала на домашнее самодержавие. (Глеб Иванович с порога вручил ей державу – правь, матушка, как славная комендантша Белогорской крепости.) И не обороняла принципов женской эмансипации. Оборонять нужды не было: Глеб Иванович не атаковал эти принципы. Напротив, совсем напротив. Его не умиляла Татьяна Ларина: от ее верности пахло гаремом – «я другому отдана». То-то и оно, отдана.
Рассуждая «вообще», хотя и не отвлеченно, оба думали, как Пушкин, не зная, впрочем, что Пушкин так думал: «Несчастие жизни семейной есть отличительная черта во нравах русского народа». Мысль эта, искренне считал Глеб Иванович, будучи верной, не адресовалась, однако, лично ему. Что ж до Александры Васильевны, то она, материнством счастливая, чувствовала и сознавала «несчастливость по-своему».
И Глеб Иванович, и знакомые литераторы, и издатели отдавали должное ее несомненному дарованию. Залогом тому были переводы, поощренные Тургеневым. Но залог это ведь даже и не пролог. Она не работала, а прирабатывала. Работа требовала независимости от домашности. А последняя не исчерпывалась домоводством. Детей надо не только кормить, мыть, обувать, одевать, лечить, но и воспитывать. Дети, дети… Она ни на день не спускала с них глаз. А втайне предавалась литературным мечтаниям, задумывала повести, отваживалась и на романы. Увы, увы, семья хоть и не вериги, а не сбросишь, как вериги. К тому же она бы и сгоряча не стала бы никого уверять в своей практичности. Выгадывать, торговаться, что называется, протягивать ножки по одежке, не то чтобы казалось ей унизительным, а было как-то неловко, утомительно, конфузливо. Но с Глеба-то Ивановича в этом смысле какой спрос? Стало быть, кому-то же надо, а кому, кроме нее?
Огорчения Александры Васильевны Глеб Иванович и замечал, и понимал. И посему измыслил однажды замечательную «коммерцию».
Мясной товар поставлял Александре Васильевне разбитной ярославец с Сенного рынка. Глеб Иванович подкараулил его на черной лестнице и попросил об одолжении, как говорится, не в службу, а в дружбу. Ярославец отвечал – завсегда, мол, готов. Пожалуйста, продолжал Глеб Иванович, не торгуйтесь с Александрой Васильевной, какую цену назначит, на такую и соглашайтесь. «Завсегда готовый» мясник попятился. Помилуйте, говорит, сами знаете, скотина привозная, того и гляди по миру пойдешь, никак-с невозможно-с… Нет, нет, оборвал Глеб Иванович, вы меня не поняли; вы настоящую-то цену записывайте, мы с вами под конец месяца и сочтемся, я вам еще и приплачу по пятачку с фунта. Ярославец просиял, экий господин-то славный… Так и пошло, ладно да складно, к полному общему удовольствию. Неизвестно, сколь бы долго продолжалось, не поделись Александра Васильевна своей удачливостью со знакомыми дамами. Само собой, клиентура у ярославца резко увеличилась. Да сразу и осеклась. Как так, всполошились покупательницы, что же ты, мошенник, с нас дерешь, а вот с госпожой Успенской по-божески, ах ты негодник, ах ты бесстыдник… Ярославец оскорбился: зачем-де мораль напущать? Был бы ваш супруг-то таким же славным господином, как Глеб Иванович… И «ларчик» открылся. Александра Васильевна не знала, сердиться ли, смеяться ли, Глеб Иванович приуныл, как банкрут, хмыкал, разводил руками и повторял, что «скотина привозная, никак-с невозможно-с…»
Дом, дети, бесконечные хлопоты, нескончаемые заботы, такие вот ярославцы, они-то, грустно думалось Александре Васильевне, и убивают ее бессмертную душу. Она понимала – литература и домашнее – были бы невподым и Глебу Ивановичу. Понимая, принимала ли? Сколь много он мог бы дать Саше, Вере, Маше, Оле… Не в ходу у них ни «папа», ни «папенька» – зовут Глебом, даже и Глебушкой, точно старшего брата. Любимого и любящего, да-да, так, но у брата ведь нет отцовских обязанностей. Александра Васильевна удивлялась чуткой безошибочности детских сердечек: Глеб, Глебушка. Но ее сердце нет-нет да и сжимала обида. Ничтожный повод искоркой падал на трут, вспыхивала ссора.