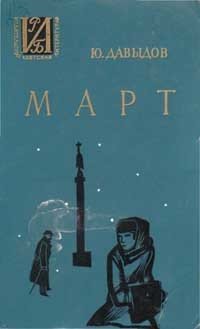полная версия
полная версияВечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...
– Слова не останутся словами, – заверил Ашинов.
Успенский помолчал, потом спросил:
– В Ленкорани бывать не случалось?
– На Кавказе живал, кунаки есть, – ответил Ашинов. – В Ленкорани не приходилось.
– А мне приходилось.
Он был там весной. Каспий штормил, берега гремели, как порожние бочки. Туман плутал в тополях, уже зеленых; белые домики напоминали малороссийские мазанки.
Извозчик подрядился свезти Успенского в недальнюю от Ленкорани слободу Николаевку. Глеб Иванович спросил извозчика, слыхал ли он о Михаиле Попове? Оказалось, наслышан: был-де Попов свят, но и простоват был, это тоже так.
Больше полувека тому не здесь, у Каспия, а в Заволжье Михайла Акинфович Попов основал «рабочее согласие», в обиходе – «общие». Положил краеугольное: что недвижимое, что движимое – не твое, не мое, а наше. Должности тоже вот, как и этот, с газырями, предлагает, должности были выборные: и заведующий общественным амбаром, и учитель, наставник праведности, и «видители», контролеры, чтобы все укладывалось в справедливость. Выборных обязанностями наделили, а правами обделили. И стали работать на общей земле, общими орудиями, общим скотом… Окрестные мужики, почесывая в затылке, приговаривали: «Одначе!» Смысл этого замечания заключался, вероятно, в том, что начальство не потерпит. И точно! Хотя «общие» не чинили ни зла, ни беспокойства, вышла «бумага», и Попова погнали в Сибирь, а прочих – под красную шапку, во солдаты… Утекли годы, натекли «веяния», единомышленники, преданные «согласию», помаленьку собрались на краю империи, у Каспия. Попов, уже старик, вскоре преставился. Его оплакивали не скупой слезою. Осиротев, все заверяли друг друга в верности заветам усопшего…
Обо всем этом Успенский слыхал, все это очень его занимало, однако с поездкой в Ленкорань медлил. Не раз ведь мужики говорили: «Нешто с нашим народом можно? Ты, барин, возьми примером хоть такое. Ну вот, значит, стакнулись, положим, гать настелить, объездом крюк большой, а с гатью близко, доплюнешь. Ладно, ударили по рукам. Глядь-поглядь, каждый норовит объегорить другого, крику-то, брани-то, я, ста, больше Митьки силов кладу, я, ста, семь потов пролил… Ну, бросили. Не, барин, разве с нашим народом можно?» Вот этого «разве можно» и не хотелось увидеть Глебу Ивановичу. Да, конечно, «общие» искренне поклялись: дескать, уходя от нас, Михаила Акинфьевич то-то и то-то заповедовал, мы от сего ни-ни, не отступимся. Эхе-хе, черт-то не дремлет. И по-настоящему набожные монахи – монашат: лицемерят, изловчаясь так ли, эдак ли, а нарушать обет, принятый добровольно. Природа свое берет, «коль выгонят в окно, так я влечу в другое». Вот он и медлил ехать в Николаевку, а теперь, приближаясь к слободе, ощущал на губах слабую, просительную улыбку, будто упрашивал «общих» не обманывать его надежду на возможность «согласия».
Увы, черт и вправду не дремал. Когда-то общинники строили собратьям одинаковое жилье, селились без плетней, без частоколов. А нынче? Увы, грустно поглядывал Глеб Иванович на дома и домишки, хаты и хатенки. Каждый отгораживался, заслонялся от соседа. А это что ж такое? За крепким, ни щелки, забором возносились высокие хоромы, крытые железом.
– А это на́больший, это Иван Антоныч жительствуют, – язвительно пояснил извозчик. – Псы на дворе – ого! – не подходи, разорвут. Восприемник, стало быть, покойничка, вот я и говорю, простоват был. – Не трогая лошадь, он для виду помахал кнутом да вдруг и прибавил благодушно: – Все мы, барин, Евстафии. Ну, этот, кот-то Евстафий, и покаялся он, и постригся, и посхимился, а все во сне мышей ловил.
Некий Иван Антонович чаще всех божился именем основателя «общих», прямо-таки с уст не спускал. И, возглавляя общинников, не мышей ловил – нанимал ватагу, промышлял белорыбицей, большой деньгой обладал.
Впору заворачивать оглобли? Нет. Неохота было с порога признать, что все поросло травой забвенья.
Старики-ветераны гордились и руководительством Михаилы Акинфовича, и своими праведными трудами, словом былым гордились. А «теперешних» осуждали. Одни гневно – разбаловались, мол, испортилась порода; другие – недоумевали: и откуда только пагуба взялась, не иначе как наслали окрестные инородцы. Общественные работы заглохли, общественная столовая выстудилась, а общественная касса – что кружка у пожарника-погорельца.
«Теперешние», охотно толкуя с Глебом Ивановичем, над стариками-ветеранами отнюдь не посмеивались, уважали, а все же по наряду на общие работы ходить не хотели, потому что… Вот в городе, говорили, водопроводы завели, во все, значит, дома воды вдоволь, и вода одинаковая, что тебе, что мне, а не все ж поголовно в один и тот же час эту воду пьют, постирушку затевают или щи варят, не-ет, каждый по своей надобности, по своему обыкновению.
Однако и старые, и молодые, равно признавая порчу «согласия», признавали, что так быть не должно, а должно быть иначе. И покаяние было, и надежда светилась. Уповали они на будущие поколения, у этих, мол, аккуратнее будет, ежели, конечно, затеплить в детской душе совестливость. Затепливая, себя не щадили: из нас, детушки, все доброе, все благое неприметно выползло и остались, как от змей выползки, шкурки…
Вот про этих-то «общих» и рассказал, коротко рассказал Глеб Иванович за чаем с баранками. Ашинов, отирая полотенцем красное крепкое лицо, отвечая, что у него там-то, в Африке, слово с делом не разминутся, и, будто присургучивая какую-то невидимую заповедную хартию, пристукнул кулаком по столешнице, а Глебу Ивановичу вдруг и мелькнуло давнее-давнее, когда он играл роль самозванца и его настигали минуты искренней уверенности в своей власти, в своем призвании.
Еще на студенческой скамье водил он дружбу с Прошкой Григорьевым. Прошкин дядюшка, отходя в лучший мир, отказал племяннику солидное именье в Саратовской губернии. Григорьев променял Москву на глушь. Там он до такой степени проникся состраданием к сеятелю и хранителю, что готов был отдать не только свою землю, но и все помещичьи во всех губерниях. Мужики стали за версту кланяться барину-недоумку. Однако, поразмыслив, Григорьев заключил, что его благородный подвиг не поддержат владельцы ветшающих ампиров. И он предался грезам об экспроприации – кровавой и грозной, необходимой и праведной. Об эту пору Успенский ненароком завернул в Прошкины пенаты. Григорьев обрадовался старому приятелю. И не замедлил формулировать свою доктрину «Будешь великим князем Константином». Успенский отшутился: Романовым, мол, не хочу, буду Мартынкой-царевичем. Величаться ли царским братом, благополучно здравствующим, или Мартынкой-царевичем, давным-давно отгулявшим в широких, как воля, оренбургских степях, не в том была суть. А в том, что мужик непременно взбунтуется, лишь бы призыв был от царева имени, от августейшего, а не от городского шептуна-пропагатора. Глебушка нашел невозможным обманывать мужика, и без того кругом обманутого. Прошка возражал примером Пугачева: верил иль не верил мужик в то, что Емелька есть ампиратор Петр Третий, корень-то был в землице. Проня так приставал, что Глебушка махнул рукой. Добро, будь по-твоему, сам убедишься, каков ты балбес.
Ну, и поехали на простых дровнях. Был февраль, избы дымились не столбами, а волоком – к метелям. И верно, забуранило и верхом и понизу. Они едва тащились. Григорьев ничуть не походил на придворного кучера – рожа, как рогожа, глаз кривой. А великий князь Константин, завернувшись в тулуп, ничком иль бочком валялся на соломе, злясь на балбеса Прошку и стыдясь своей дурацкой роли в его дурацкой затее.
Дело обыкновенно делалось так.
Останавливались у кабаков, тоже, знаете ли, «народных заседаний проба». Великий князь продолжал возлежать на соломе. Кучер нырял в заведение. Невдолге выныривал из клубов пара, за ним – гурьба мужиков, все без шапок, у одного полуштоф, у другого миска с закуской. Глебушке было и смешно, и срамно, он с головой прятался в тулупе. «Вот, ребяты, царев брат родной, – объявлял великокняжеский кучер негромко и внушительно. – Его императорскому высочеству заказано до срока свой светлый лик явить. – Он подмигивал кривым глазом. – Сперва, ребяты, надобно их высочеству иметь убеждение в вашей готовности. А тогда уж оне знак подадут, а вы, как верные подданные, не теряя времечка, отымайте у господ землю». Мужики, крестясь, опускались на колена; один протягивал полуштоф, другой – миску с закуской. «Нет, ребяты, пить их высочеству ни-ни, опасно покамест. А я за вашу решимость приму. Благодарствуйте». И они скрывались в снежных вихрях. Молва о царевом брате обгоняла метелицу, самозванца встречали хлебом-солью.
Обман и безобразие, а поневоле признаешь, что Григорьев не такой уж дурак. Сто лет минуло, а выходило по старой пугачевской пьесе. Мужику было, вообще-то говоря, наплевать, кто это там на соломе, в тулупе, главное, чтобы призывал к черному переделу именем царевым. Тут и отчаянность тлела – эхма, авось возьмем; тут и лукавство, хитрый расчет притаился – промашка выйдет, тотчас, известно, ту-ру-ру, солдатский рожок, а у мужика-то за пазухой пригрето голубиное оправдание: царь-государь повелел, как можно неслухом?.. Нет, Глебушка, не унимался Григорьев, не ты мистифицируешь мужика, это он тебя мистифицирует. Однако великий князь не учинил мужицкий бунт, а сам взбунтовался, и вся эта феерия развеялась февральскими буранами.
Но, черт возьми, осталось в душе и некое недоумение. Странная штука! Бывали минуты – и вдруг он верил в мощь свою, власть и призвание. Вот, может, и этот Ашинов тоже?
Николай же Иванович, наседая на господина Успенского, чтоб, значит, «прописал в газетках», выложил козырную карту. Карта была географическая. Пунктир, виясь муравьиной цепочкой, изображал пароходный маршрут из моря Черного в море Красное близ африканского берега и далее – в Индийский океан, а на африканском берегу, в Таджурском заливе, чернел аккуратный квадратик – Новая Москва, поселение вольных казаков и вместе с тем морская станция для судов Российского общества пароходства и торговли.
– Каково? – вопросил, избочась, будущий атаман Новой Москвы.
А Глеб Иванович услышал: «И мы расширили свои пределы…»
Была у нас в Колмове дубрава, молодые дубки и старые, корявые, дуплистые. Там любили играть детишки больничных служителей. Любил прогуляться и Глеб Иванович. Но мне дубрава помнится невесело. И день-то был погожий, жаркий, стрекозы зависали на лету, а помнится как бы осенним, когда мрачно ухает серая неясыть. Да она будто бы и ухнула, едва Глеб Ив. произнес: «Буланже!»
Начну несколько издалека.
Я был убежден, что давно уж, еще в африканских своих записках, предал анафеме атамана Ашинова, загубившего святую идею Новой Москвы. Но – разбойник?! аванюрист?! самозванец?! Нет, по-моему, Глеб Ив. и упрощал, и несправедлив был. Я не знал, что Н.И.Ашинов намеревался устроить морскую станцию, то есть державно утвердиться на важном для всей Европы коммерческом пути сообщения. Не знал, но и это не склонило меня к согласию с аттестацией, выданной Глебом Ив. нашему атаману, будь он трижды проклят.
Моя душа не принимала изначальности ашиновской лжи, ашиновской авантюрности. Ну хорошо, добро бы я, молодой и, пожалуй, восторженный, я один видел нимб над головой вождя Новой Москвы. Так нет же! И крестьяне-колонисты, народ тертый, осмотрительный, тоже. И мой друг, отбывший ссылку, умный, проницательный М.П.Федоровский. Да все, пожалуй, верили атаману, верили в атамана, иначе кто бы устремился за ним и с ним в неведомую даль? Откуда они, вера и доверие? По Глебу Ив. выходило, что и тайна-то не ахти уж какая: «Буланже!»
Мысли Глеба Ив. нередко набирали такую скорость, что речь его напоминала восхождение по крутой лестнице через две-три ступеньки. Боясь отстать, я старался лишь покрепче ухватить сказанное, чтобы уж потом, на досуге, додумать, поразмыслить. Вот и Буланже выскочил, как пробка, но Глеб Ив. тотчас указал на родство французского генерала и нашей продувной бестии в неизменной черкеске.
Лет десять тому, может, чуть больше, о Буланже много писали в газетах. Офицером он участвовал в захватных колониальных экспедициях. Генералом занимал кресло военного министра Франции. Все это плавно вписывалось в карьеры, коим несть числа. Но Буланже был слишком честолюбив и властолюбив, чтобы удовлетвориться министерским креслом. Лавируя, он шел к диктатуре.
Сопоставляя нашенского с французом, Глеб Ив. сказал, что и тот и другой, ясное дело, не могли же действовать в одиночку. У того и другого были свои сторонники, приверженцы, партии. Будь у Буланже под рукой лишь отпетые негодяи, по которым веревка плачет, тогда бы и толковать не о чем. Что до ашиновцев, то я бы и Шавкуца Джайранова, начальника тайной полиции в Новой Москве, я бы и Шавкуца помедлил повесить на плачущей веревке – темный человек, он служил Ашинову, как мюрид имаму.
Итак, оба имели сторонников, преданных цели, чистых, искренних. И отсюда опять вот это, упомянутое мною выше, то есть вопрос вопросов – откуда они, вера и доверие?
Глеб Ив. остановился посредине аллеи. Я тоже. Он посмотрел на меня, скрестил руки на груди и произнес чужим голосом, с поддельным воодушевлением: «Господа! Не беспокойтесь! Доверьтесь мне, господа, я все знаю-с. Следуйте за мной, господа, и не беспокойтесь».
Вот, черт возьми, обыкновенный перескок через две-три ступени. Прервать его было опасно, он мог ничего не ответить, мог ответить невпопад, его рассеянность была высшей сосредоточенностью, но я был так озадачен этой неожиданной позитурой – скрещенные на груди руки, чужой голос, все прочее; так был озадачен, что Глеб Ив., словно бы пожалев меня, умерил прыжки своей мысли.
О вере, о доверии так говорил. Мол, от времени до времени наступает минута неотразимости коренных вопросов жизни. Все это знают, понимают, страдают, бьются головой об лед, у многих, смотришь, кое-какие замечания-примечания к вопросу о том, чего же, собственно, делать, что предпринять, однако все только топчутся, кружатся, перебраниваются, никто не решается поднять знамя. И не от недостатка мужества, а от недоверия к самому себе – ну что, дескать, я, кто я такой, чтобы сметь. И вот тут-то возникает Некто… (Глеб Ив., скрещивая руки на груди, как раз и изобразил этого Некто.) И возвещает городу и миру: «Не беспокойтесь, господа! Доверьтесь мне, не беспокойтесь». Тотчас все мы из тины-то своей и выползаем на берег, как раки перед дождем. Возникает энтузиазм, вот как после севастопольского погрома, после Крымской, энтузиазм, да; закипает деятельность, лес рубят, щепки летят… и… смотришь, «на нивах шум работ умолк», а на дорогах рыщут волк с волчихой, все те же коренные вопросы жизни нашей. Ну, тут уж мы, кто шибче, кто медленнее, уползаем в тину, как раки после дождя, мысль наша ослабела, совесть наша пустоцветом, уползаем, стало быть, до следующего Некто.
Я не поддакивал. Люди не раки, прогресс неостановим, прогресс происходит. Далее. Не прощая Ашинову ни загубленную идею, ни репрессии, осуществленные посредством Шавкуца Джайранова, я все же усматривал в нашем атамане жертву обстоятельств, фигуру трагическую, и не желал ставить его на одну доску с насквозь проплеванным французом Буланже.
А ведь тот, задумчиво отозвался Глеб Ив., кончил самоубийством. Одни говорили, что причиной политическое фиаско, другие объясняли скоропостижной кончиной мадам Бонневен. Буланже любил ее, любил, как редко теперь любят, и… А ваш-то «трагик», ваш Ашинов, этот себе-то пулю в лоб нипочем не пустил бы. Бьюсь об заклад, никогда, нипочем. В чужой лоб – с полным нашим удовольствием; в собственный – нет уж, дудки. Ну, на себя, доктор, примерьте, вы бы из-за любви, а?
О мадам Бонневен я никогда и не слыхивал, но тут другое было. Я почувствовал спазму сердца, точь-в-точь как годы, годы тому, ночью, на пустынном берегу Таджурского залива, когда падали звезды, когда мелкие волны лизали песок и гальку, а я больно, пронзительно, ясно осознал безнадежность моей любви к Софье Ивановне Ашиновой.
В африканских записках она не раз упомянута, однако моя любовь к ней даже и в записках, для себя одного писанных, запечатана семью печатями. А так как Глеб Ив. мой «меморий» читывал, я и вообразил, что он эти печати сломал. И, вообразив, почему-то струсил, испугался, будто пойманный с поличным, да и прострочил заячьей стежкой, что Ашинов был счастлив в любви, что жена его, С.И., в девичестве была Ханенкой, из тех самых, в Малороссии известных, даже и гетман был Ханенко; словом, прострочил невесть для чего, так, с постыдного перепугу.
Глеб же Иванович, думая о чем-то другом, рассеянно молвил, что какие-то Ханенки живали в Чернигове, когда он, Успенский, учился в тамошней гимназии.
Донесся звук больничного колокола, звонили к обеду, и я обрадовался концу нашего променада в дубовой роще.
Чернигов – это отрочество; родиной, детством была Тула. Он потом написал «Нравы Растеряевой улицы», так это про Тулу.
Дом его деда стоял на улице Остроженской, близ тюрьмы. Одним концом улица впадала в Хлебную площадь, другим замирала у кладбища. Такая, стало быть, топография детства.
Кстати сказать, д-р Усольцев касается в своей тетради предмета, отнюдь не безразличного медикам, психиатрам в особенности, – наследственности. Ныне, кажется, выражаются мудренее: генетический фонд. Едва Глеб Иванович, пишет д-р Усольцев, поступил в Колмовскую больницу, будучи в состоянии тяжелейшей депрессии, как Б.Н.Синани все же счел возможным расспросить его про дедушек-бабушек, о дядьках-тетках. И Глеб Иванович, несмотря на свое состояние, «очень толково», то есть понимая непраздность вопросов Б.Н., отвечал, что по материнской линии, Соколовых, у него за плечами заурядное провинциальное священство, исключая деда Глеба Фомича, достигшего «степеней известных», знатока латыни и древнегреческого, ревностного, до фанатизма, сторонника неукоснительного законопослушания; по линии же отцовской – чиновничество, тоже провинциальное, впрочем, не вполне заурядное, а с некоторыми художническими наклонностями. Синани, пишет далее д-р Усольцев, держался разумной методы – объяснял пациенту, почему, для чего, зачем важно знать о семье и предках пациента. Глеб Иванович усмехнулся: «Темна вода во облацех».
Итак, дом Глеба Фомича Соколова, где текло безбедное детство Успенского, стоял на Остроженской, неподалеку от тюрьмы.
В острог, по тогдашнему трогательному обыкновению, издревле принятому в России, в острог этот по воскресеньям, а на двунадесятые праздники тем паче, носили подаяния. Арестантский двор гремел кандальным железом. Полуобритые головы напоминали серый булыжник. Принимая милостыню, арестанты благодарно роняли головы на грудь, казалось, булыжники падают, падают к ногам. В остроге Глебушка не плакал. Он плакал, возвратясь домой. Его чувствительность трогала маму и папу. Но плакал мальчик не только от жалости к «несчастным», но и от чувства вины перед ними; объяснить же свою вину не умел ни себе, ни папе с мамой. А гимназия стояла на площади, где вершились торговые казни. Палач кнутобойствовал, преступник кричал, спина у него, вспухая, делалась багровой и сизой. Истошный крик «ааа» вдруг пресекался, а миг спустя исторгалось огромное, как колесо, «ооо», и Глебушке казалось, что в этом «ооо» ужасное, невыносимое изумление человека, изумление перед тем, что вытворяет над ним кнутобоец, широко и прочно, как столбы, утвердивший ноги на бревенчатом помосте-эшафоте. Гимназисты, пихаясь, едва не вываливаясь из окон, глазели на экзекуцию, прищелкивая языками, сглатывали слюну, и переглядывались, и подмигивали друг другу, давая понять, что им нисколечко не страшно и даже весело. А вот этому Глебке, тьфу, неженка, этому страшно, никогда к окнам не протискивается… Все кончалось, преступника сносили с помоста за руки и за ноги, полубритая голова моталась, как кочан. Толпа редела, уроки продолжались. Глебушка, как оледенелый, не мог понять ни давешнего восторга сверстников, ни этого, словно ни в чем не бывало, бу-бу-бу учителя.
Острогом, Остроженской, торговой площадью начиналась дорога в каторгу. Туда не шли, не ехали, туда – гнали. Он смотрел, как их гонят, пыль застит солнце и скрипит на зубах, и першит в горле. А их все гнали, гнали, и они, гонимые, тянулись по Остроженский в сторону погоста. Там была безымянная могилка, говорили, что по ночам над этим холмиком, то укорачиваясь, то удлиняясь, вздыхает, теплится огонек – тоскует, страждет, жалуется чья-то безвинно загубленная душа.
В доме Соколовых читали молитву и укладывались спать. Мама, склоняясь к его изголовью, ласково говорила: «Ах, Глеб, у тебя опять глаза на мокром месте» – и целовала сына. Все засыпали, кроме сверчков и мальчика. Он лежал тихо-тихо, не шевелясь, опять он был виноват, виноват перед теми, кого гнали и уже угнали, а на обочинах тех бесконечных дорог, по которым их гнали, теплились огоньки, огоньки, огоньки.
Он лежал тихо-тихо, не шевелясь, и вдруг вздрагивал всем своим тельцем, потому что сквозь потолок, с неба, должно быть, и сквозь пол, из-под земли, должно быть, раздавалось грозное: «Пропадешь!» Да-да, ничего не придумываю, читатель, это же сам Глеб Иванович говорил в Колмове д-ру Усольцеву: «Как только начинаю себя помнить, чувство какого-то тяжкого преступления тяготеет надо мной. «Пропадешь!» – кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери». Понимаете? Пре-ступ-ления! С таким вот камнем-то легко ли?..
После Тулы был Чернигов. В тульской гимназии его звали «Глебом», «Глебкой», в черниговской – «кацапом». А еще были «жиды», этих он в Туле не видел. Гимназист Успенский Глеб не говорил: «жид», потому что ему говорили: «кацап». Гимназист Успенский Глеб впервые ощутил горечь ничем не заслуженной отверженности. В Туле он был великороссом среди великороссов. Тут он был одним из немногих. Отщепенство уравнивало «кацапа» с «жиденятами».
Там, в Чернигове, как и повсеградно, отзвонили колокола, возвестившие, что император Николай Павлович почил в бозе. Потом на дальнем юге отгремели севастопольские пушки, возвестившие невозможность жить, как жили. Явились молодые учителя. И «хохлам», и «кацапам», и «жидам» предлагали: «Вот, господа, читайте «Письмо Белинского к Гоголю». Поймете многое». На уроках не допрашивали, а спрашивали: «Вы все уяснили?» Ответишь утвердительно и садись – получай «пятерку». Вьюноши восторгались молодыми учителями. И потешались над простаками: ты мне «пятерку», а я тебе шиш без масла. Внимая призывам к совести и чести, вьюноши лгали. На экзаменах обнаружился ноль. Молодые учителя были в отчаянии.
Когда мы, услышав колокол, шли обедать, мальчики и девочки, дети больничных служителей, торопясь, доигрывали свои игры. Я не раз замечал, как тянет Глеба Ив. приласкать детишек, но он, словно бы силком, удерживал себя. «Боюсь испугать…»
Я об этом к тому, что дети-то, в отличие от взрослых, по той либо иной надобности посещавших Колмово, дети не сторонились больных. Случалось, правда, дразнили и с визгом кидались врассыпную, но то была забава, и только. Зато какое понимание, проницательность какая, это уж сердцем, сердцем.
(Помню, мальчишечка, сын ночного сторожа, как водится, из отставных солдат, мальчишечка лет десяти – двенадцати серьезно, вдумчиво объяснял младшей сестрице: «Они не бешеные, им страшное снится». Девочка спросила: «Почему страшное?» «А это как тебе после страшной сказки, – сказал мальчик, – только у них не сказка была, а взаправду было». «А я заплачу и проснусь», – сказала девочка. «Да они ж не спят, – все так же серьезно, вдумчиво объяснял мальчик, – они ж с открытыми глазами страшное видят, как же проснуться? И вот смотрят, смотрят, а сами думают: вдруг по-хорошему обернется, тут и сказке конец».)
Мы были уже на больничном дворе, когда на дорожке показалась ладная фигура Егорова – торопился, почти бежал; увидев Глеба Ив., замахал руками, что-то крикнул.
Два слова о Егорове, чудовском крестьянине, из тех самых мест, где у Глеба Ив. был свой дом. Егоров после несчастья – пожар случился, все выгорело – совсем, как говорят мужики, ослабел, то есть в хозяйственном смысле ослабел, да и нанялся больничным служителем. С Глебом Ив. они были вроде бы земляками, Егоров при нем состоял как бы дядькой, и, надо признать, замечательным. Не потому лишь, что услужал усердно, и не потому, что неукоснительно исполнял предписания фармацевтические и процедурные, и не потому даже, что его спокойное, открытое лицо так и светилось приветливостью, а как раз потому, что свет этот гас, сменяясь выражением оскорбленного достоинства, когда Глеб Ив. впадал в мрачную раздражительность. Да, Глеб Ив., воплощение деликатности, бывал с Егоровым, мягко выражаясь, несдержан. А потом ходил, что называется, поджав хвост, унывал, покашливал, заглядывая Егорову в глаза. Тот не ворчал: «Ладно, чего уж там…» Напротив, твердо объявлял, что он человек вольный, не холоп, не дворовый, работает по найму, права свои знает. И заключал: «Ежели коли еще раз, пеняйте на себя – поколочу!» Вот это «поколочу!» и было уже отпущением грехов, прощением, амнистией, и Глеб Ив. смеялся, радостно потирая руки, а Егоров ворчал, что он вовсе не шутки шутит, а прибьет взаправду, невзирая на какую-то там систему «нестеснения». Система не система, а он действительно любил Глеба Ив. жалостливой, снисходительной любовью. И вот еще что. Небольшие суммы, присылаемые женой Глеба Ив., хранились у меня, и он нет-нет и выманивал два-три рубля. Выманив, тотчас раздавал служителям. Егоров никогда не брал и пятачка.