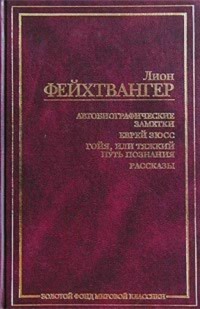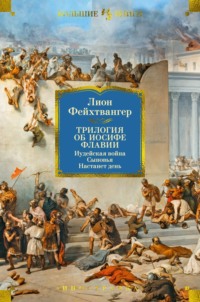полная версия
полная версияНастанет день
Император принимается за работу, аккуратно, пункт за пунктом записывает он все, что намерен выжать из сената под предлогом войны. Прежде всего он наконец-то осуществит свой давно лелеемый план, – заставит облечь его пожизненно властью цензора: ведь цензура – это и верховный надзор над государственными расходами, правом и нравами, и контроль над сенатом, а также полномочия исключать из этой корпорации неугодных ему лиц. До сих пор он брал на себя эти обязанности только каждый второй год. Сейчас, в начале войны, которая неизвестно сколько продлится, сенаторы едва ли откажут ему в упрочении его власти. Он уважает обычаи, он, конечно, и не думает изменять конституцию, предусматривающую разделение власти между императором и сенатом. Он не намерен упразднять это мудрое деление: он только хочет сам контролировать корпорацию-соправительницу.
Война дает и желанную возможность внести больше строгости в законы о добрых нравах. Нелепые, высокомерные, строптивые аристократы из его сената опять будут издеваться над тем, что он запрещает другим малейший проступок, себе же разрешает любой каприз, любой «порок». Болваны! На него возложена судьбою миссия защищать железной рукой римскую дисциплину и римские нравы; но откуда ему, богу, знать людские пороки, чтобы за них карать, если сам он время от времени не будет сходить к людям, подобно Юпитеру?
Тщательно формулирует он намеченные предписания и законы, нумерует, уточняет, добросовестно подыскивает обоснования для каждой статьи.
Затем переходит к самой приятной части своей работы – к составлению списка; список этот невелик, но чреват последствиями.
В сенате сидят примерно девяносто господ, которые не скрывают, что они его враги. Они смотрят на него свысока, эти господа, возводящие свой род к временам основания Рима и еще дальше – к разрушению Трои. Они обзывают его выскочкой. Если его прадед держал откупную контору[12], дед тоже еще не был ничем знаменит, они воображают, что и он, Домициан, не способен понять, в чем истинная сущность римлянина. Но он им покажет, кто истинный римлянин, – правнук мелкого банкира или потомки троянских героев.
Имена этих девяти десятков ему известны. Девяносто – большое число, столько он не сможет внести в свой список, к сожалению, – лишь немногих из этих неприятных господ удастся устранить за время его отсутствия. Нет, он будет осторожен, он враг всякой поспешности. Но кое-кого – семерых, шестерых, ну, скажем, хотя бы пятерых все же можно будет внести, а мысль о том, что, когда он вернется, они уже не будут больше мозолить ему глаза, согреет ему сердце вдали от Рима.
И все-таки он записал – пока, предварительно – целый ряд имен. Потом принялся вычеркивать. Эта задача оказалась не из легких, и порой, выбрасывая чье-нибудь ненавистной имя, он горестно вздыхал. Но он – добросовестный правитель, он хочет, чтобы в его окончательных оценках им руководили не симпатия и антипатия, а только государственные соображения. Тщательно обдумывает он, насколько опасен тот или другой сенатор, чье устранение привлечет больше внимания и чье конфискованное имущество принесет больше пользы казне. И только если чаши весов стоят ровно, решает его личная антипатия.
Так он обдумывает одно имя за другим. С огорчением вычеркивает из списка Гельвидия. Жаль, но нельзя, пока что приходится его щадить, этого Гельвидия Младшего. Гельвидия Старшего убрал еще старик Веспасиан. Но придет час, – нужно надеяться, он не за горами, – когда следом за папашей можно будет отправить и сынка. Жаль также, что император не может сохранить в своем списке Элия, у которого он некогда отнял супругу, Луцию, ставшую теперь его императрицей. Этот Элий имел обыкновение называть его не иначе, как «Фузан», из-за того, что у него, Домициана, начинает расти живот, и еще из-за того, что он не всегда чисто выговаривает букву «П». Ладно, пусть Элий еще некоторое время зовет его «Фузаном», но и для него настанет час, когда ему будет уже не до острот.
В конце концов в списке остаются пять имен. Но теперь императору кажется, что и этих пяти слишком много. Он удовольствуется и четырьмя, да еще посоветуется с Норбаном, своим министром полиции, когда будет решать, кого все-таки отправить в Аид.
Так, он выполнил свой урок, он свободен. Домициан встал, потянулся, направился к двери, отпер ее. Он проработал все обеденное время, его не осмелились побеспокоить. Теперь он голоден. Он вызвал сюда, в Альбанское именье, чуть не весь двор и половину сенаторов, почти всех, кому был другом или врагом; прежде чем покинуть столицу, он хотел здесь, в Альбане, привести в порядок дела империи. Устроить себе развлечение? Пригласить кого-нибудь из них к столу? Он вспомнил о множестве людей, которые прибывают сюда непрерывным потоком, представил себе, как их терзает мучительная неизвестность, – что же решит на их счет бог Домициан. Он улыбнулся многозначительной злой улыбкой. Нет, пусть остаются в своей компании, лучше предоставить их самим себе. Пусть подождут весь день, ночь, потом, может быть, еще день и даже еще ночь, – ведь бог Домициан будет медленно обдумывать свои решения и отнюдь не намерен спешить.
Может быть, в Альбанскую резиденцию уже прибыла и Луция, Луция Домиция, императрица. Мысль о Луции согнала улыбку с лица Домициана. Долго был он для нее всего лишь мужчиной Домицианом, затем пришлось и перед ней показать себя владыкой и богом Домицианом, – он устранил ее любимца Париса и за нарушение супружеской верности заставил сенат сослать ее на остров Пандатарию.[13] Три недели назад он очень кстати дал указание своему сенату и народу, чтобы они осаждали его просьбами вернуть их обожаемую императрицу. И он позволил им смягчить его сердце, вернул Луцию. Иначе ему пришлось бы отправиться в поход, не повидав ее. Интересно, здесь ли она? Если путешествие прошло без помех – она уже должна быть здесь. Он не хотел показать, как ему важно знать о ее прибытии, и отдал приказ его не беспокоить, ни о чьем приезде не докладывать. Но сердце подсказывает, что она приехала. Спросить? Пригласить ее отобедать с ним? Нет, он останется владыкой, останется богом Домицианом, и он делает над собой усилие, не спрашивает о ней.
Он обедает один, торопливо, рассеянно, глотает наспех куски, запивает вином. Быстро заканчивает одинокую трапезу. А чем заняться теперь? Что ему сделать, чтобы изгнать мысли о Луции?
Домициан вызывает скульптора Василия, которому сенат поручил сделать гигантскую статую императора. Скульптор давно просил посмотреть его работу.
Молча разглядывал он модель. Он был изображен на коне, со знаками императорской власти.[14] Скульптор Василий сделал добротного, героического, царственного всадника. Императору нечего было возразить против этой вещи, но и удовольствия она ему не доставила.
У всадника были, правда, его, Домициановы, черты, но это император вообще, не император Домициан в частности.
– Занятно, – проговорил он наконец, но таким тоном, который не скрывал его разочарования.
Маленький, подвижной скульптор Василий, все время внимательно следивший за лицом императора, отозвался:
– Значит, вы недовольны, ваше величество? Я тоже. Конь и корпус всадника поглощают слишком много пространства, остается мало места для головы, для лица, для духа. – И так как император безмолвствовал, продолжал: – Очень жаль, что сенат поручил мне изобразить ваше величество именно верхом. Если ваше величество разрешит, я предложу господам сенаторам другое. У меня есть замысел, который мне кажется крайне привлекательным. Мне рисуется колоссальная статуя бога Марса, но у него черты лица вашего величества. Конечно, я имею в виду не обычное изображение Марса в шлеме – шлем отнял бы у меня слишком большую часть вашего львиного лба. Мне же рисуется отдыхающий Марс. Ваше величество разрешит показать модель? – И так как император кивнул, он приказал принести другую модель.
На ней скульптор изобразил человека мощного телосложения, но сидящего в спокойной позе. Оружие отложено в сторону, правая нога небрежно выдвинута вперед, колено левой приподнято, он небрежно обхватил его руками. У ног его вытянулся волк, дятел дерзко уселся на лежащий сбоку щит.[15] Модель явно представляла собой только первую попытку, но голова была уже вылеплена, и эта голова, это чело – оно Домициану понравилось. В очертании лба было в самом деле что-то львиное, как и сказал скульптор, напоминавшее лоб великого Александра[16]. А прическа – короткие кудри – придавала лицу сходство с некоторыми, широко известными, изображениями Геркулеса, мнимого предка Флавиев. Это сходство непременно разозлит некоторых господ сенаторов. Резко выступает нос с горбинкой. Раздувающиеся ноздри, приоткрытый рот так и дышат отвагой, властностью и страстью.
– Представьте себе, ваше величество, – объясняет художник, ободренный тем, что его замысел явно понравился императору, – какое впечатление должна производить статуя, когда она будет завершена. Если вы разрешите мне выполнить мой проект, ваше величество, эта статуя будет даже больше богом Домицианом, чем богом Марсом. Здесь главное внимание зрителя привлечет не традиционный шлем и не мощное тело, здесь каждая деталь рассчитана так, чтобы направить все внимание на лицо, ведь именно выражение лица и возносит бога над человеческой мерой. Это лицо должно показать всей земле, что означает титул – владыка и бог.
Император молчал, но своими выпуклыми близорукими глазами рассматривал модель с явно возраставшим благоволением. Да, удачная будет статуя. Марс и Домициан как бы сливаются в один образ. Даже волосы, которые он слегка отпустил на щеках, даже этот намек на бакенбарды, вполне подходят для бога Марса. А грозно сдвинутые брови, гордый и вызывающий взгляд, мощный затылок – все это обычные черты Марса, и вместе с тем по этим чертам каждый легко узнает Домициана. Да еще решительный подбородок, единственное, что у Веспасиана было хорошего, и единственное, что, к счастью, Домициан от него унаследовал. Он прав, скульптор Василий. В этом Марсе каждый увидит смысл титула, который Домициан позволил дать себе, титула владыки и бога. Он, Домициан, хочет быть подобен спокойному Марсу, он такой и есть: именно в своем спокойствии он угрюм, богоподобен, опасен. Таким его ненавидят римские аристократы, таким его любит народ, любят солдаты, и то, чего не мог добиться Веспасиан, несмотря на всю свою общительность, и не мог добиться Тит, несмотря на металлический звон в голосе, – а именно, популярности, ее Домициан добился своим угрюмым величием.
– Интересно, очень интересно, – заметил он на этот раз уже одобрительным тоном и добавил: – Вот это вы сделали неплохо, мой Василий.
Теперь у него впереди долгий вечер, и император не знает, чем ему заняться до того, как он ляжет спать. Когда он представляет себе лица людей, приглашенных им сюда, в Альбанское имение, то, хотя их очень много, он не находит никого, чье общество было бы ему желанно. Одной-единственной жаждет он; но позвать ее мешает гордость. Поэтому лучше уж он проведет вечер один, – более приятного общества, чем свое собственное, Домициан не находит.
Император приказывает зажечь все светильники в большом зале для празднеств. Вызывает и механиков, обслуживающих хитроумные машины, благодаря которым стены зала могут быть, по желанию, раздвинуты, а потолок убран вовсе, так что над головой открывается небо. В свое время все это было задумано им как сюрприз для Луции. Она не оценила его по достоинству. Многие его подарки она не ценила по достоинству.
В сопровождении одного лишь карлика Силена входит император в просторный, сияющий огнями зал. В своем воображении Домициан рисует себе толпы гостей. Он садится, принимает небрежную позу, невольно подражая статуе Марса, и представляет себе, как его гости в многочисленных покоях дворца сидят, лежат, ждут, полные страха и тревоги. Для забавы он заставляет уменьшать и увеличивать зал, убирать и опускать потолок. Затем некоторое время ходит взад и вперед, приказывает погасить большую часть светильников, так что видны только отдельные, слабо освещенные части зала. И снова шагает по огромному покою, за ним скользит его гигантская тень и крошечная фигурка карлика.
Приехала Луция или нет?
И тут же – ведь он еще бодр и готов работать дальше – Домициан вызывает к себе своего министра полиции Норбана.
Норбан уже лежал в постели. Когда Домициан вызывал к себе министров в неурочное время, большинство из них, в смущении, не знало, в каком виде им следует являться. С одной стороны, император не желал ждать, с другой – считал оскорбительным для своего сана, если явившийся по его зову не был одет с величайшей тщательностью. Однако Норбан знал, насколько он необходим своему владыке и насколько благосклонность императора неизменна, поэтому он просто набросил поверх сорочки парадную одежду и этим ограничился. Норбан был невысок, но статен; от его крепко сбитого тела еще веяло теплом постели, когда он явился к императору. Мощная квадратная голова, сидевшая на еще более мощных, угловатых плечах, была непричесана, энергичный подбородок небрит и казался от этого еще грубее, а локоны очень густых черных как смоль волос, хотя и жирно смазанные, все же не лежали на лбу, как того требовала мода, а беспорядочно и нелепо свисали на топорное лицо. Однако император простил своему министру полиции эту небрежность, может быть, он ее даже не заметил. Напротив, сразу же доверительно обратился к нему. Рослый человек обхватил рукою плечи низенького, стал с ним ходить по сумеречному залу, заговорил вполголоса, намеками.
Заговорил о том, что войной и отсутствием императора можно воспользоваться и слегка прочесать сенат. Еще раз, теперь уже вместе с Норбаном, просмотрел имена своих врагов. О каждом он был хорошо осведомлен, и память у него была отличная, но в крупной голове Норбана хранилось гораздо больше фактов, предположений, доказательств и доводов «за» и «против», Император продолжал ходить с ним взад и вперед деревянной походкой, тяжело опираясь на него, все так же обнимая его за плечи. Выслушивал, вставлял вопросы, высказывал сомнения. Он, не задумываясь, раскрывал перед Норбаном свои мысли и чувства, ибо питал к нему глубокое доверие, доверие, возникшее из тайников души.
Норбан, конечно, тоже упомянул Элия, первого мужа императрицы Луции, он-то и прозвал Домициана «Фузан», – Домициану так хотелось оставить его в списке. Этот Элий был жизнерадостным человеком. Он любил Луцию, вероятно, любит и теперь, любил также и многие другие приятные дары судьбы: свои титулы и почести, свои деньги, свою привлекательность и веселый нрав, благодаря которым у него всюду появлялись друзья. Но превыше всего любил он свое остроумие и охотно выставлял его напоказ. Уже при первых Флавиях у Элия из-за его острот бывали неприятности. При Домициане, отнявшем у него Луцию, ему тем более угрожала опасность и надо было бы вести себя с особой осторожностью и держать язык за зубами. Он же развязно объявлял, что знает в точности болезнь, от которой ему суждено умереть, и болезнь эта – меткая острота. Вот и сегодня Норбан рассказал императору о некоторых новых непочтительных остротах Элия. Передавая последнюю, он, однако, вдруг осекся.
– Ну, продолжай! – сказал император; Норбан колебался. – Продолжай же! – потребовал император.
Домициан побагровел, стал осыпать бранью своего министра, кричал, грозил. В конце концов Норбан сдался. Это была тонкая и вместе с тем непристойная острота насчет той части тела Луции, которая, так сказать, породнила Элия с императором. Домициан побелел.
– У вас слишком длинный язык, министр полиции Норбан, – наконец проговорил он с трудом. – Жаль, но ваш язык вас погубит.
– Вы же сами мне приказали говорить, ваше величество, – отозвался Норбан.
– Все равно, – возразил император и вдруг визгливо закричал: – Ты таких слов и повторять-то не смел, собака!
Однако Норбан был не слишком напуган. Император тоже скоро успокоился, и они продолжали деловито обсуждать кандидатов из списка. Как опасался и сам Домициан, за его отсутствие едва ли можно будет ликвидировать больше четырех врагов государства; увеличить их число – дело рискованное. Да и вообще Норбан был не вполне согласен со списком императора и упрямо настаивал на том, что надо отложить ликвидацию еще одного сенатора, внесенного в этот список. В конце концов императору пришлось вычеркнуть два имени из пяти, зато Норбан согласился включить еще одно, так что все-таки осталось четыре. К этим четырем именам Домициан мог наконец добавить букву М.
Это многозначительное «М» было первой буквой имени некоего Мессалина, а Мессалин слыл самой темной личностью в городе Риме. Так как он состоял в родстве с поэтом Катуллом[17] и принадлежал к одному из древнейших родов, все ожидали, что он примкнет к сенатской оппозиции. Вместо этого он стал на сторону императора. Мессалин был богат, и, обвиняя кого-либо в оскорблении величества – даже своих друзей и родственников, он делал это не ради выгоды: у него была страсть губить людей. И хотя Мессалин был слеп, никто лучше его не мог выследить тайные слабости людей, превратить простодушную болтовню в зловредные речи и безобидные поступки в преступные действия.
Если слепой Мессалин пускался по чьему-нибудь следу – человек этот считался погибшим; обвиненный им был заранее обречен. Шестьсот членов входило в состав сената, и в этом Риме императора Домициана они стали толстокожими, ибо знали, что тот, кто хочет отстоять себя, должен иметь весьма выносливую совесть. Но когда произносилось имя Мессалина, даже эти прожженные господа кривили губы. Коварный слепец требовал, чтобы ему не напоминали о его слепоте, он научился находить дорогу в сенат без проводника, один пробирался между скамьями на свое место, словно видел его. Каждый мог предъявить счет опасному и злобному слепцу; у одного он погубил родственника, у второго – друга, и всем хотелось, чтобы он на что-нибудь наткнулся и вспомнил о своей слепоте. Но никто не решался дать волю этому желанию, все уступали ему дорогу и убирали препятствия с его пути.
Итак, император наконец поставил после четырех имен букву «М».
С этим делом было покончено, и Норбан считал, что DDD мог бы, собственно говоря, спокойно отпустить его спать. Но император продолжал его удерживать, и Норбан догадывался почему: DDD очень хотелось услышать что-нибудь относительно Луции, уж очень хотелось узнать, что поделывала Луция на острове Пандатарии, куда ее сослали. Но тут император сам все испортил. Не надо было вначале так кричать на Норбана. А теперь Норбан будет настороже, он больше не даст обвинить себя в оскорблении величества. Он в достойной форме научит своего императора владеть собой.
Домициан же действительно сгорал от желания расспросить Норбана. Но как ни мало было у него тайн от этого человека, раз дело касалось Луции, он испытывал стыд и был не в силах задать ему вопрос о жене. Норбан, со своей стороны, продолжал назло ему упорно молчать.
И так как император не отпускал его, то вместо разговора о Луции Норбан принялся пересказывать ему всякие светские сплетни и мелкие политические новости. Упомянул и о подозрительном оживлении в доме писателя Иосифа Флавия, замеченном после того, как начались беспорядки на Востоке, он даже может показать копию составленного Иосифом манифеста.
– Интересно, – отозвался Домициан, – очень интересно. Наш Иосиф! Знаменитый историк! Человек, описавший и сохранивший для потомства нашу Иудейскую войну, человек, обладающий правом раздавать славу и позор. Чтобы прославить деяния моего божественного отца и моего божественного брата, он нашел очень много выразительных слов, обо мне же он упомянул весьма скупо. Значит, он теперь стал писать двусмысленные манифесты? Так-так!
И он приказал Норбану продолжать слежку за этим человеком, но пока его не трогать. Вероятно, Домициан до отъезда еще сам займется этим евреем Иосифом; ему давно уже хочется еще разок с ним побеседовать.
Луция, императрица, действительно прибыла под вечер в Альбанское именье. Она ожидала, что Домициан выйдет ей навстречу, чтобы приветствовать ее. Но она ошиблась, и это не столько рассердило ее, сколько показалось забавным.
Сейчас, пока шло совещание между Домицианом и Норбаном и ее имя все время вертелось у них на языке, хоть и не было названо, Луция ужинала в интимном кругу. Не все приглашенные рискнули явиться. Хотя Домициан и вернул Луцию, но еще неизвестно, как он отнесется к тем, кто сядет за ее стол. От грозных сюрпризов никто не застрахован; сколько раз бывало, что император, решив кого-нибудь окончательно погубить, перед тем выказывал обреченному особенную благосклонность.
Но те, кто ужинал у императрицы, притворялись веселыми, да и сама Луция была в отличном настроении. Невзгоды изгнания как будто не оставили на ней никаких следов. Молодая, статная, пышущая здоровьем, сидела она за столом, широко расставленные глаза под детски чистым лбом смеялись, все ее смелое, ясное лицо сияло. Ничуть не смущаясь, говорила она о Пандатарии, острове изгнания. Домициан, вероятно, потому назначил ей этот остров, чтобы ее пугали тени высокопоставленных изгнанниц, которых туда ссылали до нее, – тени Агриппины, Нероновой Октавии, Августовой Юлии.[18] Но тут он просчитался. Когда она думала об этой Юлии, она думала не о ее смерти, а о ее дружбе с Силаном и Овидием и о тех наслаждениях, из-за которых она, в сущности, и погибла.
Она во всех подробностях рассказала о своем пребывании на острове. Там было семнадцать ссыльных, а местных уроженцев около пятисот. Конечно, приходилось во многом себе отказывать, и потом, очень надоедало видеть все тех же людей. Скоро они знали друг друга до последних черточек. Совместная жизнь на голой скале, когда кругом только бескрайнее море, повергла некоторых в меланхолию, они становились раздражительными, возникали трения; временами между ссыльными разгоралась такая ненависть, что они, как пауки в банке, готовы были сожрать друг друга. Но в этой жизни была и хорошая сторона, – по крайней мере, не мелькают вокруг, как в Риме, бесчисленные лица, не надо быть все время на людях, живешь предоставленная самой себе. Она лично в этих беседах с самой собой сделала немало интересных наблюдений. Кроме того, бывали и сильные переживания, о которых в Риме и понятия не имеют, например, волнение, когда каждые шесть недель приходит корабль с почтой и газетами из Рима и со всякой всячиной, заказанной оттуда. В общем, закончила она, неплохое было время, а так как сама Луция была весела и полна жизни, то ей охотно поверили.
Оставался вопрос, как пойдет теперь ее жизнь в Риме и как сложатся ее отношения с императором. Об этом говорили без стеснения; особенно откровенно высказывались Клавдий Регин, сенатор Юний Марулл и бывший муж Луции Элий, которого она, не задумываясь, пригласила на этот ужин. Завтра же, заявил Элий, Луции станет совершенно ясно, чего ей в будущем ждать от Фузана. Если он сразу пожелает увидеться с ней с глазу на глаз, это плохой знак, значит, он намерен объясняться. Но вероятнее всего Фузан так же боится объяснений, как боялся их в свое время он, Элий, и потому постарается разговор оттянуть. Да, он, Элий, готов держать пари, что император завтра же пожелает обедать в кругу семьи, так как сначала захочет увидеться с Луцией на людях.
Что касается Луции, то она, видимо, не испытывала страха перед предстоящим объяснением с императором. Без робости называла она Домициана его прозвищами и в присутствии всех заявила Клавдию Регину:
– Вы должны потом уделить мне пять минут наедине, мой Регин, и посоветовать, что мне следует потребовать от Фузана, прежде чем с ним помириться. Если он, как мне говорили, действительно потолстел, пусть платит больше.
Как и большинство его гостей, Домициан плохо спал в эту ночь. Он все еще не осведомился, здесь ли Луция, но внутренний голос уверенно подсказывал ему, что она здесь и они опять спят под одной крышей.
Он раскаивался в том, что обидел Норбана. Если бы не это, он уже наверняка знал бы, чем Луция занималась на острове Пандатарии, куда была сослана. Она видела там немногих мужчин, и трудно себе представить, чтобы хоть один из них заслужил ее благосклонность. Правда, поручиться за нее никак нельзя, она способна на все. Может быть, она все-таки спала с кем-нибудь из этих мужчин, даже с рыбаком или просто с кем-нибудь из того сброда, который жил на острове. Но узнать правду он мог только от Норбана и сам же так глупо зажал ему рот.
И если бы даже он знал все, что происходило на Пандатарии, знал бы каждую минуту ее жизни, это едва ли повлияло бы на него. Волнуясь и ощущая неловкость и желание, ожидал он предстоявшего завтра объяснения с Луцией, оттачивал фразы, которыми хотел сразить ее, – он, великодушный Домициан, бог, – ее, грешницу, милостиво им прощенную. Но он знает заранее, что, какие бы фразы для нее ни приготовить, она только улыбнется, а в конце концов расхохочется своим звонким загадочным смехом и ответит что-нибудь вроде: «Ну, иди сюда, иди, Фузан, будет тебе!» – и что бы он ни говорил, что бы ни делал, ему никак не удастся внушить ей страх. Уж такая у нее натура. И если другие – его дерзкие аристократы, – может быть, именно из-за своей принадлежности к древнейшим родам, стали как-то уж слишком слабонервными и хилыми, в ней, в Луции, действительно еще живут здоровье и сила старых патрициев. Он ненавидел эту ее гордую силу, но Луция была ему нужна, он скучал по ней в ее отсутствие. Напрасно он уверял себя, что Луция – воплощение богини Рима и только поэтому нужна ему, только поэтому он и любит ее. Домициану была необходима просто Луция, женщина Луция, и только. И он чувствовал, что не сможет отправиться в поход, пока не поцелует маленький шрам под ее левой грудью; если она ему разрешит – это будет для него подарком. Ах, ей ничего нельзя приказать, она только смеется; среди всех известных ему живых людей она одна не боится смерти. Она любит жизнь, берет от каждого мгновенья все, что оно может дать, но именно потому ей и незнаком страх смерти.