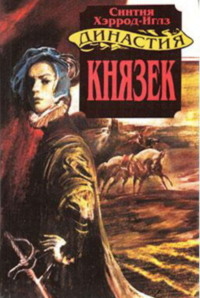полная версия
полная версияШевалье
Тут их настигла Хлорис и решительно сказала:
– Вы не должны спускаться во двор, моя госпожа. Это не Морлэнд.
Аннунсиата в нерешительности переводила взгляд с Хлорис на Доркас и обратно, потом с болью согласилась:
– Конечно, этикет надо соблюдать.
– Да, моя госпожа, – подтвердила Хлорис не без сочувствия, – потерпите чуть-чуть.
Минуты казались днями, неделями. Аннунсиата стояла с другими придворными дамами позади королевы на возвышении галереи, ожидая, когда дверь распахнется. Вот и король, надломленный, седой, вдруг сильно постаревший. В тишине он пересек зал к склонившейся в поклоне королеве, поднял ее бережно за руку и замер на мгновение, прежде чем крепко сжать ее в объятиях. Аннунсиата стояла так близко, что увидела слезы короля, и это невыразимо тронуло ее. Через плечо короля она встретилась глазами с Бервиком. Он был мрачен и взглянул на нее с каким-то странным выражением, какого она не смогла понять. Человечный жест короля освободил бурный поток и придворные дамы бросились приветствовать воинов, толпившихся в дверях за королем и Бервиком.
Невдалеке стоял высокий светловолосый ратник. Его темные глаза потускнели от недосыпания, а нос облез от солнечного зноя. Ничто не могло удержать Аннунсиату. В секунду она пересекла зал и обняла стройного сына. Он, тоже обнимая ее, повторял: «Мама! О, мама!», и Аннунсиата чувствовала влагу его слез на своих щеках.
– О, мой милый, – воскликнула Аннунсиата со слезами радости, – Ты живой. Слава Богу. Ты не ранен? О Боже, что за гадкий запах! С тобой все в порядке, Карелли?
Карелии не мог говорить, только крепче прижимал ее и глотал слезы, как ребенок, пытаясь через ее плечо улыбнуться Морису. Наконец, его объятия ослабли, и Аннунсиата слегка оттолкнула его от себя, чтобы получше рассмотреть.
– Я знаю, ты вряд ли рад такому возвращению, – после поражения, но мое сердце может вместить только одно. Об остальном я не думаю. Но где Мартин? Он здесь?
Ее взгляд недолгое время блуждал по сторонам. Если бы Мартин был здесь, она бы знала это. Потом она снова посмотрела на Карелли:
– Где он?
Темные глаза Карелли пригвоздили ее к месту.
– Нет, – прошептала она.
Карелли тряхнул головой, удерживая ее руки в своих. Шум в зале куда-то отступил, и ее окружила тишина, так что она слышала биение своего сердца, каждый удар, словно острый укол.
– Нет, Карелли, нет.
– Это случилось у бойни, матушка. В гуще сражения. Я не видел, но мои люди мне рассказали.
– Нет, – снова повторила она. Аннунсиата отрицательно качала головой, кровь, казалось, ударила ей в голову и зашумела, как море – как море у Альдбро, где они расстались. Но не навсегда, не навсегда!
– Он очень храбро сражался. Он бился и после того, как под ним пала лошадь, – продолжил Карелли.
Она снова покачала головой, ничего не желая слушать. Аннунсиата не верила, что бывает такая боль. Голоса гудели и смолкали около нее. Боль в горле не давала ей говорить, и она казалась заточенной в непонятную тишину, где могла видеть только лицо Мартина, изогнутую линию губ, улыбающиеся ей глаза. Темнота нахлынула на нее со всех сторон. Ей что-то говорили, пытаясь привлечь ее внимание, но она не хотела отвечать. Она хотела шагнуть в темноту и тишину к Мартину, прочь от боли, на которую она теперь обречена. Она захотела умереть, чтобы остановить боль.
* * *Ветреный день марта 1691 года. Холодный день, пыльный ветер, хотя небо бледно-голубое, как яйцо малиновки, говорило о близкой весне. В памяти Аннунсиаты зима осталась смесью сумерек и отблеска огня. Словно калека, она не отходила далеко от огня, и ее слуги обращались с ней, как с больной, тепло укутывали ее от ледяных сквозняков, осторожно передвигались вокруг нее, уговаривали ее поесть. Она мало говорила с ними, едва ли замечая их присутствие. Аннунсиата жила, как привидение в собственном мире, отгороженном от остального ее болью. Ее глаза наполняла непостижимая тайна. После потрясения от смерти Мартина постепенно пришло осознание случившегося, а затем наступило страшное безысходное одиночество. Оно накатывалось на грудь, как валун, каждое утро после пробуждения, и она носила его целый день, пока сон, наконец, не освобождал ее.
Аннунсиата жаждала сна как единственного избавителя от неизлечимой боли. Иногда во сне она видела Мартина и просыпалась со слезами на глазах. В часы пробуждения она только и могла, что вспоминать мельчайшие события, связанные с ним, заполняя свою темноту его образом, что не утешало ее, так как воспоминания переносили ее домой, в Англию, оставленную ею навсегда. Ей не осталось никакой надежды. Даже в смерти она будет разлучена с ним в наказание за их любовь, и она оказалась отлученной не только от своей страны, но и от своей церкви. С ним вместе она бы выдержала изгнание, уехала бы куда угодно и смогла бы жить. Без него изгнание внушало только страх.
Фэнд большую часть зимы спал у ее ног около огня, встряхиваясь только, когда Карелии вытаскивал его на мороз размяться. Для Карелли и Мориса изгнание не было столь ужасно. Оба раньше бывали за границей и у обоих было чем заняться. Морис сохранял жизнерадостность и посвящал себя хору королевской капеллы и созданию оркестра, чтобы исполнять пьесы, сочиненные им в честь короля и королевы. Карелли нашел новых друзей, особенно в лице Бервика. Теперь уже не было нужды отрицать и дальше, что Аннунсиата являлась дочерью принца Руперта. Действительно, по одной только причине, что это перестало храниться в тайне, ее семья могла использовать выгоды королевского происхождения.
Бервик был герцогом и незаконнорожденным сыном короля, Челмсфорд – графом и праправнуком короля. Они сражались вместе в Ирландии и симпатизировали друг другу, а в вынужденном безделье Сен-Жермена их дружба расцвела.
Всю зиму Бервик был частым гостем апартаментов графини Челмсфорд. Как-то само собой он был допущен в ее семейный круг, признан другими ветеранами Ирландской кампании и ветеранами Килликранке, известными как якобиты, потому что на латыни имя их короля звучало Якоб. При мерцающем свете огня голоса то возвышались, то стихали, рассказывая о старых кампаниях, блестящих атаках, отчаянных сопротивлениях и отваге. В рассказах звучал горький юмор. Вспоминались близкие товарищи, павшие в боях. Скучающие и одинокие воины тянулись, подобно Фэнду, к ее очагу, ощущая сочувствие и расположенность, и, хотя графиня редко говорила и казалась совершенно безучастной к тому, что происходило вокруг нее, именно к ней были обращены рассказы.
Вспоминали о войнах против турок, об осадах под беспощадным солнцем пустыни, когда раненые плакали, как дети от того, что их раны становились черными от пирующих на них мух. Для нее рассказывалось о кампании против Монмаусов на западе Англии, когда войско шло через грязь, на каждом шагу проваливаясь в нее по колено. Говорили и о гражданской войне, о лихих кавалерийских атаках под предводительством ее отца, высокого и статного, на белом коне. Говорили о Красавчике Данди из Шотландии, битвах Лаузана в Ирландии.
Подробно рассказывали о смерти ее родных – ее сына Руперта под Седжемуром, кузена Кита под Килликранке, ее брата Дадли Барда под Будой и Мартина у Войн. Она была благородной и прекрасной леди, происходившей из великой воинской семьи, и собиравшиеся ветераны дарили ей свои истории, так как находясь в изгнании и будучи небогатыми, они больше ничем не могли ей помочь. Их голоса, звучавшие постоянно сквозь зиму, служили воображаемым основанием тем фантазиям, в которых она жила. Но вне зависимости от того, понимали они или нет, понимала ли она или нет, она слышала их, и их простосердечная доброта утешала ее израненную душу. Смерть в бою являлась для них обычным делом, и это накладывало на воинов отпечаток святости, а их спокойная отвага проникала в нее.
Но сейчас, этим ветреным весенним днем они уезжали. Они составляли личную стражу короля – сто пятьдесят шотландских якобитов, большинство из которых офицеры. Но король, стремясь поддержать намного большее число изгнанников, совсем не имеющих денег, не мог дальше платить им. Якобиты испросили королевского дозволения оставить службу и записаться как частные лица в армию короля Франции. Король, хотя и с большой неохотой и чувствуя неловкость от того, что его воины вынуждены стать простыми солдатами, отпустил их. Ему ничего не оставалось, как только дать свое согласие. Итак, они вышли на смотр последний раз. Шлемы начищены, мундиры безукоризненно чистые, бороды тщательно подстрижены. Аннунсиата и ее семья стояли позади короля на ступеньках с остальными придворными, а у окон замка толпилась челядь.
Король медленно шел вдоль шеренги, останавливаясь поговорить с каждым воином и записывая имя каждого в записную книжку, чтобы никого не забыть. Упорный пыльный ветер уносил прочь их слова, но выражение их лиц было красноречивым. Затем король вернулся, поднялся по ступенькам, снял шляпу, оставшись с обнаженной головой под холодным солнцем. Лицо короля стало влажным от слез. Он поклонился ветеранам. Те преклонили колени и последний раз отдали ему честь. Потом они поднялись и пошли строем, уже не офицеры, искать свою смерть как чужестранцы в чужой земле, сражаясь за чужого короля.
Неделей позже Карелли разыскивал мать: он хотел обратиться к ней с просьбой. Он нашел ее в своих апартаментах, и впервые она сидела не у камина, а у окна. Правда, ее мысли, казалось, были где-то далеко, и Карелли сомневался, видит ли она сады и реку, но все же он заметил, что с того дня, когда воины ушли, она стала возвращаться к ним. Она выглядела очень бледной и худой, а на щеках были заметны следы слез. Аннунсиата носила черное платье, какое было на ней, когда Кловис читал им письмо от Эдмунда в Морлэнде, оно выглядело слегка потертым. С сожалением он вспомнил время, когда мать не позволяла себе надеть одно и то же платье более трех раз и не хранила его более двух лет. Тут Фэнд тихо заскулил, и она чуть качнула раздраженно головой, потом повернулась и посмотрела на него.
– Моя дорогая матушка, – обратился он мягко, преклоняя колени около нее, так что их лица оказались на одном уровне.
– Карелли, – промолвила она.
– Матушка, я должен что-то сказать тебе. Она не выказала никаких чувств, но при этом не сводила с него глаз, ожидая дальнейшего.
– Я хочу испросить твоего позволения просить короля Франции принять меня на службу.
– Ты хочешь покинуть меня? – спросила она после долгого молчания. – Карелли, ты уедешь от меня?
– Матушка, я ничего не могу поделать, – ответил он нежно. – Я не могу остаться здесь навсегда, ничего не делая, и у меня нет денег кроме тех, что ты мне даешь. Это не жизнь для меня, ты должна это понять.
Аннунсиата вздохнула. Карелли принял это за согласие и продолжал:
– Итак, мы думаем...
– Мы? – прервала она сына.
– Милорд Бервик и я.
– А-а, Бервик, – произнесла она, будто этим все объяснялось.
– Мы думаем, что мы должны попробовать служить во французской армии. Король Франции замышляет новую кампанию во Фландрии, и с нашим опытом и происхождением он вполне возможно предоставит нам хорошие должности. Бервик собирается испросить позволения у своего отца сегодня утром, и таким образом я... – он не мог вынести ее выражения лица в нем появились раздраженность и настороженность.
– Мне жаль, матушка, но ты должна понять, мы, прежде всего, преданны королю, но...
– Да, – сказала она, оборвав его. – Я понимаю.
Аннунсиата поднялась и стала ходить взад и вперед с нетерпеливостью больного, чье беспокойство возрастает с болью. Карелли тоже встал и наблюдал за ней, и вдруг она почудилась ему вовсе не матерью, какой-то чужой женщиной, с которой ему случайно приходится делить крышу над головой. Наконец, она остановилась, повернулась к нему, и он понял, что мать сдерживает себя с некоторым усилием.
– Хорошо, ступай сражаться во Фландрию, граф. Но помни, что твой первый долг – твой король, когда ты ему нужен.
Таким было ее дозволение, но Карелли остался не вполне доволен им, думая, что она сердится. Он колебался и неопределенным движением попытался прикоснуться к ней. Она тряхнула головой, а потом улыбнулась странной улыбкой.
– Нет, – остановила она его, – все хорошо. Храни тебя Господь, сын мой. Храни тебя Господь, Карелли.
* * *Монастырь в Шале располагался недалеко от Сен-Жермен, если ехать туда верхом или в карете. Его часто посещала королева из-за сестры, к которой она когда-то надеялась присоединиться, прежде чем ее склонили все же выйти замуж за английского принца Джеймса. Королева любила гулять и беседовать с монахинями, бродить по красивым садам, причащаться и размышлять среди мирной природы, вдалеке от гнета двора. Настоятельница монастыря, сестра Анжелика, женщина средних лет с умным взглядом и живой манерой была похожа на добрую, умелую жену помещика средней руки. Она являлась ближайшей подругой и доверенным лицом королевы, и именно к ней обратилась Аннунсиата за помощью осенью 1691 года.
Леса, через которые она ехала в Шале, начинали окрашиваться по-турецки пышными красками, насыщенными малиновыми и золотыми цветами. Окна маленькой монастырской приемной, в которую ее провели, были открыты. Под окном в клумбе отцветали желтые, оранжевые и темно-красные ноготки и алые анемоны.
Сестра Анжелика сидела неподвижно со сложенными руками, ожидая, когда Аннунсиата расскажет ей о своих заботах, но молчание длилось уже долго и она, не выдержала:
– Здесь вы можете говорить свободно, миледи Челмсфорд. Ничто не выйдет за пределы этих стен.
Аннунсиата все еще не могла подобрать нужных слов, и сестра Анжелика продолжала:
– Чем я могу служить вам?
– Я бы хотела вернуться в лоно церкви, – произнесла, наконец, Аннунсиата. – Но... Боюсь я – не смогу.
Монахиня подождала разъяснений, а затем сказала ласково:
– Мадам, любовь Бога выше всего, что можно представить, и для искренне раскаявшегося...
– Ах, как раз это меня и беспокоит, – воскликнула Аннунсиата, – я не могу раскаяться, потому что не могу сожалеть о том, что сделала. Если бы прошлое вернулось, я бы охотно сделала то же самое снова, да, охотно.
И она рассказала сестре Анжелике о любви к Мартину. Это не было легко, рассказ не изливался из нее свободно, слова произносились с трудом и болью, но все же она почувствовала облегчение, выговорившись о том, чего не могла обсуждать ни с кем, кроме самого Мартина. Когда она закончила, она замерла и сидела изнуренная, опустив глаза вниз на свои руки.
Сестра Анжелика посмотрела на нее с жалостью, на склоненную голову, на мягкие, словно детские кудри, похожие на прическу француженки, с искусно сделанными накладными волосами, на длинные, прекрасные руки, выражавшие печаль.
– Мадам, – произнесла она, наконец, – мир оказался бы намного беднее, если бы Бог был менее любящим и менее великодушным, чем человек, не правда ли? Очень многие в глубине своего сердца не стали бы вас осуждать, так неужели Бог не поймет вас? Конечно, нужен порядок. Без законов был бы хаос. Но Бог даровал нам, единственным из его творений, способность спрашивать и решать, и почитать его душой и разумом.
Аннунсиата посмотрела на нее с пробуждающейся надеждой.
– Вера, мадам, облегчает нашу вину, наше огорчение и стыд. Мы обращаемся к Богу со словами сожаления о том, что нанесли обиду ему, мы молим его о прощении, мы обещаем больше не грешить. А сейчас, миледи, можете ли вы сказать такие же слова от всего сердца? Вы сожалеете, что причинили обиду Богу? Будете ли вы избегать поступать неправедно?
Аннунсиата безмолвно кивнула. Сестра Анжелика поднялась и отпустила ее руку.
– Тогда пойдемте, мадам. Пойдемте со мной в исповедальню. Отец Дюбуа уже там. Ему исповедуются сестры. Идите, облегчите свое бремя и будете прощены, а потом останьтесь для мессы и причаститесь с нами.
Аннунсиата встала, как послушный ребенок, и монахиня проводила ее до дверей с напутствием:
– Печаль окажется суетой, и грех – тоже. Бог дает нам жизнь не без умысла. Мы не должны попусту расточать его дары.
Позже Аннунсиата осталась одна в уголке часовни, отгороженном ширмой от остального помещения для сестер. На высоком алтаре свечи погасли, и только лампа святилища испускала ровный свет. Но слева от Аннунсиаты на малом алтаре свечи были зажжены. Их бледно-золотое, почти белое пламя освещало белую одежду, золотые и хрустальные подсвечники и статую богоматери. Статуя была вырезана из дерева, одеяние окрашено в голубой и белый цвета, а лицо и руки – позолочены. Она напомнила Аннунсиате статую в церкви Морлэнда. Но эта была не такой старой и ее руки были сложены у груди, прижимая окрашенную деревянную лилию.
Аннунсиата села и осмотрелась. Одна, по крайней мере на своей половине, она снова возвратилась в лоно церкви, в ее охраняющие и любящие руки, чьи объятия она чувствовала всю жизнь. Она посмотрела на статую, но увидела только лицо той, что осталась в Морлэнде – усталое, ласковое позолоченное лицо, которому она часто поклонялась. Измученная болью, наконец-то исчезнувшей, она могла только думать, что все любили одно и то же, нечто неизменное. Иначе как бы она могла чувствовать себя ближе к Мартину сейчас, чем в любое другое время после их разлуки на берегу моря у Альдбро.
* * *Весной 1692 года Карелли вернулся в Сен-Жермен, прискакав до подхода основных сил. Апартаменты его матери пустовали. Поискав немного, он обнаружил в капелле Мориса, одного, уставившегося в пространство и играющего странные, не связанные ноты на органе. Он не выказал никакого удивления, когда поднял глаза и увидел Карелли, подбоченившегося и улыбавшегося ему:
– Как я и полагал, я должен был тебя здесь найти.
– Я только думал, – ответил Морис, – что здесь спокойнее.
Карелли хлопнул его по плечу:
– Ты что, не рад мне, брат?
– Ну что ты, – неопределенно отвечал Морис, а затем нахмурился.
– А что ты здесь делаешь?
– Король Людовик возвращается из Фландрии. Бервик и я прибыли, чтобы увидеть наших дорогих родителей и сообщить им некоторые новости. Готовятся большие дела, Морис. А где же наша матушка?
– Она в Шале, в монастыре. У нее там много дел теперь.
– Вижу, ты не одобряешь ее, – сказал Карелли слегка удивленно.
– Пожалуй. Мне кажется порой, что из нее хотят сделать папистку.
– Отчего это тебя волнует? – поинтересовался Карелли.
Морис взглянул на него на мгновение, будто желая знать, насколько он сможет понять, а затем сказал:
– Ты знаешь, что королева вновь носит ребенка?
Получив предостережение, Карелли не возражал против смены предмета разговора.
– Да, я слышал. Король должен быть очень доволен. Если это сын, это будет ударом для Узурпатора. И, возможно, это развеет досужие домыслы сразу и навсегда. Хороший знак для нового предприятия.
– Какого предприятия? – спросил Морис рассеянно.
– Как же тяжело заинтриговать тебя, брат, – рассмеялся Карелли. – Король Франции решил предпринять еще одно наступление на Узурпатора во славу нашего короля!
– Неужели? Как он любезен, – произнес Морис. – Но, думаю, сместить голландца Вильгельма с трона также и в его интересах.
– Любезен или нет, однако он предоставил нам весь французский флот, которым уже сейчас можно переправить пятнадцать ирландских батальонов из Франции в Англию. Если помощь, обещанная в Англии, удовлетворит их, все будет завершено в кратчайшие сроки, и мы снова вернемся в Англию до дня Святого Джона. О, подумай, Морис, – отметить середину лета снова в Морлэнде! Пиры, танца, костры...
Он заметил выразительный взгляд Мориса и остановился.
– У тебя другие чувства, правда? Ты никогда не тосковал по дому, как остальные.
– Одно место ничем не отличается от другого. Костры во Франции горят так же ярко, как и в Англии. Голод грызет желудок англичанина на меньше, чем француза.
– Но стремишься ли ты вернуться домой?
– Домой? Весь мир мой дом. Глаза Бога видят меня, куда бы я ни уехал, поэтому как я могу помыслить себя на чужбине? Ничего не могу с этим поделать, Карелли, – добавил он в сильном волнении, – я иначе мыслю, чем ты.
– Я не виню тебя. Это странно, вот и все, – он поколебался. – Почему ты не одобряешь папизм?
Морис опять изучающе посмотрел на него.
– Не знаю, поймешь ли ты. Не знаю, смогу ли я объяснить. Это слишком необычно.
Карелли выжидающе наблюдал за ним, и Морис продолжал, подбирая нужные слова:
– Понимаешь, Бог создал всех нас, а мы придумали разные способы восхвалять его – паписты одним образом, язычники – другим.
Карелли пытался скрыть свое удивление. Морис говорил:
– Видишь ли, когда твоя собака ощенится, ты постелешь для выводка солому в самом теплом месте сарая, где они будут в безопасности и довольстве. Если же один из щенков станет лизать тебе руки в благодарность, ты можешь полюбить его сильнее прочих. Но ты же не выкинешь остальных на холод умирать, потому что они не благодарили тебя.
Карелли отвернулся, ощущая неловкость.
– Не думаю, что тебе стоит об этом говорить. Мне кажется, это... Богохульство.
– Я знал, что ты не поймешь.
Наступило молчание. Отодвинув табурет и поднявшись, Морис нарушил его.
– Ты бы желал съездить в Шале и сообщить матушке новость?
– Ты поедешь со мной? – с сомнением спросил Карелли.
Он боялся, что обидел брата, но Морис ответил весело:
– Да, конечно. Мне следует размяться.
Они дошли до дверей. Карелли нерешительно протянул руку брату, и Морис с едва заметной улыбкой шагнул ближе, так что можно было дружески положить руку на плечо.
Глава 3
Начало июня всегда подобно тихой гавани между штормами появления ягнят и штормами стрижки овец. Маленький Матт спозаранку ушел на опушку Уилстропского леса охотиться на кроликов. С двумя самцами в походной сумке он повернул домой, избрав длинный путь через вересковую пустошь Марстон Мур. Он совсем не спешил, поскольку местность завораживала его. Отары овец паслись на хорошей, сочной траве под недремлющим оком Старого Конна, сидящего покойно на гребне горы, известной как Слива Кромвеля. Говорили, что именно здесь расположился генерал Кромвель со своим войском перед сражением у Марстон Мура.
Старый Конн отметил появление Матта кивком и оценивающим взглядом, брошенным на кроликов в сумке, но он не истратил ни одного слова на бессмысленное приветствие. Матт присел рядом, чтобы отдышаться. Оба, старик и мальчик, пристально глядели через пустошь на леса. Матт пытался представить битву, людей, лошадей и пушечную пальбу.
Наконец, как будто прочитав мысли Матта, Старый Конн произнес:
– Это было, когда родился мой сын Конн, отец Дейви.
– Ты сражался, Конн? – спросил Матт.
Он знал, что старик Конн участвовал в битве, и слышал его рассказы ни один раз, но никогда не уставал от них.
– Ты ходил в атаку с принцем Рупертом?
– Конечно. Я, Джек и Дик. Мы последние остались из тех, что ушли с хозяином Китом. Джека тяжело ранили в руку, и он умер через две недели, так и не оправившись. Вот какая была битва. Чем дольше она тянулась, тем труднее залечивались раны. Я уцелел, слава Богу. Джек и Дик, мастер Кит, и я, да еще Хамиль Гамильтон, брат жены мастера Кита, наш капитан. Бог мой, что это был за бой! Нас застигли врасплох, но принц Руперт сплотил нас, и мы атаковали, атаковали и снова атаковали. Хозяин Кит был убит, Дик тоже. Я потерял Джека из виду, а потом меня вышибли из седла. К концу мы вынуждены были уйти в леса, как раз туда, где ты ловил кроликов.
Он умолк, давая возможность переварить сказанное. «Там, где я ловил кроликов, – подумал Матт, – люди, уставшие, истекающие кровью, томимые жаждой, скрывались от преследующего их врага».
– Некоторые из нас бежали – немногие. Люди лорда Ньюкасла пали все, как один, там, где сейчас загоны. Принц Руперт собрал нас всех вместе на следующий день, чтобы идти на север к Ричмонду, но с меня было довольно. Джек ушел с капитаном Гамильтоном, и мы больше ни разу не виделись. Я оставил их, как только мы пересекли мост возле Уотермилла, и вернулся в город.
– А где была твоя жена все это время, Конн? – поинтересовался Матт.
– Она ехала в обозе с другими женами и другими женщинами. Она была на сносях, когда мы дошли до Йорка, поэтому мне пришлось оставить ее в дальней избе, где жил пастух Гарт. Его тоже убили у Марстон Мура. Когда Я вернулся в его дом, мой ребенок уже родился. Я остался там, помогал вдове Гарта по хозяйству, заботился о ней, пока она не умерла, меньше чем через год. Так я и живу там, молодой хозяин, уже много лет.
Матт, довольный, вздохнул. Каждый раз Конн рассказывал историю, внося в нее небольшие изменения.
– Да, ты до сих пор живешь там, и твой сын, и твои внуки, – согласился Матт. – Где сегодня Дейви?
– Он помогает на ферме Хай Мур. В моем доме нет места бездельным рукам. Впрочем, теперь там новая хозяйка. Она плодовита, как кошка, и прирожденная бездельница. Уж я-то могу судить о женщинах.