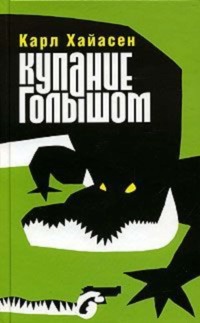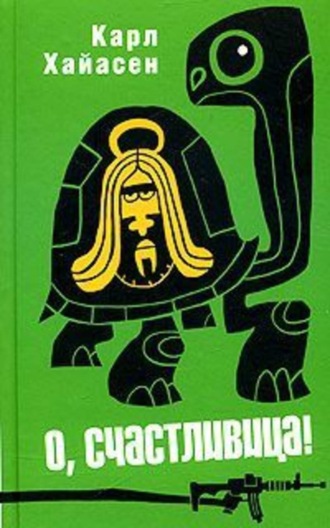 полная версия
полная версияО, счастливица!
– Я хочу сказать, Джолейн, никто никогда ничего не выигрывал. Никто на моей памяти.
– Ну, пожалуй, вы правы.
– Ужасно обидно, что вам придется с кем-то делить джекпот. – Триш говорила с неподдельным сочувствием. – Не то чтобы эти четырнадцать миллионов баксов выеденного яйца не стоят, но было бы лучше, выиграй вы все одна. И для Грейнджа лучше.
Деменсио бросил быстрый взгляд на жену.
– Да и так для города хорошо, – сказал он. – Это нас прославит, как бог свят.
– Кофе хотите? – осведомилась Джолейн Фортунс.
– И что же дальше, девочка? – спросила Триш.
– Наверное, покормлю черепах.
Триш нервно хихикнула:
– Вы понимаете, о чем я. Может, новая машина? Участок пляжа, а?
Джолейн Фортунс склонила голову набок:
– Это вы о чем?
С Деменсио было достаточно. Он встал, поддернув брючины:
– Не стану врать. Мы пришли просить об одолжении. Джолейн просияла:
– Уже больше похоже на правду. – Она заметила, как руки Триш напряженно сжались.
Деменсио натужно откашлялся.
– Очень скоро вы будете настоящей знаменитостью – газеты, телевидение… Я тут подумал, может, когда они спросят вас, откуда такое везение, вы могли бы замолвить словечко.
– За вас?
– За Мадонну, да.
– Но я никогда не была в церкви.
– Знаю, знаю. – Деменсио развел руками. – Я просто подумал. Я вряд ли могу обещать что-то взамен. Вы же теперь как-никак миллионерша.
Пусть и надеясь изо всех сил, что Джолейн не станет просить о комиссионных, он все же готов был поделиться десятью процентами.
– Это было бы просто одолжение, он же говорит, – тихо добавила Триш. – Ни больше ни меньше. Услуга для друга.
– Скоро Рождество, – добавил Деменсио. – Любая мелочь в подмогу. Любая ваша помощь.
Джолейн взяла их под руки и проводила к двери. Она сказала:
– Что ж, несомненно есть о чем подумать. Да, Триш, пирог просто выдающийся.
– Вы так добры.
– Точно не хотите черепашку?
Деменсио и его жена друг за другом осторожно спустились с крыльца.
– В любом случае – спасибо, – хором сказали они и в тишине проследовали домой. Триш размышляла, не наврали ли ей: по Джолейн никак не скажешь, что она выиграла хотя бы тостер, не говоря уже о джекпоте в «Лотто». Деменсио между тем заключил, что Джолейн либо конченый псих, либо превосходная обманщица и что определенно нужно дополнительное расследование.
Бодеан Джеймс Геззер тридцать один год совершенствовался в искусстве поиска виноватых. Его личное кредо – Что ни случается плохого – всегда по вине других – при наличии воображения распространялось на любые обстоятельства. Оно и распространялось.
Временами беспокоящее его кишечное расстройство – несомненно, результат питья молока от тайно облученных коров. Тараканы в его квартире на самом деле плодятся у замарашек-иммигрантов за соседней дверью. Затруднительное финансовое положение вызвано выходом из строя банковских компьютеров и коварными сионистами с Уоллстрит, а невезение на рынке труда Южной Флориды – предубеждением к англоговорящим претендентам. Даже у плохой погоды имеются виновники – загрязнение воздуха из Канады, разрушение озонового слоя и реактивные потоки самолетов.
Обвинительные таланты Бода Геззера оттачивались с детства. Младший из трех сыновей, он пошел по кривой дорожке и обнаружил раннее пристрастие к прогулам, вандализму и магазинным кражам. Его родители, оба – учителя, упорно пытались вернуть мальчика на путь истинный, но в итоге получали только град упреков в его несчастьях. Бод предпочел считать, что подвергается гонениям по причине маленького роста, а вина за это возлагалась на безответственное отношение матери к своему питанию во время беременности (и прожорливое соучастие в том отца). И Джин, и Рэндалл Геззеры были невысокими от природы, но сие не имело для юного Бода никакого значения – по телевизору он слышал, что люди как вид становятся выше с течением эволюции, и, следовательно, ожидал перерасти родителей по меньшей мере на дюйм-другой. Однако Бод перестал расти в восьмом классе – факт, с прискорбием зафиксированный во время проводившейся каждые два месяца семейной церемонии измерения с отметками на кухонном дверном косяке. Разноцветная последовательность карандашных штрихов подтверждала худшие опасения Бода: оба его старших брата уверенно тянулись дальше, тогда как он сам – остановился, завершил этот путь в почтенном четырнадцатилетнем возрасте.
Горькое осознание этого факта ожесточило Бода Геззера против родителей-пожирателей глютамата натрия – и против общества в целом. Он стал «криминальным элементом» округи, наглым зачинщиком мелких преступлений и нетяжкой уголовщины. Он усердно трудился над образом бандита, курил сигареты без фильтра, сплевывал в общественных местах и отчаянно матерился. Время от времени он нарочно провоцировал братьев на собственное избиение, чтобы потом выпендриться перед дружками тем, что побывал в жестокой бандитской схватке.
Родители Бода, учителя, не верили в пользу побоев и (за исключением единственного случая) ни разу не подняли на него руку. Джин и Рэндалл Геззеры предпочитали «обсуждать» проблемы со своими детьми и провели много часов за обеденным столом, всерьез «общаясь» с нахальным Бодеаном. Сын был более чем достойным соперником. Он не просто овладел риторическими навыками матери и отца, а оказался вдобавок безгранично изобретателен. Что бы ни случалось, Бод всегда выдавал тщательно продуманное оправдание, от которого не отступался ни в какую, даже перед лицом неоспоримых фактов.
К восемнадцатилетию его досье арестов по делам несовершеннолетних насчитывало три страницы, и изнуренные родители вверили свою судьбу в руки дзэн-консультанта. А Бод окончательно вошел во вкус своего положения семейного изгоя, дурного семени, никем не понятого. Он мог объяснить что угодно – и объяснял в два счета. Когда ему стукнуло двадцать два, он жил на пиве, бесстыжих разговорах и весьма удобных многочисленных обидах. «Я у Бога в черном списке, – объявлял он в пивных, – так что держитесь-ка, вашу мать, подальше».
Череда опасных знакомств в конце концов привела Бода Геззера к культуре ненависти и безнадежного фанатизма. Раньше, перекладывая на других вину за свои несчастья, Бод норовил задействовать обычных представителей власти – родителей, братьев, полицейских, судей – без учета их расы, религии или этнической принадлежности. Он замахивался широко, но довольно бестолково. Ксенофобия и расизм подлили к его брюзжанию нового яда. Теперь это был не просто какой-то полицейский, сцапавший Бода с крадеными видеомагнитофонами, а полицейский-кубинец, определенно имевший зуб на англоамериканцев; не просто лицемерный адвокат, отправивший Бода за решетку, а лицемерный адвокат-еврей, явно объявивший вендетту христианам; и, наконец, не просто кокаинист-поручитель, отказавший ему в залоге, а насквозь прококаиненный поручитель-негр, только и мечтавший, чтобы Бода оставили в тюрьме и затрахали в задницу до смерти.
Политическое пробуждение Бода Геззера совпало с запоздалым пересмотром его противозаконных привычек. Он решил бросить кражи со взломом, угон машин и прочие преступления против собственности в пользу фальсификации, фиктивных чеков и тому подобных так называемых документальных преступлений, на которые судьи редко расходовали время тюрем штата.
Как нарочно, движение ненависти, заинтересовавшее Бода, убежденно считало мошенничество формой гражданского неповиновения. Брошюры милиции провозглашали ограбление банков, коммунальных служб и компаний по выпуску кредитных карт попросту аннулированием долгов правительства Соединенных Штатов и всех либералов, евреев, гомиков, лесбиянок, негров, «зеленых» и коммунистов, наводнивших страну. Боду Геззеру эта логика пришлась по душе. Однако с выдачей поддельных чеков ему везло немногим больше, чем с заведением «олдсмобилей» без ключа зажигания.
В промежутках между всегда недолгими тюремными заключениями он украшал внутренности своей квартиры антиправительственными плакатами, которые покупал на оружейных выставках: Дэвид Кореш [4], Рэнди Уивер [5] и Гордон Каль [6] в героическом виде.
Каждый раз, когда Пухл бывал там, он салютовал бутылкой «бадвайзера» с длинным горлышком мученикам, которых почтили на стене Бода. Из телепередач Пухл получил смутное представление о Кореше и Уивере, но о Кале не знал почти ничего, за исключением того, что тот был фермером из Дакоты и протестовал против налогов, а федералы вышибли ему мозги.
– Проклятые штурмовики, – брюзжал сейчас Пухл, механически повторяя выражение, которое подцепил на встрече ополчения в Биг-Пайн-Ки, в узком кругу, но весьма оживленной. Он отнес свое пиво к дивану-футону, куда и плюхнулся, вытянув ноги и расслабившись. Его мысли быстро перетекли от павших патриотов к собственному светлому будущему.
Бод Геззер сгорбился в обеденном уголке кухни, расправив перед носом газету. Он злобствовал с тех самых пор, как узнал из проспекта лотереи, что он и Пухл не получат сразу все 14 миллионов – деньги будут выплачиваться равными суммами в течение двадцати лет.
Хуже того: эти деньги облагались налогами!
Пухл, который неплохо сек в цифрах, попытался приободрить Бода Геззера: мол, 700 000 в год, даже до налогов, – все равно очень крупная сумма.
– Нам не хватит, чтоб снарядить отряд патриотов, – огрызнулся Бод.
Пухл сказал:
– Правила есть правила. Ну чё тут сделаешь? – Он встал, чтобы включить телевизор. Не получилось. – Эта штука пашет или как?
Бод разгладил складки на газете.
– Господи, ты что, не понял? Это же все, о чем мы говорили, все, за что стоит бороться, – жизнь, свобода, цель, счастье, – все сошлось.
Пухл грохнул по сломанному телевизору ладонью. Он был не в настроении выслушивать очередную речь Бода, хотя, кажется, этого не миновать.
– Мы наконец-то сорвали куш, и что же происходит? – продолжал Бод Геззер. – Ебаный штат Флорида собирается платить нам в год по чайной ложке. А потом все, что мы получаем, хапают черти из Налогового управления!
Пухл слушал друга, и его радужные чувства стухали. Он всегда считал лотерею потенциальным способом получить массу денег на халяву, ни хрена не делая. Но, как разъяснял Бод, «Лотто» – лишь очередной зловещий пример правительственного вмешательства, налогового бремени и либерального обмана.
– Думаешь, это случайность, что нам придется эти деньги с кем-то делить?
Горлышком пивной бутылки Пухл помассировал свой заросший загривок. Он не понимал, к чему клонит друг.
Бод стукнул костяшками пальцев по столику в углу:
– Вот мой прогноз: этот говнюк, у которого второй билет, – он негр, еврей или кубинец.
– Да ну!
– Вот так они и делают, Пухл. Наебывают порядочных американцев, таких, как мы с тобой. Думаешь, они дадут двум белым парням заполучить весь джекпот? Только не сейчас, ни в коем разе! – Нос Бода уткнулся обратно в газету. – Где этот Грейндж? Где-то рядом с Тампой?
Бодова теория ошеломила Пухла. Он не понимал, как в лотерее можно смухлевать. А если да, как же ему и Боду удалось выиграть хотя бы половину?
За краткий период их дружбы Бодеан Геззер объяснял многочисленные головоломные случаи, ссылаясь на тайные заговоры, – к примеру, почему крупные авиакатастрофы обычно случаются на Рождество.
Бод знал ответ, и, естественно, дело тут было в правительстве США. Федеральное управление гражданской авиации постоянно пребывало под угрозой сокращения бюджета, а решающее голосование обычно происходило в декабре, перед роспуском Конгресса на каникулы. Поэтому (поведал Бод Пухлу) ФУА всегда устраивало диверсию с самолетом поближе к Рождеству, зная, что политикам духу не хватит урезать финансирование авиабезопасности, когда весь мир будет смотреть на искалеченные тела, извлекаемые из обугленного фюзеляжа.
– Ты сам подумай, – сказал Бод Геззер, и Пухл думал. Правительственный заговор казался правдоподобнее ужасного совпадения – целая же куча авиакатастроф.
Но вот мошенничество с лотереей штата – все же другое дело. Пухл сомневался, что даже либералы смогли бы такое провернуть.
– Чё-то не сходится, – угрюмо сказал он. Толпы обычных белых ребят тоже выигрывали, он видел их лица по телевизору. К слову, лучше бы эта чертова штука работала, он бы спокойно смотрел футбол и мог бы не думать о том, что говорит Бод Геззер.
– Вот увидишь, – настаивал Бод. – Увидишь, что я прав. Кстати, где этот долбаный Грейндж, штат Флорида?
– На севере, – пробормотал Пухл.
– Помощи от тебя! Отсюда все на севере.
Из-под ремня с заклепками Пухл извлек «кольт-питон»-357 и несколько раз продырявил щеки Дэвида Кореша.
Бод Геззер выпрямился:
– А с тобой-то что, бля?
– Мне не нравится мое состояние. – Пухл запихнул пистолет за пояс, горячим стволом к бедру. Не вздрогнув, прибавил: – Если человек выигрывает четырнадцать миллионов баксов, он должен быть счастлив. А я – нет.
– Вот именно! – Бод Геззер бросился через комнату и сгреб Пухла в липкие дрожащие объятия. – Теперь ты видишь, – голос Бода понизился до шепота, – до чего докатилась эта наша страна. Ты видишь, что такое настоящая битва!
Пухл с серьезным видом кивнул, оставив при себе свои сомнения – битва-то явно представлялась тяжелым трудом, а тяжелый труд ну никак не представлялся тем, чем следует заниматься новоиспеченному миллионеру.
Тенденция к сокращению, охватившая газеты в начале девяностых, должна была поддержать раздутые прибыли, в которых этот бизнес купался большую часть столетия. Новая бездушная порода корпоративных управленцев, не обремененная страстью к серьезной журналистике, нашла простой способ снизить издержки при издании ежедневных газет. Первой пострадала глубина.
Урезание пространства для новостей моментально оправдало увольнения. Во многих газетах сокращение стало излюбленным поводом избавиться от таких роскошеств, как отделы криминальной хроники, специальные пригородные издания, иностранные корпункты, специалисты по вопросам медицины и по окружающей среде и, конечно, команды журналистских расследований (которые всегда противостояли гражданским титанам и важным рекламодателям). Газеты тончали и мельчали, а их издатели все усерднее заверяли Уолл-стрит, что читатели ничего не замечают и ни о чем не волнуются.
К несчастью, Том Кроум нашел себе уютную нишу в уважаемой, но обреченной газете и был уволен, когда в бизнесе оказался излишек оголодавших опытных писателей. К еще большему несчастью, он достиг пика своей карьеры репортера-расследователя во времена, когда большинство газет уже не желало платить за такие навыки.
Скажем, «Реджистеру» требовался ведущий колонки о разводах. Синклер заявил об этом Кроуму на собеседовании.
– Нам нужно нечто смешное, – сказал Синклер. – Оптимистичное.
– Оптимистичное?
– У этой темы растет читательская аудитория, – сказал Синклер. – Вы когда-нибудь разводились?
– Нет, – солгал Кроум.
– Превосходно. Ни груза, ни горечи, ни гнева.
Фетишем Синклера была аллитерация – тогда Кроум столкнулся с ней впервые.
– Но в вашем объявлении в «Редакторе и Издателе» говорилось – очеркист.
– Это и будут очерки, Том. Пятьсот слов. Дважды в неделю.
Кроум подумал: я знаю, что я сделаю, – я перееду на Аляску! Потрошить лосося на склизкой леске. Зимами писать роман.
– Простите, что отнял у вас время. – Он встал, пожал руку Синклеру (которая и впрямь была мягкой, гладкой и похожей на дохлого лосося) и улетел домой в Нью-Йорк.
Неделей позже редактор позвонил ему и предложил пост очеркиста с годовым жалованьем в 38 000 долларов. Никакой колонки о разводах, хвала господу, – ответственный редактор «Реджистера», как выяснилось, не нашел в этой теме ничего оптимистичного. «Четырежды влипал», – шепотом объяснил Синклер.
Том Кроум взялся писать очерки, потому что нуждался в деньгах. Он копил на хижину на острове Кадьяк или, может, где-то поближе к Фэрбенксу, где поселится в одиночку. Он собирался купить снегоход и фотографировать диких волков, карибу, а со временем гризли. Он собирался написать роман о выдуманной актрисе по имени Мэри Андреа Финли: в качестве прообраза выступит реальная особа по имени Мэри Андреа Финли, которая последние четыре года жизни успешно уклонялась от развода с Томом Кроумом.
Он упаковывал вещи для поездки по поводу «Лотто», когда Кэти вернулась из церкви.
– Куда?
Ее кошелек шлепнулся на кухонный стол, точно шлакобетонный блок.
– В место под названием Грейндж, – ответил Том Кроум.
– Я там была, – раздраженно сказала Кэти. Место под названием Грейндж. Как будто она не знает, что это такой город. – У них там достопримечательности.
– Верно.
Кроум подумал, не ездила ли туда Кэти в числе религиозных паломников. Все возможно; они знакомы каких-то две недели.
– У них там Дева Мария, которая плачет, – сказала Кэти. Подошла к холодильнику. Налила стакан грейпфрутового сока; Кроум ждал новых сведений о Грейндже. – И на шоссе, – произнесла она между глотками, – в центре шоссе – лик Иисуса Христа.
Том Кроум ответил:
– Я об этом слыхал.
– Пятно, – уточнила Кэти. – Темно-пурпурное. Как кровь.
Или трансмиссионная жидкость, подумал Кроум.
– Я там только один раз была, – сказала Кэти. – Мы заправлялись по дороге в Клируотер.
Какое счастье, что она в Грейндже не завсегдатай. Кроум швырнул в чемодан кипу плавок.
– И как впечатления?
– Странные. – Кэти допила сок и вымыла стакан. Она выскользнула из туфель и села за стол, откуда хорошо видела, как Том пакуется. – Я не видела плачущую Богоматерь, только Иисуса – Дорожное Пятно. Но в целом город странный.
Кроум подавил улыбку. Он рассчитывал на странное.
– Когда ты вернешься? – спросила Кэти.
– Через пару дней.
– Позвонишь мне?
Кроум поднял взгляд:
– Конечно, Кэти.
– Когда будешь в Грейндже, я имею в виду.
– А… конечно.
– Ты решил, я хотела спросить, позвонишь ли ты, когда вернешься. Так?
Кроум диву давался, как, и пальцем не шевельнув, дал втянуть себя в нисходящий по спирали разговор еще до полудня воскресным утром. Он просто пытался собрать вещи, ради всего святого, но при этом, очевидно, умудрился задеть чувства Кэти.
Его теория: ее привела в смятение пауза между «а…» и «конечно».
Единственный вариант – уступить: да, да, милая Кэтрин, прости меня. Ты права, я полное дерьмо, бесчувственное и эгоцентричное. О чем я думал! Разумеется, я позвоню, как только доберусь до Грейнджа.
– Кэти, – сказал он, – я позвоню, как только доберусь до Грейнджа.
– Все в порядке. Я знаю, ты будешь занят.
Кроум закрыл чемодан, щелкнул застежками.
– Я правда хочу позвонить, ага?
– Хорошо, только не слишком поздно.
– Да, я помню.
– Арт приходит домой…
– В шесть тридцать. Я помню.
Арт был мужем Кэти. Окружной судья Артур Баттенкилл-младший.
Кроуму было неловко обманывать Арта, даже несмотря на то, что Кроум вовсе не знал этого человека, и несмотря на то, что Арт сам изменял Кэти с обеими своими секретаршами. Это общеизвестно, заверила Кэти, расстегивая брюки Кроума на их втором «свидании». Око за око, сказала она, – прямо как в Библии.
И все же Том Кроум чувствовал себя виноватым. В этом не было ничего нового; возможно, это было даже необходимо. С юных лет чувство вины играло определяющую роль во всех романах Кроума. Теперь же вина была неизменным, хоть и подавляющим спутником развода.
Кэти Баттенкилл срубила его осмысленностью тонких черт и похотью, пышущей здоровьем. В один прекрасный день, когда он совершал пробежку в центре города, она буквально за ним погналась. Он замешкался посреди благотворительного уличного марша – сейчас не вспомнить, против болезней или против беспорядков, – и неловко сунул Кэти в руку немного денег. Вдруг она – и его догоняют шаги. И она его нагнала. Они позавтракали в пиццерии, где первыми словами Кэти оказались: «Я замужем и никогда раньше такого не делала. Господи, как я проголодалась». Она ужасно понравилась Тому Кроуму, но он понимал, что весьма значительную часть уравнения составляет Арт. Кэти решала дела по-своему, и Кроум понял свою роль. Сейчас это вполне ему подходило.
Босиком, в нейлоновых колготках, Кэти проследовала за ним до машины. Он сел и – пожалуй, слишком поспешно – сунул ключ в зажигание. Она наклонилась и поцеловала его на прощание – довольно долгим поцелуем. Помедлила возле дверцы. Он заметил у нее в руках одноразовый фотоаппарат.
– Тебе в поездку, – сказала она, передавая камеру. – Там осталось пять кадров. Или шесть.
Кроум поблагодарил ее, но объяснил, что это не нужно. Синклер пришлет штатного фотографа, если история с лотереей выгорит.
– То для газеты, – сказала Кэти. – А это для меня. Можешь снять плачущую Богоматерь?
На мгновение Кроум подумал, что она шутит. Она не шутила.
– Пожалуйста, Том!
Он положил картонную камеру в карман куртки.
– А что, если она не будет плакать, эта Дева Мария? Все равно хочешь снимок?
Кэти не уловила сарказма, который просочился в его голос.
– О да, – пылко ответила она. – Даже без слез.
Три
Мэр Грейнджа Джерри Уикс выразил Джолейн восхищение ее водяными черепахами.
– Мои малютки, – нежно сказала Джолейн. Она крошила кочан салата в аквариум, ее синие ногти сверкали. Черепахи начали безмолвную борьбу за ужин.
– Сколько их там у вас? – спросил Джерри Уикс.
– Сорок шесть, если не ошибаюсь.
– Ну надо же.
– Тут краснобрюхие, суонийские и две молодые полуостровные – мне сказали, они вырастут в нечто особенное. И смотрите, как они все друг с другом ладят!
– Да, мэм.
Джерри не мог отличить одну от другой. Однако его поразило, как ужасно шумят питающиеся рептилии. Он почти не сомневался, что этот хруст сведет его с ума, если он слишком задержится.
– Джолейн, я заглянул вот почему – поговаривают, вам повезло в «Лотто»!
Джолейн Фортунс вытерла руки полотенцем. Она предложила мэру стакан лаймада, от которого тот отказался.
– Это ваше личное дело, – продолжил он. – И не нужно отвечать мне да или нет. Но если все правда, то никто не заслужил этого больше, чем вы…
– И почему же?
Джерри Уикс замешкался с ответом. Обычно он не нервничал в обществе хорошеньких женщин, но сегодня у Джолейн Фортунс была необычайно мощная аура – благоухающее великолепие, озорной огонек, от которого мэр чувствовал себя одновременно глупо и легкомысленно. Ему хотелось сбежать, пока она не завалила его на пол, завывая, как енотовая гончая.
– Я здесь потому, Джолейн, что я думаю о городе. Для Грейнджа было бы счастье, если это правда. Насчет вашего выигрыша.
– В плане известности, – сказала она.
– Именно! – воскликнул он с облегчением. – Такая долгожданная перемена после обычного…
– Дерьма для фанатиков?
Мэр вздрогнул.
– Ну, я не стал бы…
– Вроде пятна на дороге, или плачущей Девы, – продолжала Джолейн, – или фальшивых стигматов мистера Амадора.
Доминик Амадор был местным строителем, расставшимся со своей лицензией подрядчика после того, как стены церковно-приходской школы Святого Артура беспричинно обрушились во время летнего шквала. Приятели Амадора советовали ему переехать в округ Дейд, где бестолковым подрядчикам жилось безопаснее, но Доминик хотел остаться в Грейндже с женой и подружками. Поэтому однажды ночью он накачался «Блэк Джеком» и ксанаксом и (сверлом по дереву на три восьмых дюйма) просверлил идеальные дырки в обеих ладонях. Теперь Амадор был одной из звезд христианских паломнических туров в Грейндж, рекламируя себя как плотника («совсем как Иисус!») и усердно расковыривая раны на руках, дабы сохранить их подлинно свежими и кровоточащими. Ходили слухи, что скоро он просверлит себе и ноги.
– Знаете, я не берусь судить других, – сказал мэр.
– Но вы же религиозный человек, – ответила она. – Вы-то сами верите?
Джерри Уикс недоумевал, как беседа отклонилась так далеко от темы. Он произнес:
– Не важно, во что верю лично я. Но другие верят – я видел это в их глазах.
Джолейн бросила в рот конфетку «Сертс». Ей было жаль смущать мэра. Джерри неплохой парень, просто слабак. Тонкие светлые волосы уже седеют на висках. Дряблые розовые щеки, кордон прекрасных мелких зубов и бесхитростные редкие брови. Джерри вел страховой бизнес, унаследованный от матери, – по большей части домовладельцы и автомашины. Он был круглолицый и безобидный. С ним Джолейн старалась держать себя в рамках – как почти все в городе.
Джерри сказал:
– Полагаю, стоит отметить, что для Грейнджа было бы неплохо получить известность под новым углом.
– Пусть мир узнает, – согласилась Джолейн, – что здесь живут и нормальные ребята.
– Точно, – ответил мэр.
– А не только сдвинутые на Иисусе и мошенники.