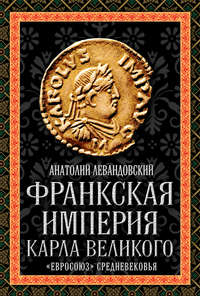полная версия
полная версияПотомок Микеланджело
А если так, чего же бояться? О чем думать? Общее направление и конечная цель пути ясны, остаются подробности. Им-то и нужно отдать свои заботы на ближайшее время.
20
Он успокоился.
Не было больше томления духа, ибо окончилась неясность.
Он занимался своим делом, учил детей и внимательнее присматривался к окружающему, к людям, с которыми жил.
Маленькая коммуна, некогда сложившаяся на острове Пеле, постепенно распалась. Из всех ссыльных Филипп теперь общался лишь с Жерменом да иногда с Моруа. Блондо, остывший в былой ненависти к «узурпатору», теперь занимался своими болезнями. Казен, работавший на ферме, страшно уставал с непривычки и сторонился прежних единомышленников. Да и Жермен вел себя как-то странно. Нет, он не охладел к учению Бабефа, он по-прежнему мечтал о «совершенном равенстве» и «всеобщем счастье», но при этом продолжал наивно верить в добродетели Бонапарта и посвящать ему свои нескладные стихи.
Буонарроти попытался было прощупать настроения простых людей, среди которых жил, и быстро понял: с этими он далеко не уйдет.
– А нам-то что, – отвечали фермеры на его осторожные вопросы, – какая разница – Робеспьер или Бонапарт? Была бы каша в горшке, да сборщики податей не драли трех шкур – и ладно.
Что же касается Бабефа, то о нем эти люди и вообще не слыхали ничего.
Он познакомился и был в добрых отношениях с мэром города Сен-Пьер, обучал его двоих сыновей и часто беседовал с ним. Это был старый республиканец, но человек умеренный и осторожный, ничем не выдававший своих политических настроений поднадзорному ссыльному. Единственно, что узнал от него Буонарроти, были кое-какие сведения о соседнем острове Ре. Этот остров, меньший по размерам, чем Олерон, был укреплен рядом фортов, принадлежавших к системе крепостей Ла Рошели и управлялся военной администрацией. Во главе администрации находился некий полковник Уде, о котором мэр выражался весьма туманно, но так, что можно было понять: человек этот был настроен критически к режиму, чего, видимо, не скрывал.
– Поговаривают, – обронил как-то мэр, – что Уде возглавляет филадельфов.
– А кто такие филадельфы? – загорелся Филипп.
Мэр, видимо, пожалел, что сболтнул лишнее.
– Кто их знает, – небрежно сказал он. – Какая-то тайная организация. Вроде масонов. Сейчас, говорят, их много развелось повсюду. Масонов и других. Впрочем, наше дело маленькое. Нас-то, слава богу, сие увлечение миновало.
С той поры Буонарроти заинтересовался филадельфами и Уде. Кто они? Чьи интересы защищают? И почему о них говорят с такой осторожностью?
Ему захотелось побывать на острове Ре и встретиться с необычным полковником. Но он понимал, что это невозможно. Во всяком случае, в ближайшее время.
Благодаря мэру он постоянно имел свежие газеты. Правда, теперь от этого толку было мало – Наполеон, уничтожив свободу печати, ликвидировал все оппозиционные органы прессы. И все же иногда кое-что просачивалось.
Больше давала корреспонденция, которую Филипп получал от столичных друзей. Конечно, и здесь приходилось прибегать к эзоповскому языку – письма перлюстрировались, – но все же главное, основное передать было можно. И ссыльный с жадностью глотал крохи этих известий.
Из них он узнал, что заговор Арены – Чераки, как он и ожидал, провалился и участники арестованы, что столь же безрезультатными оказались и другие попытки в этом же роде, что Саличетти сумел выйти сухим из воды, что правительство явно не хотело раздувать событий, преуменьшая, сглаживая увеличивающееся противостояние, не желая «выносить сор из избы».
Зато газеты вовсю трубили о новом итальянском походе Бонапарта, о блистательной победе при Маренго, о скором наступлении всеобщего мира в Европе…
Но тут произошли события, которые потрясли Францию и нанесли остаткам демократии еще один удар – быть может, самый болезненный после дней 18 – 19 брюмера.
21
В Опере давали новую ораторию Гайдна «Сотворение мира». Это было событием в музыкальной жизни Парижа. Двести пятьдесят оркестрантов и участие лучших итальянских певцов удвоили цену билетов, но все равно достать их было невозможно.
Жозефина нервничала: они опаздывали.
Кареты поджидали у входа в павильон Флоры.
– В Оперу. Быстро.
Бонапарт откинулся на подушку сиденья и закрыл глаза. Он снова вернулся мыслью к тому, о чем думал целый день. Вновь и вновь старался оценить ситуацию.
Казалось бы, все прекрасно. Австрийцы разбиты, Россия согласилась на союз, причем император Павел I выдворил из Митавы старого попрошайку Людовика XVIII, восстановлены добрые отношения с США, не сегодня завтра мир будет заключен с англичанами. Тихо и внутри страны. Его прославляют, банкиры суют золото. Но все это на поверхности. А копни поглубже…
Стоило ему отбыть в Италию, и все они зашевелились. Враги? Враги – само собой. Но и «друзья» тоже. Господин Фуше, господин Талейран, господин Сиейс. Ну, Сиейс – понятно. Но Талейран? Но Фуше?.. Он поднял их из мрака забвения, сделал первыми людьми, обогатил, а они готовы его предать при любом подвернувшемся случае. Туда же и свои. Милые братцы – Жозеф, Люсьен; родная маменька, сокрушающаяся, что глава правительства не ее любимчик, Жозеф… Пустили слух, что он потерпел поражение, – и сразу же заговорили о перемене власти… Его опора – армия. Но и здесь… Моро, Журдан, Бернадотт, Ожеро, Массена – все это соперники и тайные недруги, а Моро – их знамя. Они готовы спеться с проклятыми якобинцами. И все новые заговоры… Того и гляди, грянет взрыв…
И, словно отвечая мысли Первого Консула, раздался оглушительный взрыв. Улица Сен-Никез, по которой неслись кареты, огласилась воплями. Он слышал, как в карете Жозефины посыпались стекла, слышал ее истерический крик…
– Гони во всю мочь.
…В Оперу прибыли вовремя. Он сидел в своей ложе, спокойный и надменный, как обычно. Жозефина – бледная, с заплаканными глазами – прикрывала лицо веером. Но вот весть долетела до театра. Певцов прервали. Публика устроила верноподданническую овацию Первому Консулу. Он чуть поклонился. Спокойный, непроницаемый – будто ничего не произошло.
Но, едва вернувшись в Тюильри, вызвал Фуше. И обрушил на него поток такой брани, какую едва ли когда еще слышали эти стены.
Фуше стоял вытянувшись в струну и слушал. Он ни разу не попытался вставить свое слово, не стал ничего объяснять. Он молча стоял и слушал.
– Мерзавец! – вопил Бонапарт. – Дерьмо, предатель… Я вытащил тебя за уши, вытащил из грязи, в которой ты увяз, я сделал тебя министром… Хорош министр полиции, который, вместо того чтобы охранять главу правительства, превращает его в подсадную утку, окружает убийцами, которым позволяет заминировать целый квартал…
Фуше молча слушал.
Наполеон задыхался от ярости.
– Ты, ты и есть главный заговорщик! Вожак всех этих бандитов! Провокатор! Разве я не помню, как вместе с якобинской сволочью ты расстреливал людей в Лионе? Тебя бы самого следовало расстрелять! Нет, раздавить, как клопа!..
Фуше не менял почтительной позы.
– Вон! – закричал Бонапарт. – Убирайся к черту! Завтра ты получишь мое предписание!..
Фуше поклонился и вышел.
22
Взрыв «адской машины» на улице Сен-Никез 3 нивоза IX года[10], от которого лишь чудом ускользнул Бонапарт, стоил жизни двадцати двум и тяжелых ранений пятидесяти ни в чем не повинным людям. Несмотря на то что взрыв был организован эмиссарами Людовика XVIII (и это сразу выяснилось), Первый Консул решил использовать случай, чтобы свести окончательные счеты с левыми партиями.
– Это не аристократы, не шуаны и не священники, – безапелляционно утверждал он. – Это отребья революции, якобинцы и бабувисты, инициаторы всех прежних смут и заговоров.
Выступая на следующий день на заседании Государственного совета, он потребовал жестоких репрессий:
– Без крови не обойтись. Надо расстрелять столько виновных, сколько было жертв взрыва, а человек двести выслать, чтобы очистить Республику.
Когда один из членов Совета попробовал высказаться против высылки революционеров и напомнил об опасности, грозящей от роялистов, Бонапарт резко оборвал его:
– По-видимому, вам было бы угодно, чтобы я составил правительство в духе Бабефа? Толкуйте о «патриотах». Но эти «патриоты», несмотря на вашу защиту, вас же первого принесут в жертву, точно так же, как и меня и всех нас!..
К удивлению окружающих, он не уволил Фуше. Вместо этого дал министру полиции малоприятное задание – составить списки левых, подлежащих высылке.
Фуше попытался напомнить, что взрыв организован роялистами.
– Делайте, что вам приказывают, поройтесь в памяти и извлеките оттуда всех своих старых дружков, – измывался диктатор.
И Фуше выполнил его волю – списки были составлены.
К этому времени полиция арестовала виновников покушения на улице Сен-Никез. Ими действительно оказались роялисты – Сен-Режан и Карбон. Их, так же как и участников республиканских заговоров – Арену, Чераки, Топино-Лебрена и других, – приговорили к смертной казни.
Сто тридцать «анархистов» из списков Фуше, в числе которых находились видные политические деятели – Лепельтье, Дюфур, Фурнье, Россиньоль, Фион, Массар, Ваннек (в прошлом – все участники заговора Равных), – подлежали высылке. Те из них, кому повезло, попали на острова Олерон и Ре, остальные – на далекие Сейшельские острова, где большинству из них было суждено погибнуть от голода и болезней.
Столь массовых репрессий изумленные французы не видели давно. Проскрипции вступили в силу 15 нивоза[11].
Вскоре после этого Феликс Лепельтье и еще несколько «непримиримых» были доставлены на остров Ре.
23
Логика всех перечисленных событий – и это прекрасно понимал Филипп Буонарроти, равно как и многие из его соратников, – должна была с роковой неизбежностью привести к дальнейшему усилению авторитарного характера власти и в конечном итоге к созданию неограниченной наследственной монархии.
Действительно, неудачи как республиканских, так и монархических заговоров позволили Бонапарту, нанося удары налево и направо, под флагом спасения «национальной независимости» и «общенародного государства» отбрасывать один за другим прежние республиканские (пусть фиктивные) атрибуты, заменяя их новыми принципами и символами.
Впрочем, «удары направо» носили, как правило, номинальный характер, ибо сам новый режим «правел» с каждым днем; зато разгром левых, революционных сил, начавшийся проскрипциями 15 нивоза, был вполне реальным и вылился в целый ряд фактов и мероприятий, имевших место в течение ближайших полутора лет.
Успешное заключение Люневильского мира с Австрией и Амьенского с Англией при нейтрализации России создало Бонапарту ореол миротворца и еще более повысило его авторитет и кредит среди разных категорий собственников. Это дало ему возможность провести один за другим три характерных акта: заключить конкордат с папой (июль 1801 г .), амнистировать эмигрантов (апрель 1802 г .) и учредить орден Почетного легиона (май 1802 г .).
Конкордат восстанавливал во Франции католическую церковь со всеми ее атрибутами (кроме церковного землевладения) и был первым шагом на пути к отмене республиканского календаря.
Амнистия эмигрантам ставила целью примирить новую власть с прежней аристократией, изгнанной революцией из страны.
Орден Почетного легиона создавал наполеоновскую элиту, новую аристократию – оплот и украшение будущего трона.
Эти три акта вызвали растерянность среди всех, кто еще верил революционным традициям режима и надеялся на «демократизм» Первого Консула.
Особенно тяжелое впечатление на людей, верных идеям II года, произвел конкордат.
Соглашение с Пием VII возвращало Францию в лоно католической церкви. Вместо декадных праздников вновь появились воскресенья с пышными церковными службами и колокольным звоном; восьмилетние новации Республики нацело перечеркивались.
Сам Наполеон к богу был равнодушен, а папу величал «интриганом» и «лжецом». Но он считал, что церковь с ее прославлением государственной власти будет ему много полезнее безбожия революционных времен.
– Раз уж люди непременно хотят верить в чудеса, – говорил он, – пусть лучше ходят в церковь, чем философствуют…
Подобные рассуждения возмущали офицеров и солдат, прошедших сквозь пламя революции. И последний из республиканских заговоров этих лет возник именно в Рейнской армии, хранившей заветы II года и «Марсельезу». Наполеон подавил заговор быстро и бесшумно, а мятежные части отправил умирать на Сан-Доминго.
Одновременно он подавил и робкие попытки оппозиции наверху. Используя право Сената обновлять часть членов законодательных учреждений, Первый Консул удалил оттуда либералов, в том числе Бенжамена Констана, Мари-Жозефа Шенье и многих других.
Теперь ничто не мешало сделать следующий шаг.
И он был сделан.
В результате «плебисцита», проведенного под зорким оком Фуше 2 августа 1802 года, Сенат объявил Наполеона пожизненным Консулом.
Путь к Империи был открыт.
Глава третья
1
Стык столетий, обозначивший начало нового, XIX века (хотя во Франции счет времени все еще велся по революционному календарю), оказался решающим не только для Наполеона Бонапарта.
Он поставил важную веху и на пути революционера Филиппа Буонарроти.
Именно теперь суждено было произойти рывку, превратившему ссыльного в деятельного участника, а затем и руководителя целой организации, противостоявшей нарождающемуся авторитарному режиму бывшего республиканского генерала.
2
Если раньше он сетовал, что на Олероне мало единомышленников, то теперь положение изменилось. Проскрипции 15 нивоза наполнили остров новыми «исключительными» – бывшими якобинцами и бабувистами. Кое-кого из них Филипп знал и раньше, с другими знакомился сейчас, но, так или иначе, встреч, собраний, совещаний было столько, что свободного времени почти не оставалось, и беседы с гражданином мэром пришлось сильно сократить. Конечно, соблюдали осторожность: они ведь были поднадзорными, и сборища им были строго запрещены. После же 15 нивоза полицейский надзор заметно усилился и стал более придирчивым. Собирались в лесу, на безлюдных полянах; если же встречались под чьей-либо кровлей, то на случай появления незваных гостей прикрывались праздником, днем рождения или просто товарищеским чаепитием. А обсудить было что. Ближайшее и отдаленное будущее беспокоило и не вселяло больших надежд. Тем более требовалась выработка каких-то принципиальных и организационных решений.
Все были согласны, что перспективы темны и непредсказуемы. Те настроения, которые Буонарроти уловил среди обывателей Олерона, были характерны и для других районов страны: усталость, апатия, безразличие.
– Период активного сопротивления окончен, – заметил один из вновь прибывших. – Все попытки республиканских заговоров бесславно провалились, наши братья расстреляны, гильотинированы или же – в лучшем случае – заброшены так далеко, что оттуда нет возврата. И ныне вместо действий осталась пустая болтовня; недовольных режимом много, но они не идут дальше кукиша в кармане.
– Да, сейчас наш учитель Бабеф вряд ли имел бы успех, – подхватил другой. – Не только действия, но и идеи начинают выветриваться. Мечты о равенстве, пришедшем через всеобщее восстание, были популярны в период Директории, когда простые люди прозябали в бедности, а город и деревня равно плодили нищету. Сейчас, когда положение стабилизировалось, когда узурпатор обольстил надеждами землепашцев и кое-как подкормил бедняков за счет разграбленной Италии и других покоренных земель, все словно увяло. И, даже восстанавливая католическую церковь, тиран отвечает суевериям крестьян и способствует росту безразличия к идеям революции и равенства.
– В этих словах есть доля истины, – в раздумье сказал Буонарроти. – И все же мне представляется, что положение не столь уж безнадежно. Во-первых, не следует преувеличивать «благоденствие», которое якобы создал Бонапарт: это благоденствие лишь для тех, кто находится у власти или обслуживает власть, для остальных же – пустая иллюзия. Во-вторых, у завоевательной политики есть и оборотная сторона. Если она даже материально что-то и даст народу страны-завоевательницы, то вместе с тем она будет постоянно высасывать из этого же народа средства на военные расходы и людские силы на новые миллионы рекрутов. Если Наполеон-«миротворец» действительно станет на этот путь – а есть все основания думать, что именно так и будет, – то пройдет время, и все ясно увидят и почувствуют эту оборотную сторону. И все же главное не в этом.
– Так в чем же? – раздались нетерпеливые выкрики.
– А вот в чем. Идею совершенного равенства питает не столько бедность, сколько к о н т р а с т м е ж д у б е д н о с т ь ю и б о г а т с т в о м. Чем контраст этот ярче, сильнее, тем активнее действует идея, порождая новые и новые контингенты своих сторонников.
– Поясни свою мысль.
– Поясню. Как вы думаете, могло ли учение Бабефа сформироваться и иметь успех в эпоху II года, при Робеспьере? Думаю, что нет. Почему? Да потому, что в то время, осаждаемое внутренними и внешними врагами, стремившимися его задушить, лишенное ресурсов, наше общество и так находилось в состоянии близком к равенству – то было равенство бедноты, нищеты. И она была равной для управляемых и управляющих. Я видел собственными глазами, как Сен-Жюст, второй человек в правительстве, стоял в общей очереди, чтобы получить свою четвертушку пайкового хлеба. Я часто бывал в доме Робеспьера и наблюдал за тем простым, необыкновенно скромным образом жизни, который вел этот великий человек среди близких ему, простых людей. Что же произошло после термидора? Увеличилась ли общая бедность? Вряд ли. Но зато резко усилился контраст. В особняках Тальенов и Баррасов царило изобилие, в то время как санкюлоты пухли от голода. Контраст стал еще более резким при Директории. Вот это и создало питательную среду для учения Бабефа. Надеюсь, вы поняли меня?
Все молчали. Кое-кто кивал головой в знак одобрения.
– Идем дальше, – продолжал Буонарроти. – Я уже говорил, что наш товарищ сильно преувеличил, говоря о благоденствии простых людей при нынешнем правительстве. Но допустим, такое благоденствие наступит. Допустим, каждый бедняк получит кусок хлеба, обеспечивающий ему возможность не умереть с голоду. А в это же самое время банда власть имущих, грабя народы Европы, будет утопать в роскоши, строить себе новые дворцы и загородные виллы, откладывать миллионы в наших и зарубежных банках. Иными словами, контраст не только не уменьшится, но будет постоянно увеличиваться, нарастать. А это значит, что идея равенства будет иметь постоянно расширяющуюся базу, основу. Нет, бабувизм не умер и не умрет до тех пор, пока одни будут обладать всеми жизненными благами, а другие – получать крохи с барского стола; и недаром еще великий Руссо говорил о равенстве как о е с т е с т в е н н о м состоянии человека! Вы правы: народ устал от жестоких невзгод, выпадавших на его долю в течение стольких лет. Народ дремлет. Наша задача, наш священный долг перед памятью погибшего учителя – разбудить народ, вывести из летаргии, указать верную дорогу. А такой дорогой может стать только путь борьбы, непримиримой борьбы.
– Но как это сделать? – спросил кто-то.
Буонарроти улыбнулся.
– Вопрос не простой, исчерпывающего ответа не имею. Важно учесть одно. Все республиканские заговоры против тирана провалились вследствие своей скороспелости, плохой подготовленности. Открыто мы действовать не можем – с каждым днем это становится все более очевидно. Значит, надо найти формы и методы, при которых наши тайные, законспирированные организации могли бы проникнуть в толщу народа, разбудить его, воодушевить и поднять на борьбу.
…В тот вечер они еще говорили о многом, но слова Буонарроти покорили всех. Перед тем как все разошлись, к нему обратился один из вновь прибывших – Дестрем.
– Из всего, что я услышал, – сказал он, – я понял одно. Тебе обязательно нужно увидеться с полковником Уде. Я беседовал с ним как-то, его взгляды совпадают с твоими; это превосходный организатор и наш человек. Думаю, что филадельфы, которых он возглавляет, именно то объединение, которое помогло бы претворить твои смелые мысли в действия.
Филадельфы… В который раз слышит он это слово!.. Встретиться с Уде… Он и сам мечтает об этом. Но где и как?..
3
Кто ищет – находит.
Буонарроти удалось решить занимавшую его задачу.
Между островами Ре и Олерон существовала более или менее регулярная связь. Раз в полторы-две недели корабль с соседнего острова заходил в гавань Олерона, привозил служебную почту и административные распоряжения. Буонарроти, прознав об этом, стал действовать, неназойливо, но упорно. Поскольку он обучал детей видных представителей местной власти и был в дружбе с мэром, его ходатайство, хотя и не без трудностей, в конце концов увенчалось успехом: ему удалось попасть на один из рейсов. Мотивируя свою просьбу страстным желанием познакомиться с природой и достопримечательностями соседнего острова, Филипп дал подписку не задерживаться там на срок больше трех дней.
– Ваше примерное поведение, трудолюбие и та польза, которую вы нам приносите, разрешают позволить эту маленькую вольность, – заметил на прощание мэр. – Тем более что мы ничего не нарушаем: строжайший приказ вышестоящих властей запрещает переправлять ссыльных на континент, но ничего не говорит о соседнем острове.
Буонарроти крепко пожал ему руку. Он и не надеялся на такую удачу.
– Имейте в виду, – добавил мэр, – вы должны быть предельно осторожным. Не посвящайте никого в свои планы. И никаких встреч и бесед с нежелательными элементами.
Филипп обещал. Он готов был пообещать что угодно, хотя заранее знал, что обещанного не выполнит. Впрочем, об этом догадывался и гражданин мэр.
4
Остров Ре… Долгожданный остров Ре…
Пролив Пертюи-д'Антиош, отделявший его от Олерона, оказался весьма широким, плыть пришлось долго, а затем еще огибать остров с северо-востока – на южном побережье, обрывистом и покрытом крепостными сооружениями, пристать было негде.
Но вот вошли в гавань Сен-Мартен де Ре. Кругом – песчаные дюны, поразившие Филиппа своей протяженностью. Город невелик; главные достопримечательности – старинная церковь и тюрьма.
Его проводили в комендатуру. Здесь ожидало горькое разочарование: полковник Уде, срочно вызванный Первым Консулом, только что покинул остров…
Не предаваясь долгим сетованиям, Буонарроти узнал место поселения Лепельтье и отправился к нему. Для этого, правда, пришлось пересечь остров, но Филиппу подвернулась проезжавшая мимо подвода, и вскоре он оказался в объятиях своего старого друга.
5
Фердинанд-Луи-Феликс Лепельтье, при старом порядке больше известный в своем кругу как «граф Феликс», был удивительным человеком. Правнук генерального контролера финансов Франции, аристократ и богач, личный адъютант князя Ламбеска – карателя в июльские дни 1789 года, ярый враг революции, он совершенно изменился после трагической смерти своего горячо любимого старшего брата Мишеля, убитого роялистом за вотум против Людовика XVI. Феликс вступил в Якобинский клуб, стал приверженцем Робеспьера, позднее – ближайшим другом и соратником Бабефа, членом его Повстанческого комитета. Именно Феликс Лепельтье финансировал газету Бабефа и находил средства для заговора Равных. Филипп хорошо помнил, что Бабеф по-особенному относился к Феликсу, явно выделяя его из своего окружения, писал ему из вандомской тюрьмы, именно ему отправил свое последнее, прощальное письмо, в котором поручал Феликсу заботу о своей осиротевшей семье – о жене и детях. Знал Буонарроти и то, что Феликс, избежавший тюрьмы и ссылки при Директории, не сложил оружия, вместе с Антонеллем, другим членом Повстанческого комитета Бабефа, руководил клубом Манежа, а после его закрытия продолжал борьбу при новом режиме, за что в конце концов и попал на остров Ре. Но последние сведения были самыми общими, и поэтому встреча со старым единомышленником не менее необходима, чем знакомство с полковником Уде.
И вот она состоялась.
Благодаря своим неиссякающим средствам Феликс жил в изгнании довольно комфортабельно. На эти три дня – без всякого ущерба для себя – он смог предоставить Филиппу кров и стол.
С первых же часов после встречи Филипп понял, что, несмотря на «поднадзорность», Лепельтье пользуется полной свободой и независимостью.
– Эти молодцы, я имею в виду жандармов, сюда и не заглядывают, – с улыбкой ответил он на резонный вопрос друга.
– Но как тебе удалось такого добиться?
– Об этом после. Расскажи сначала о себе.
Внимательно выслушав исповедь Буонарроти, Феликс в свою очередь поведал ему о своей одиссее.