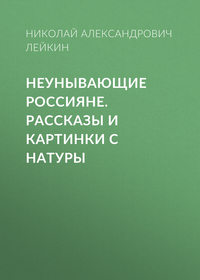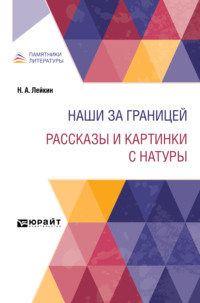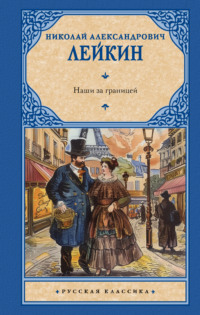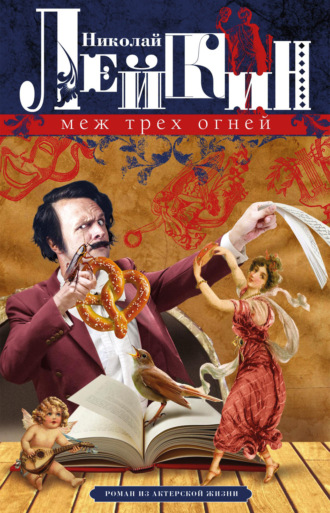
Полная версия
Меж трех огней. Роман из актерской жизни
– Рюмочка губит? – спросил Лагорский.
– Ах, все тут! – отвечала Малкова. – Просто беспутный, никуда не годный человек. Так съездишь завтра к нему, Василий? – спросила она его.
– Съезжу. Даю слово…
Они пожали друг другу руки. Малкова посмотрела по сторонам и, видя, что около них в колоннах никого нет, приблизилась к его лицу и чмокнула в щеку.
Глава VIII
Лагорский хоть и дал слово Малковой поехать к ее мужу торговаться насчет ее паспорта, но ехать ему очень не хотелось. Обещание это камнем легло на него.
«И жена со своими капризами… Ей делай то и это… Для нее хлопочи… А тут еще Малкова с паспортом… – рассуждал он. – Малкова, по всем вероятиям, думает, что я своих денег прибавлю к ее ста рублям за паспорт. А откуда я их возьму, если у меня три пятирублевых золотых с мелочью в кармане? А жена так совсем без гроша. Сегодня дал ей десять рублей на расходы по дому. Ведь это не в гостинице, где ешь, ешь, а потом заплатишь. Здесь за булку, за кусок мяса, за рыбу сейчас деньги на бочку. Говорил я ей о самоваре и лампе, а теперь она требует, чтобы я самовар и лампу купил. И дернула меня нелегкая за язык! Да… Сегодня перед спектаклем придется еще портнихе платить! – вспоминал он. – Жена отдала портнихе два платья расставлять. Растолстела она, как корова, стала примерять платья, и корсажи не сходятся. А сколько я ворчанья-то вынес, что она растолстела! Как будто я виноват в этом».
Лагорский махнул рукой.
Репетировать он начал в самом мрачном настроении духа. Паспорт Малковой сидел у него, как гвоздь, в голове.
«А что, не послать ли нам Мишку Курицына сына торговаться насчет паспорта-то? – мелькнула у него мысль. – Он сторгуется с мужем, муж приготовит паспорт, а потом заплатим мужу…»
Во время перерыва репетиции он сказал об этом Малковой.
– Какой такой Мишка Курицын сын? – воскликнула Малкова и вся вспыхнула.
– Да Перовский… Тальников… простак… который играет Савушку… Тот самый, который к нам в Казани каждое утро ординарцем бегал.
– Да ты совсем с ума сошел! Зачем же я буду в свои семейные дела чужого человека путать! С какой стати выдавать свои секреты? Ведь этого же никто в труппе не знает, что я каждый год от мужа откупаюсь. Никто даже не знает, замужем я или девица. А твой Курицын сын все и разгласит.
– С какой стати? Он преданный нам человек. Помнишь в Казани?.. Ему можно поручить под секретом.
– Преданный, но пьющий… А у пьяного язык всегда с дыркой. Он даже хвастаться этим будет под пьяную руку. Нет, Василий, ты обещал, и ты должен мне это устроить. Я вся твоя, я тебе беззаветно отдаюсь, и ты должен иметь обо мне хоть это-то попечение. Завтра ты сам съездишь.
Лагорский поскоблил пальцем за ухом и отвечал:
– Хорошо. Но предупреждаю тебя, Веруша, что если ты рассчитываешь и на денежную помощь с моей стороны, то есть что я прибавлю к твоим ста рублям от себя, то денег у меня теперь нет.
– Да, я хотела тебя об этом попросить, Вася, помоги мне. У меня тоже денег нет. Эти заветные сто рублей были приготовлены, но других денег нет. Ты спроси денег в конторе и уж уплати мужу, что он будет требовать лишнее. Теперь в конторе дают вперед.
– Да уж взято… Я взял…
– Ах, как же это так?.. Ну, заложи что-нибудь… Мне заложить нечего, кроме гардероба… А гардероб, сам знаешь, нужен… Ведь начнутся салонные пьесы. А в конторе у меня взято.
– Хорошо. Я достану немного денег… Но немного… Не больше пятидесяти рублей… Эти деньги, может быть, мне и в конторе дадут… Но возьми и ты в конторе. Я отдам тебе потом в разгаре сезона, когда управлюсь со своими делами, а теперь, Веруша, не могу.
– Заложи булавку с жемчужиной. Под нее тебе в Казани пятьдесят рублей давали.
И Малкова ткнула Лагорского в красный галстук, в который была воткнута булавка с крупной жемчужиной.
– Кроме того, ты мне рассказывал, что у тебя тот серебряный портсигар цел, который тебе в Казани поднесли.
– Ценные вещи дают, друг мой, актеру некоторый апломб, так сказать, придают ему вес, – сказал ей Лагорский. – Но делать нечего, заложу что-нибудь. Знай, однако, что больше пятидесяти рублей я не могу, решительно не могу.
В конце репетиции зашла за Лагорским в театр жена его Копровская, села и из-за кулис стала смотреть, как он кончает горячую сцену пятого акта. Он увидал ее и вздрогнул, спал с тона и стал вести сцену вполголоса.
«И чего это ее принесло! – подумал он. – Вдруг Малкова попросит меня знакомить ее с женой?»
Но Малкова не заметила его жены и, кончив пьесу, пошла в уборную примерять костюмы, где ее ждала костюмерша. Лагорский тоже сделал вид, что не замечает жену и направился в мужскую уборную, но жена догнала его.
– Я к тебе… Я за тобой по дороге зашла. Пойдем домой. У нас уж давно репетиция кончилась, но я все с портнихой возилась. Ужасная история! Представь себе: портниха отказывается расставить корсаж голубого платья с кружевами, говорят, что запасов нет, и я должна буду играть в желтом, а оно совсем отрепано. Ведь это ужас что такое! И для первого-то выхода.
– Полно, Наденочек, по-моему, оно очень и очень еще недурное платье, – утешал жену Лагорский.
– Молчи. Что ты понимаешь! Ничего ты не понимаешь! – закричала она. – Да и не хочешь ничего понимать, что до жены касается! Вот если бы что касалось Малковой…
– Пошла… поехала! – махнул рукой Лагорский. – Ах уж мне эти сцены ревности! И хоть бы мы были особенно нежные супруги… то есть я-то с тобой и ласков, и приветлив, а ты только фыркаешь, упрекаешь и ругаешься.
– Да как же к тебе иначе-то относиться, если ты этого не заслуживаешь! Ласков, приветлив… А оказывается, прошлый раз обедать-то ты к Малковой убежал, а вовсе не в ресторане обедал. А я тебя ждала и сидела голодная. Мне, брат, все рассказали, какой ты петушишка. Я имею все сведения. Ну что ж, устроил ты то, что я просила? – задала она вопрос.
– А что такое? – спросил он.
– Забыл! Забыл о том, о чем я просила! Забыл, от чего зависит судьба и успех твоей жены?! – закричала она. – Ну, супруг! Вот если бы Малкова тебя попросила, то я уверена, что ты распялся бы за нее. Да еще распнешься. Увижу я… Ведь выход-то ее первый на сцену завтра.
– Да что такое? Только не кричи, пожалуйста, не делай скандала… – остановил ее Лагорский.
– Я просила тебя похлопотать насчет моего приема сегодня вечером… Просила похлопотать… устроить… посадить в театр кого-нибудь из знакомых тебе… Ведь меня здесь не знают… А нельзя же без хлопка уйти.
– Ах, это-то? Похлопать? Это я все сделал… Будь, Наденочек, покойна… – соврал Лагорский, замявшись. – Будут наши, и я просил их.
– Да кого? Кого ты просил-то? – допытывалась Копровская.
– Все наши будут… Все собираются. Они поддержат тебя. Тальников… Это верный человек… Он мне преданный. Маркин такой есть… Он будет. Наконец, я сам… Музыкант один есть из Казани. Он…
Копровская протянула ему несколько билетов.
– Напрасно покупала. И так впустят. Да я сказал и портным. Они похлопают. Аплодисменты будут. С треском… – проговорил Лагорский.
– Ты дай им на пиво, Вася… Пусть постараются. Ведь только бы начать, а там и публика поддержит.
У меня роль выигрышная… Уходы хорошие… Всегда важны первые хлопки.
– Будет исполнено. О чем ты беспокоишься!
Копровская успокоилась.
– Ну, пойдем… – сказала она. – Надеюсь, что уж сегодня-то домой обедать? Не пойдешь к своей Малковой.
– Да что ты, Веруша!.. Брось…
– Вот уж ты даже ее именем меня называешь. А еще смеешь оправдываться. Нет, так нельзя…
Лагорский совсем запутался. Он покраснел.
– Прости, Надюша… Смешал… – сказал он. – Ведь целую пьесу сейчас с ней вел. Пьесу в пять актов.
– Молчи. Не оправдывайся. Ведь не Верушей же ты ее называл по пьесе.
Лагорский виновато следовал за женой и бормотал:
– А насчет поддержки не беспокойся. Поддержка будет… Тальников… портные… наши музыканты… Я сам… Да и вообще всех наших попрошу…
Глава IX
Спектакль в театре сада «Карфаген» был назначен в восемь с половиною часов вечера, а перед спектаклем в шесть часов служили в ресторанном зале молебен для открытия летнего сезона. На молебствие были приглашены все артисты театра, а равно и персонал садовых увеселений, но явились очень немногие. Иные считали время между репетицией и спектаклем для себя неудобным и предпочитали, пообедав, отдохнуть – это были главным образом женщины, – а иные, большею частью мужчины, не пришли потому, что узнали, что после молебна никакой закуски не будет. На молебне, впрочем, стояли вся садовая и ресторанная администрация, официанты, билетеры, режиссер – маленький юркий человечек, суфлер – худой и длинный чахоточного вида человек, два черноусых акробата – очень красивые статные итальянцы, испанка-танцовщица с необычайно громадной косой, свернутой в тюрбан, кое-кто из русских артистов на маленькие роли и три приехавших газетных рецензента. Во главе всех стоял антрепренер купец Анемподист Аверьянович Артаев – пожилой, небольшого роста человек с бородкой с проседью. Он был почему-то в мундире, присвоенном членам одного благотворительного общества, при шпаге, с треуголкой в руке и с ушами, заткнутыми морским канатом. Газетные рецензенты, приехав на молебен, также были удивлены, что после молебна не будет обеда и даже закуски, но антрепренер Артаев успокоил их, говоря:
– Мы ужин после спектакля делаем-с. Ужин-с… На ужин милости просим. А обед или даже закуску нельзя… Совсем нельзя… Я уже думал об этом, но нельзя. Судите сами: ежели артист урежет муху, то каков он будет в спектакле! А после спектакля – самое хорошее дело.
Рецензенты согласились с его доводами и после молебна отправились обедать в буфет сада, причем Артаев напутствовал их словами:
– А для представителей печати у нас положение – пятьдесят процентов скидки, кто за свой счет потребляет. Не обижайте только нас в газетах.
После семи часов на сцену начали собираться артисты театра и направлялись в уборные. Копровская жаловалась, что не достала извозчика.
– Вообразите, более полуверсты пришлось от дома пешком тащиться! А все Лагорский… Был извозчик, но Лагорский вздумал с ним торговаться, а он хлестнул лошадь и уехал. А я с гардеробом… Еще хорошо, что дворник помог и дотащил картонку, а то горничная прямо упала бы от изнеможения. У ней, кроме того, картонка с шляпкой, зонтик в чехле и ящик с гримировкой. Да не толкись ты тут попусту! – крикнула она на мужа, начавшего скручивать для себя папироску.
– Друг мой, да ведь сама же ты просила тебя проводить в уборную. У меня в кармане твои складные подсвечники и свечи. Возьми их, – сказал Лагорский.
– Передай Фене. Леденцы захватил, которые я принимаю, чтоб горло не сохло?
– Вот коробочка. Я кладу на стол. Могу теперь уходить?
– Постой. Погоди. Ты куда?
– Да ведь ты гонишь.
– Я не гоню, но терпеть не могу, когда ты без дела слоняешься, рассядешься и сейчас начинаешь свертывать для себя соску. Ну, иди да хлопочи насчет чего я тебя просила. А портных Тальникову своему поручи. Да и сам наблюдай. А то ведь они могут не вовремя начать аплодировать и дело испортят. Услужливый дурак опаснее врага. А ты пьесу знаешь.
– Да и Тальников знает. Она у нас шла в Казани.
– Нет, ты все-таки сам наблюдай. Да, пожалуйста, Василий, зря не толкайся в буфете.
– Позволь. Ты ведь просила меня постараться познакомиться с рецензентами, прислушаться и узнать, что о тебе говорят.
– Да, да… Но я говорю вообще… И бога ради не прозевай моих выходов… Наблюдай… А мне потом скажешь, что у меня не эффектно. Ведь пьеса не один раз пойдет. Ну, иди и хлопочи… А после первого акта зайди ко мне.
– Бог мой! Да ведь должен я в антрактах с рецензентами-то! – воскликнул вышедший из терпения Лагорский.
– Да, да… Но, все-таки, ты можешь поделить время. Послушаешь, что в буфете рецензенты будут говорить, и потом сюда… – поправилась Копровская и стала раздеваться, расстегивая корсаж.
Лагорский вышел из уборной, стал проходить сзади поставленного уже павильона, проталкиваясь среди плотников, бутафоров и разной театральной прислуги, как вдруг услышал женский голос:
– Лагорский! Постойте! Даже и в американских землях, когда проходят мимо знакомых женщин, то останавливаются и здороваются.
Он остановился, посмотрел по сторонам. Из-за декорации, «пришитой» к полу и изображавшей куст, вышла маленькая кругленькая женщина с вздернутым кверху носиком, очень миловидная, в кофточке из драпа, имитирующего мерлушковый мех, и в громадной не по росту шляпке с перьями и цветами.
– Здравствуйте, Василий Севастьяныч, – сказала она, протягивая руку в бледно-желтой перчатке.
– Ах, Настенька!.. Настасья Ильинишна. Вас ли я вижу! – проговорил Лагорский и пожал ее руку.
Это была та самая Настина, когда-то горничная актрисы Милковой-Карской, которую Лагорский, сманив с места, превратил в маленькую актриску и жил с нею около года.
– Какой ты гордый… Проходите мимо и не кланяетесь, – продолжала Настина. – А ведь, кажется…
– Не видал, голубушка, а то неужели бы я!.. – оправдывался Лагорский.
– А я здесь служу. Недавно узнала, что и вы рядом с нами в театре «Сан-Суси» служите. Все хотела повидаться с вами, сходить к вам на репетицию, но как-то не удавалось…
– Служу, служу… Ну, увидимся потом…
Лагорский протянул Настиной руку и хотел уходить.
– Постойте… – остановила она его. – Я ведь очень рада, что увидалась с вами. Целую зиму не видела… весь зимний сезон. И ни одного письма, а обещал. Ведь если я не писала, то мужчина должен первый… Да и как я пишу! Словно слон брюхом… А я все ждала… Вот, думаю, Василий напишет! И не стыдно?..
Лагорский молчал, переминался с ноги на ногу и хмурился. Настина взяла его за рукав.
– Василий Севастьяныч, да что вы такой! Или вам неприятно, что я вас остановила! – вскричала она.
– Что ты, Настенька… – отвечал он в замешательстве и, обернувшись, взглянул по направлению к уборной жены. – Отчего же не рад? Даже очень рад, – прибавил он.
– Ну то-то. Ведь жили душа в душу. Более года жили, – не отставала от него Настина. – Ну-с, познакомилась я с вашей женой Копровской, так как мы вместе служим. Знаете, ведь никогда я не воображала, что жена ваша Копровская. Я ведь все думала, что жена ваша Малкова, настоящая законная жена. Ведь у вас от Малковой были дети.
– Да, были. Они посейчас живы… – пробормотал Лагорский.
– А Копровская лучше Малковой, право, лучше… – бормотала Настина. – Вы, стало быть, опять сошлись с Копровской? Я слышала, что сошлись. Но ведь вы ветрены, милый друг. Сегодня Копровская, завтра Малкова, потом Настина, а еще потом какая-нибудь Иванова. Правда ведь? – задала она вопрос, понизила голос и проговорила: – А что ж ты, Василий, не спросишь о нашем ребеночке?
Голос ее дрогнул.
– А что он? Где он? Здоров? – спросил Лагорский.
– Умер, Вася, умер… – слезливо отвечала Настина, вынула носовой платок и стала прикладывать к глазам. – В декабре прошлого года умер. И как, говорят, страдал! Я хотела тебе писать, но тут начали ставить у нас «Феодора Иоанновича», начались репетиции, репетиций много… Да и как я пишу? Я совсем не умею писать. Я как лягушка… А то еще хуже…
– Ну, до свидания. Увидимся, – прервал ее Лагорский.
– Да, да… Конечно… Очень рада. К себе пока не зову. Я в городе, в гостинице, но несносно ездить сюда, далеко… – говорила Настина. – Переберусь сюда. Поближе к театру. Нет ли где здесь отдающейся комнаты со столом?
– Не слыхал я…
– Завтра буду искать. Непременно надо переехать сюда. И вот как перееду сюда – милости просим ко мне… Торопишься? – задала она вопрос. – Ну, ступай.
– В буфете ждут, – отвечал Лагорский и побежал через сцену.
Глава X
Лагорский бродил по ресторану, по веранде, пристроенной к ресторанным залам, смотрел на съезжавшуюся в сад и театр публику, отыскивая глазами Тальникова, чтобы попросить его поддержать жену аплодисментами, но Тальникова не было. Лагорский хоть и уверял жену, что сговорился уже насчет ее поддержки с Тальниковым и другими лицами, но врал. До сих пор он ни к кому еще не обращался по этому предмету, а потому был в страшном затруднении. Он вышел в сад, искал его в саду, но и в саду его не было. Но вот Лагорскому попался актер Колотухин, служивший с ним вместе в труппе театра «Сан-Суси». Это был пожилой человек, полный, с седой щетиной на голове и мешками под глазами – комик и резонер. Он важно прохаживался по саду с сигарой.
– Не видали ли вы тут, Алексей Михайлыч, Тальникова? – обратился к нему Лагорский. – Я Тальникова ищу.
– Рыбу удит, – флегматично отвечал Колотухин.
– Как рыбу? Где?
– На реке. Трое их давеча с удочками отправились на реку. Он, Подчищаев и еще кто-то. Заходили ко мне на дачу в садишко червей искать… Но какие у меня черви! «Вы, – я говорю, – в навозной яме ищите, а то под камнями».
Лагорский рассердился.
«Нашел время рыбу удить! Будто бы другого-то времени не было, – досадливо подумал он. – Да и нужного человека сманил. Ведь этот Подчищаев также мог бы пригодиться для аплодисментов. Черт!»
– У меня, Алексей Михайлыч, сегодня жена в первый раз играет, – сказал он Колотухину.
– Копровская? Знаю. Хотя недавно узнал, что она ваша жена, – отвечал Колотухин.
– Так вот, если будете в театре, то поддержите ее, пожалуйста. По-товарищески прошу.
– Гм… А ловко ли это будет? Ведь тут сегодня наш султан и повелитель Чертищев (так звали содержателя театра и сада «Сан-Суси»). Я видел его сейчас.
– Что ж такое Чертищеву-то? – спросил Лагорский.
– Как что? Батенька! Ведь он и Артаев – это, в некотором роде, гвельфы и гвибеллины. Два театра рядом… И оба перебивают друг у друга публику. Война Алой и Белой роз также, если хотите.
– Полноте, Алексей Михайлыч. Я по-товарищески прошу.
– Мстить будет.
– Ну, как хотите. Откровенно говоря, я вас считал выше всего этого.
– Да я и то выше… А я слышал так, что сегодня сюда… Чертищев, то есть… Я так слышал, что он от себя более десятка разных свистунов и шикальщиков подсадил. Портные наши будут, бутафоры, билетеры. И приказано им шикать.
– Да что вы! – проговорил Лагорский и упал духом, ибо чувствовал, что попытка его создать клаку жене удасться не может.
– Так слышал. Я в пивной слышал. Давеча слышал. И за что купил, за то и продаю, – проговорил Колотухин. – Впрочем, я-то, может быть, и похлопаю вашей жене, если Чертищев в это время на меня смотреть не станет. Он промышленник, а она все-таки актриса, товарищ.
– Благодарю вас за обещание.
Лагорский отошел от Колотухина.
«Ну, не стоит и подговаривать на аплодисменты, если это так… Уж если портные наши и бутафоры подговорены, то кого же я-то подговаривать буду!» – подумал он и натолкнулся на Малкову.
Нарядно и очень к лицу одетая, в какой-то особенной шляпке, в которой Лагорский ее еще не видал, она шла под руку с любовником Чеченцевым.
– Ну вот и отлично. Мой кавалер нашелся. Больше я не хочу вас затруднять. Он сейчас сменит вас, – сказала она Чеченцеву, высвободила свою руку от него и взяла под руку Лагорского. – Все по жениным поручениям хлопочешь? – тихо спросила она его.
– Хлопотать-то, оказывается, невозможно, – отвечал Лагорский. – Представь себе, Веруша, что я сейчас узнал от нашего Колотухина! Здесь сегодня подсадка в театре будет… подсадка от нашего Чертищева… и наши портные, и вся прислуга шикать будут здешним актерам.
– Ну-у-у? – протянула Малкова. – Стало быть, и здешняя челядь завтра будет шикать нам в нашем «Сан-Суси»?
– Да уж само собой в отместку, если Артаева спектакль ошикают. Не миновать и нам.
– Василий! Ведь надо меры принимать. Так, спустя рукава, нельзя…
Малкова совсем встревожилась. Лагорский сказал:
– Какие же можем принять меры? Тут нет мер. Вот посмотрим, что здесь будет. Ах, бедная жена! Мне ее жалко как товарища!
– Хоть при мне-то оставь. Ну что ж все жена да жена! Я, Василий, тебе скандалы делать буду!
– Да ведь я по человечеству… Как актрису мне ее жалко. За что ошикают?
– Ну и называй ее Копровская, а не жена. А то жена, жена… Я твоя жена… фактическая жена. И странное дело: ее жалеешь, а меня не жалеешь. Ведь точно так же завтра и на меня ополчатся, и, может быть, даже сильнее.
– Не думаю. Ведь сегодня в распоряжении Чертищева весь служебный персонал сада и театра. У нас в «Сан-Суси» спектакля нет. А ведь завтра-то у Артаева в «Карфагене» такой же спектакль будет, как и у нас, так откуда он людей-то преданных возьмет, чтобы нам шикать? Ну, пошикает кто-нибудь, а наши ресторанные заглушат хлопками.
– Ах, дай-то бог, – проговорила Малкова. – Можешь ты думать, Василий, я уже теперь вся дрожу.
– Полно. Успокойся. Надо будет просить нашего Чертищева, чтобы он завтра во время спектакля отрядил официантов, что ли, чтобы они нас защищали, – сказал Лагорский.
– Похлопочи, Василий.
– Да и тебе, Веруша, следует похлопотать. Обратись завтра и ты к нему с просьбой. Ведь это шкурный вопрос…
– Всенепременно же… Но как это неприятно! Боже мой, как это неприятно, когда два театра враждуют! Я раз попала в такое положение в Харькове. Так, можешь ты думать, никто никакого успеха… Наконец кончилось тем, что сборы начали падать.
Лагорский и Малкова шли под руку по площадке сада среди публики.
– А где мы сядем в театре? Ты схлопотал что-нибудь? – спросила она. – У тебя ложа, что ли?
– Ничего еще не схлопотал. Где же схлопотать-то!
– Как же это так… Жена играет, а у тебя даже и места нет, где сесть.
– Свободные билеты обыкновенно выдают после начала первого акта, – сказал Лагорский.
– Но ведь можно загнуть билет в кассе, а продадут его и явится публика – можно пересесть на другое место. Твоя жена выходит в начале первого акта, и мне хочется видеть ее выход. Актриса-то она, говорят, с изъянцем, но все равно я хочу ее посмотреть. Поди к ней и попроси, чтоб она потребовала в кассе для нас ложу загнуть. Она здесь все-таки премьерша и может потребовать.
Лагорский мялся. Ему не хотелось, чтобы его жена со сцены увидала его в ложе с Малковой. Да и не станет она выпрашивать для него ложу. Она сейчас скажет: «Для кого тебе ложу, если ты один».
– Но если нет лож, если ложи все проданы? – сказал он.
– Какой вздор! Наверное есть. Ну да все равно: если нет лож, иди и проси два кресла.
– Хорошо, хорошо. Но я немножко повременю. Я ищу Тальникова.
– Тальников на реке рыбу удит. Я видела его. Сидит с удочкой. Иди, Василий, и проси, чтобы два кресла загнули. А я вот тут на скамейке подожду тебя.
И Малкова высвободила из-под руки Лагорского свою руку.
Лагорский зашагал к театру.
– Да не засиживайся там около своей жены! – крикнула она ему вслед.
Глава XI
Лагорский побывал у жены в уборной и, войдя, залюбовался на нее – до того она была красива, стройна и эффектна, приготовившись к выходу на сцену. Она была совсем уже одета, и горничная Феня, присев на корточки, пришпиливала ей что-то на юбке. Лагорский уже около пяти лет не видал ее такою. Дома Копровская всегда была неряшливо одета, без корсета, растрепанная, в стоптанных туфлях, а иногда с немытой шеей и грязными руками. Теперь же она была прекрасно причесана к лицу парикмахером, в меру подведенные карандашом ее глаза блестели, нежный, умело положенный, румянец играл на щеках, в ушах блестели серьги с фальшивыми бриллиантами, стан, затянутый в корсет, был гибок. Копровская стояла перед зеркалом, смотрелась в него и играла лицом, то улыбаясь, то строго хмуря брови. Она заметила, что Лагорский любуется ею, и спросила его:
– Ну что, хорошо так будет?
– Прелестно! – с неподдельным восторгом отвечал Лагорский. – Знаешь, ты прехорошенькая. И как к тебе идут это платье, прическа… Какие у тебя глаза!
– Черные волосы старят. Брюнетка для сцены – ужасная вещь. Будь у меня волосы хотя немножко посветлее – совсем другое дело было бы, – самодовольно говорила она, взяла ручное зеркальце и стала рассматривать свою прическу сзади.
– Нет, ты отлично сохранилась, Наденочек!
– Ты это говоришь таким тоном, как будто бы я и в самом деле старуха.
– Боже избави, Надюша! И не думал.
– Ну что же, устроил все, что я просила?
– Да, да, Надюша, будь спокойна, – говорил Лагорский. – Мало здесь наших-то… Но я кой-кого попросил. Надо, чтобы и ваши поддерживали. Те, кто не занят.
– Наши-то поддержат. Разве только что сторонники Марьи Дольской. Это соперница моя и воображает, что может перейти мне дорогу. Ужасная дрянь! Успела уже привести к себе каких-то мальчишек в формах. Давеча на репетиции около нее терлись студент какой-то и юноша в треуголке…
– Ты хорошенько попроси своих, – повторил Лагорский. – Петербургская публика – сухая, черствая, она видала виды, и ее ничем не удивишь.