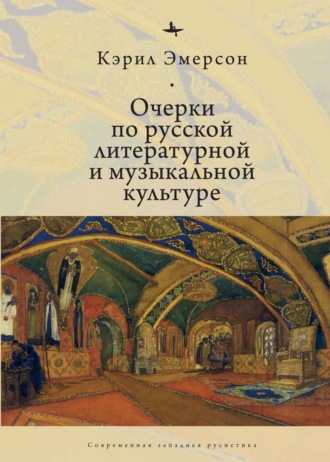
Полная версия
Очерки по русской литературной и музыкальной культуре
Медведев поднял и другие проблемы, актуальные для функционирования искусства в революционном обществе. Формалисты вправе превозносить авангард и поэтов-футуристов, но теория литературной эволюции, которая лишь переставляет элементы, перераспределяет функции и «движется» при помощи одной инверсии того, что было раньше, никогда не сможет оценить то, что действительно ново. Более того, формалистическое чтение искажает природу авторского намерения и читательской свободы. Знаменитый пример остранения в «Войне и мире», приведенный Шкловским (Наташа Ростова в опере), просто неверен: сцена служит вовсе не «остранению» и направлена не столько на освежение читательского восприятия, сколько на усиление толстовского авторитарного морального приговора, на утверждение «положительно должного» [Медведев 1993: 70].
Помимо гедонизма, нигилизма и стерильности, на которые формальный метод обрекает искусство, Медведев обращает внимание на странный, эксгибиционистский подход к вербальному нарративу. Единственное, что здесь постоянно экспонируется, это слово во имя слова. Любая мотивация хороша, если она шокирует или привлекает к себе внимание, поскольку «линия сюжета – кривая дорога отступлений» [Медведев 1993: 119], где событию и личности отводится лишь вспомогательная роль. Подобный подход является результатом ошибочных взглядов формалистов на жанр. С их точки зрения, жанры – это всего лишь пучки приемов, собранных (или активированных) смастеренным агентом, называемым «героем». Спросите, однако, читателя, и он подтвердит, что вымышленный мир и населяющие его герои переживаются нами совсем иначе. Созданное искусством сознание не является побочным продуктом сюжета, точно так же и жанры не являются всего лишь нагромождением нарративных «трюков». Герой внутри сюжета обладает внутренним единством, которое становится возможным благодаря способности художника охватить концептуальное (хотя и незавершенное) целое; знаком успеха как для автора, так и для читателя является способность сопереживать и тем самым развивать целое, осознавать параметры, в которых оно работает (то есть жанровые ограничения), а также его потенциал. Короче говоря, «видеть действительность глазами жанра» [Медведев 1993:150]. Свободно оперируя неокантианством, философией жизни (Lebensphilosophie) и теорией гештальта, Медведев утверждает, что набор приемов или даже упорядоченная их иерархия ничего не определяют. Подобный подход непродуктивен, поскольку у жанров есть глаза и уши[20]. Если литература и имеет дело с частями, то части эти органичны, а не механичны, они связаны с личностью и служат ей.
Критика Медведева, хотя и была во многом обоснованной, оставалась прямолинейной и грубой[21]. Он выступил против ранних, наиболее агрессивных установок формалистов, тогда как в 1928 году формализм как течение находился уже под угрозой распыления. За то лишь, что формалисты ценили звуки «как таковые» и, мысля бинарно, особо ценили пародические инверсии, обвинять их в «нигилизме» по отношению к содержанию и смыслу было несправедливо; в конце концов, негация составляет суть революции и может быть глубоко содержательна и значима. Утверждать, что творчество невозможно внутри закрытой системы, неубедительно: многие структурно лимитированные вокабуляры (в музыке, живописи или шахматах, например) обретают творческий потенциал именно благодаря существующим ограничениям. Более того, жанр со своими собственными «глазами и ушами» одним может показаться интимно близким, а другим – куда более зловещим, чем даже сам стерильно-«научный» мир: одни увидят в нем любящего соседа, другие – шпиона и соглядатая. Медведев не понял того, что с такой остротой было осознано Лотманом и тартуской школой семиотики в 1960-1970-х годах, хотя и по прошествии сталинской ночи, но все еще под пятой идеологии: механическое и специфически научное начало куда меньше подвержено страшной политике («марксистско-ленинский гуманизм»), чем беззащитный перед идеологией человек, так что в определенных условиях «чистая» (деперсонифицированная) научность оказывается последним прибежищем для личности.
Негативизмом медведевской критики бахтинский ответ формализму не исчерпывается. Бахтин подготовил свою работу «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» для публикации в 1924 году. В печати, однако, она появилась лишь в 1975-м и потому выпала из литературных споров на целые полстолетия. В ней Бахтин выстраивал свое собственное, весьма специфическое понимание бинарности. Это не вещь – вещь и не вещь – личность, но, скорее, творческое напряжение между двумя персональными категориями: «я» (я сам, ощущаемый изнутри и потому открытый, расплывчато-незавершенный) и «другой» (видимый снаружи и потому всегда кажущийся проартикулированным и оформленным). Формалисты были позитивистами. Бахтин был кантианцем, а потому отказывался сводить содержание искусства к механике. Не мог он симпатизировать методологии (или, скорее, теории познания), которая нацелена на вещи-в-себе. Только наш личный опыт может оживить априорные категории сознания; мы можем знать только то, что создаем сами. Открыто дистанцируя формальный метод от Канта, Шеллинга, Гегеля – философов, к которым он испытывал глубокое уважение, – Бахтин определяет формалистское понимание искусства как «материальную эстетику», отмеченную «примитивизмом» и «некоторой долей нигилистичности» [Бахтин 1975: 14]. В отличие от Медведева, Бахтин четыре года спустя не выступает против подобного подхода для выполнения определенных задач (он безвреден постольку, поскольку осознает свои границы) и высоко оценивает стиховедческие штудии Жирмунского и Томашевского. Однако для целостного эстетического анализа этот «композиционный» подход к материалу с использованием одних «приемов» непригоден.
При подобном анализе искусство «может быть объяснено и осмыслено только чисто гедонистически», оставаясь «возбудителем приятных ощущений и состояний психофизического организма» [Бахтин 1975: 14]. Опять-таки, в определенных прагматических и утилитарных целях подобный анализ оправдан. Однако программные статьи под названием «как сделано» то или иное произведение подменяют композицией архитектонику — духовно наполненное понятие из области эстетики. Для Бахтина основным недостатком материальной эстетики является «неспособность объяснить эстетическое видение вне искусства» [Бахтин 1975: 22]. Эта его оговорка вовсе не свидетельствует в пользу того, что искусство и жизнь – одно или что решение эстетических задач должно поддерживаться этическим действием или актом познания (две сферы, находящиеся в сложных отношениях с эстетикой). Однако он утверждает, что для эстетической деятельности свойственно определенное «интуитивное единство» – повышенная восприимчивость, «своеобразная доброта эстетического» и его «благостность», которые и дают нам смелость, необходимую для оригинальности, неожиданности и свободы [Бахтин 1975: 30].
Естественно, пишет он, что произведения принадлежат традициям. В любой целостной культуре «одно литературное произведение сходится с другим, которому оно подражает или которое оно “остраняет”» [Бахтин 1975: 35]. Однако сами акты имитации или остранения являются переходным, вторичным, когнитивным, а вовсе не эстетическим феноменом. Они не могут составлять единственную цель творчества. Это всего лишь техника, а техническая работа в любом художественном производстве не может быть первичной. Напротив, она должна отступить на задний план в момент художественного восприятия, «как убираются леса, когда здание окончено» [Бахтин 1975: 47]. Бахтин признает, разумеется, что не все искусства разделяют эти приоритеты. Проза имеет свои задачи, так же как драма и эпос. Поэзия же «как бы выжимает все соки из языка» [Бахтин 1975: 46] и в высшей степени требовательна к вербальному медиуму, максимально выявляя его. Но даже здесь материал слова должен быть преодолен в акте создания новой вещи, которая вырастает как эстетический объект «на границах слов, границах языка как такового» [Бахтин 1975: 49].
Что именно Бахтин понимал под языком, который должен преодолеваться в акте создания нового эстетического объекта «на границах», станет ясно только позже, в 1930-1940-х годах. В конце же 1920-х он изложил программу-минимум для позитивной диалогической альтернативы «автономному слову» в «Проблемах творчества Достоевского» (1929). Ко времени появления откликов Бахтин был уже осужден и его имя запрещено к упоминанию. Таким образом, эта новаторская книга не имела влияния до своего второго издания в 1963 году, а потому ее обсуждение не относится к литературным теориям 1920-х. Однако, имея в виду место Бахтина в современной литературно-теоретической мысли, несколько замечаний здесь будут вполне уместны.
Книга о Достоевском сама имела «формалистическую» задачу. Она определенно исключала анализ тех аспектов творчества Достоевского (моральная философия, теология, аномальная психология, великорусский шовинизм), которые превратили романиста в персону non grata и в неподходящий предмет изучения в новом большевистском государстве, что было провозглашено самим Горьким. Вместо этих внелитературных тем Бахтин сконцентрировал свое внимание на разборе слова в творчестве Достоевского. С этой целью он предложил систематизацию прозаического слова, не менее градуированную, чем якобсоновские таблицы[22]. Но это романное (непоэтическое) слово не было ни самодостаточным, ни предназначенным для калькулированного звукового эффекта. Оно было податливым и незащищенным. Эта уязвимость высказывания, всегда пребывающего на границе другого незавершенного ответствующего слова, – отличительная черта бахтинской доминанты. С точки зрения Бахтина, произнесенное слово не существует как таковое до тех пор, пока оно не адресовано другому открытому к восприятию сознанию (или не рождено в его присутствии). Мы вообще не можем говорить, полагал Бахтин, до тех пор, пока в нашем сознании отсутствует Другой, собеседник; но одновременно мы не можем быть уверены в том, когда и как родится слово Другого. Смелость бахтинской полифонической теории – в допущении, что язык действительно в состоянии создавать неконтролируемую, свободно развивающуюся «жизнь», лишь даваемую романистом, но ощущаемую героями как их собственная и незавершенная. Герои создаются автором для удивления читателя, они способны отвечать и сопротивляться. Романная полифония, которую Бахтин считал настоящей Коперниковой революцией в области слова, и есть самый блестящий формальный прием Достоевского.
Анатолий Луначарский опубликовал в октябрьской книжке «Нового мира» за 1929 год своевременную (и вполне сочувственную) рецензию на бахтинскую книгу, что, может быть, спасло Бахтину жизнь. Однако вообще его работу о Достоевском приняли равнодушно, если не враждебно[23]. Ортодоксальные марксисты, находившиеся тогда у власти, не склонны были верить его антиформалистическим взглядам, что в любом случае едва ли предохраняло от опасности в 1929 году. Они объявили книгу Бахтина (в целом справедливо) идеалистической, внеисторической и недостаточно классово-ориентированной.
3. Социологическая школа и марксисты
Теперь можно обратиться к пестрой группе материалистов, попутчиков и марксистов, чье противостояние обращенной вовнутрь, как им казалось, внесоциальной позиции формалистского литературоведения было непреклонным с начала 1920-х годов. Прежде чем речь пойдет о марксистах, следует упомянуть о Валериане Переверзеве (1882–1968) и его «социологической критике» 1920-х. Социологическая школа была идеологическим гибридом, в котором нашлось место и некоторым формалистическим принципам автономии литературы, и определенным социальным факторам, высоко ценимым марксистами, и даже развивавшейся в то время коллективистски интерпретированной психологии искусства[24]. Несостоятельность этой гибкой идеологии стала ясна в 1929–1930 годах, когда РАПП развернул шумную кампанию против «переверзевщины». Сам Переверзев еще до революции был авторитетным литературоведом, автором хорошо известных монографий о Достоевском (1912) и Гоголе (1914). Его социологическая школа пользовалась эмпирической индуктивной методологией, ограничивая себя дескриптивным нетелеологическим анализом материала, предлагаемого литературным текстом. Литературное произведение в этом свете являлось результатом впечатанного в него социального опыта. Последний не обязательно должен был быть экономически или классово детерминированным, но непременно коллективным – сознательным или бессознательным опытом коллектива, звучащим внутри каждой личности.
Поскольку детская психика аутентична, спонтанна и легко проницаема для внешних влияний, а следовательно, неконвенциональна и подвижна[25], социологическая критика часто концентрировалась на категориях, ключевых для детей, таких как привязанность к «своему дому» или понятие игры. Переверзев критиковал марксистов за недостаточное внимание к роли бессознательного, а также за слишком ограниченный набор факторов, на которых они базировали социально детерминированную теорию литературы. Литература – это игровая площадка, полагал он, но это также и испытательный полигон для воображения. Это игровое пространство наполнено не идеями, но образами. Образ для Переверзева всегда социален. Общая сумма образов в произведении составляет «центральный образ», являющийся аутентичным отражением социального переживания.
В 1929 году радикальные пролетарские критики обрушились на социологическую школу, обвинив ее в несколько иных грехах, чем те, что были обнаружены в книге Бахтина о Достоевском. Однако Переверзев, как и Бахтин, был осужден за «психологизм» и недооценку определяющего влияния политики, экономики и социально-классовых отношений в художественном творчестве. В целом аргументы марксистов в споре с их противниками к концу 1920-х годов не стали ни мягче, ни жестче. Укрепилась, однако, их поддержка со стороны партийных институций. Что касается формализма, то наиболее осмысленная и принципиальная его критика появилась не к концу десятилетия, а в самом его начале, в пятой главе книги Льва Троцкого «Литература и революция» [Троцкий 1991: 130–145].
Подобно Бахтину, Троцкий видел «немалую заслугу» этой «первой научной школы искусства» в переводе исследований «из состояния алхимии… на положение химии» [Троцкий 1991:130]. «При всей поверхностности и реакционности», полагал Троцкий, формализм может быть полезен как для узколитературных задач, так и в широком симбиотическом, объясняющем плане для великих поэтов революционного футуризма, таких как Маяковский. Высокомерие и опасность проистекают из нежелания формализма признать «вспомогательное, служебно-техническое значение своих приемов» [Троцкий 1991: 131]. Как мы видели, ту же обеспокоенность разделяли с Троцким Бахтин и Волошинов. Однако в общем смысле, имея в виду те параметры, по которым мы рассматриваем четыре направления в литературной теории первого советского десятилетия, критика Троцким формализма показывает фундаментальные различия между его позицией и позицией бахтинского кружка.
Доминантой формализма было автономное, самоценное слово. Для Бахтина ею было взаимозависимое, незавершенное, обращенное к Другому слово. Для марксиста Троцкого, по контрасту, доминантой было человеческое поведение, воплощенное в действии – социально детерминированном, классовосознательном, материальном и диалектическом. В знаменитом окончании пятой главы «Литературы и революции» Троцкий суммирует позицию формалистов, противопоставляя ей марксистский подход к делу: «Они иоанниты: для них “в начале бе слово”. А для нас в начале было дело. Слово явилось за ним как звуковая тень его» [Троцкий 1991: 145]. Понимание слова как теневого паразита действия имеет, конечно, древнюю традицию, восходящую к Платону. Позиция Троцкого вписывается в нее, апеллируя к тем русским мыслителям, кто увидел в Гегеле путь к выходу из летаргии, застоя и неуправляемости своей огромной страны. По мнению Троцкого, формалисты и идеалисты («гениальнейший из них Кант») «берут не динамику развития, а его поперечный разрез в день и час их собственного философского откровения» [Троцкий 1991: 144]. Такие мыслители составляют часть проблемы России, а не ее решения, полагал Троцкий, и литература в их руках перестает быть силой, направленной на общественное благо.
Его легко уловимая, едва скрываемая полемика с субъективностью и персонализмом в философии восходит к ленинской книге 1908 года «Материализм и эмпириокритицизм» с ее почти истерическим утверждением объективности материального мира, потенциально доступного для каждого и не зависимого от индивидуальной точки зрения[26]. Согласно Ленину, только безусловное существование такой объективной реальности может придать писателям и другим общественным деятелям уверенность и бесстрашие, необходимые для действия – достаточно сильного, чтобы изменить мир. Понять, насколько велики требования, предъявляемые марксизмом к личности, и насколько она бессильна перед марксистской аргументацией, даже когда спор идет об отношениях искусства и жизни, можно, обратившись к некоторым фундаментальным предпосылкам диалектического материализма. Сам этот термин был введен в критику Георгием Плехановым (1857–1918), сохранявшим статус первого русского марксиста, и стал обязательным для советской науки. Бахтин критиковал формализм как «материальную эстетику». Троцкий находил формализм, напротив, весьма далеким от материализма (таким ему показался бы и сам Бахтин). Исходя из установок Троцкого, ни одна из этих критических школ не имела ничего общего с правильным принципом, «могущество» которого может быть найдено только «в его объективной исторической обусловленности» [Троцкий 1991: 136].
Логика диалектического материализма сводится к тому, что вся реальность, в сущности, материальна. Материя объективна и первична. Но она не мертва. Маркс настаивал на том, что движение является важнейшим свойством любой материи, имея в виду не только механическое действие, но и жизненные импульсы, напряжение, присущее материальному миру. Поскольку психика, получающая жизненный материал, изначально чиста и не существует независимо, реальность полностью познаваема. Познающий субъект должен воздействовать на материю, чтобы освободить ее энергию. В этом смысле субъекты не только рождены в этом мире, но становятся ответственными преобразователями его. Они, однако, не могут мыслить и действовать автономно, как утверждают романтические и идеалистические теории познания, поскольку в значительной степени детерминированы материальным миром. Эта обусловленность реализуется через «социальное бытие», которое дано субъектам в ощущение, и манифестирует себя в привычках, предрассудках и сознательных действиях. Социальное бытие не статично. Хотя все материальные формы связаны с целым, в последнем нет ничего абсолютного или вечного. Развитие на всех уровнях, социальных и персональных, не является результатом унифицированного эволюционного процесса, но перемежается с эпохами катаклизмов, то есть революционных изменений. Все изменения – результат конфликта противоположных тенденций. Сознательно или нет, творцы являются как героями этой борьбы, так и ее продуктами.
Ясно в этом свете, что Переверзев и его социологическая школа сознательно использовали диалектический материализм в литературной науке, отдавая должное социально обусловленному образу и динамическому бессознательному. Только под давлением Переверзев сузил к концу десятилетия набор социальных переменных, чтобы включить специфически классово-обусловленный «диалектический материал», санкционированный марксистско-ленинской догмой[27]. Наиболее совместимыми с такой ограниченной версией марксистской литературной критики оказались, конечно, социально-экономические дисциплины. Политика скрепляла этот союз силой.
Однако в более плюралистическую эпоху 1920-х годов социологическая критика была лишь составляющей куда более широкого круга творческих экспериментов, включающих в себя бытие, движение, социальное действие и индивидуальную психику. Так, достижения в эволюционной психологии оказались не менее захватывающими, чем в самой литературе, особенно в творчестве Льва Выготского (1896–1934). Стоит заметить, что разработанные им оптимальные сценарии обучения детей были созданы после длительного и глубокого изучения литературы и драмы, нашедшего отражение в проницательном прочтении Бунина, Пушкина, шекспировского «Гамлета» в его книге 1925 года «Психология искусства».
Исходный пункт всех материалистических критиков идеологически был весьма емок: поскольку материя первична по отношению к знанию, литература является вербальным отражением социального действия. Так что под широкой вывеской «материалистического подхода» уживались романтизм, сентиментализм, любование насилием и самая откровенная телесность. Александр Воронский (1884–1943), умеренный марксист, почитатель Фрейда и вскоре свергнутый редактор «Красной нови», дает пример такого рода в своей статье, посвященной Бабелю (1925):
Бабель писатель физиологический <…> Для Бабеля священна данность, действительность, жизнь, примитивы человеческих интересов, побуждений, страстей, вожделений, характеров, все, что принято называть грубыми животными инстинктами <…> Он враждебен христианскому, идеалистическому мировоззрению, почитающему плоть, материю низменным, греховным <…> Наоборот, он любит плоть, мясо, кровь, мускулы, румянец, все, что горячо и буйно растет, дышит, пахнет, что прочно приковано к земле [Воронский 1987: 151–152].
«Материал» революции, наполненной зверствами Гражданской войны и охватившим страну голодом, включал множество стилей, которые подпадали под марксистскую «теорию отражения» в искусстве. Они охватывали широкий диапазон – от конвенционального психологического реализма (жесткого и выразительного) до блестящего, временами зловещего орнаментализма Замятина и Бабеля. Однако эти стили оказались доступны не только великим мастерам прозы, но и писателям-самоучкам, которых поддерживал Пролеткульт (до его укрощения в 1920 году) и, после 1922-го, многочисленные кружки, входившие в РАПП. В этих литературных кружках превыше всего ценились самоуверенность, тяга к учебе (у русских классиков и друг у друга) и рабочая среда. В этом свете природный дар, интеллектуализм, опыт, преклонение перед самобытностью и гением были вторичны. Евгений Добренко проследил за тем, как разрасталась эта «армия поэтов», и проанализировал удручающую банальность ее «творческих завоеваний». Создание текстуального канона, отразившего (вполне буквально) уровень мастерства писателей-самоучек, и стало основным вкладом 1920-х годов в сформировавшийся позже соцреализм. Из множества индивидуальных комментариев этих начинающих поэтов, приводимых Добренко, один выделяется особым пафосом: «Да, – сетовал главный комсомольский поэт [Жаров], – много есть таких вещей, которым мы еще не доучились у Пушкина» [Добренко 1999: 278–279].
Судьба провозглашенного в 1928 году всесильным РАППом «диалектико-материалистического творческого метода» сложилась удивительным образом [Ermolaev 1977: 3–4 и гл. I, II – о литературных теориях и группах до 1925 года]. Подобно формализму, он был осужден как «уклон» в 1932-м. Однако никогда не объявлялся (подобно опасно ядовитому эпитету «формалистический») одним из идеологических извращений, которые несут смертельную угрозу своим партийным адептам, не до конца разделяющим освященную идеологическую догму. Критика в приемлемом марксистско-материалистическом духе поддерживала механистический тривиальный экономический детерминизм, применяя его как к авторам, так и к их героям, что характерно для работ Владимира Фриче (1870–1929), а также для наиболее интересных, гибких и точных работ Переверзева. Важным фактором, обеспечивающим точность этих интерпретаций, как говорилось выше, было присутствие в них «по крайней мере одной конкретной объективной вещи» – внешнего по отношению к субъекту фактора, именуемого социально-экономическим бытием. Как заметил Петре Петров, сравнивая формалистов с Переверзевым, два эти проекта – при всей огромной разнице своих доминант – походят один на другой как минимум по двум принципиальным параметрам. Во-первых, вне зависимости от того, какая сверхличная ценность избрана «в качестве исключительной или определяющей – внешняя по отношению к динамике формы или к объективному социальному бытию», – в обоих сценариях автор не вполне автор: «индивидуального субъекта недостаточно». Во-вторых, обе школы развеивали миф о «привилегированных отношениях» литературы с «внутренним миром личности» [Petrov 2006: 44, 43].
Марксистско-ленинская литературная интерпретация, как мы видели, имела специфический интерес к отношениям личность – вещь. Как социально-экономическая доктрина, укорененная в материальных проявлениях человеческой деятельности, сконструированная в противовес изолированному картезианскому субъекту и предназначенная для укрепления социальных связей, марксизм-ленинизм был близок скорее к отношениям личность – личность. Да только сами индивиды, организованные в классы, сформированные материальными условиями, прикованные к своим социальным ролям и своей судьбе, стали предсказуемыми, как вещи.




