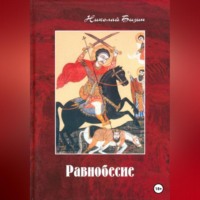Полная версия
Среда Воскресения
Кар-р!
Просто-напросто потому, что слишком вольготно жил взаймы (кто любит Ремарка, поймёт) у «своей» части иного мира. Такого мира, которого нигде не было, но который – мог бы быть (поэтому – должен быть), поэтому – о наивозможном долге перед собой беспощадно напоминал и шатким полётом вороны, и громким Кар-р!
Илии Дону Кехана напоминали о том счастье, которого (по настоящему) у него никогда не было.
Напомнили, что он только часть своего с-частья, и ему пора подумать об ис-целении. Ведь что такое быть в долу? Весь мир – долговая тюрьма и (вместе с тем) очень долгое дело: соблюдать своё тело, дабы не подвело в исполнении долга; ведь что такое быть в долгу? Постоянно себя с этим долгом соотносить (постоянно – не в свою пользу).
Сказать, что именно сейчас он и почувствовал себя в долговой тюрьме перед своей частью иного мира никак нельзя: иначе откуда все эти долгие годы подготовки и осознания?
Кар-р! Вороний вопль не словно бы, а на самом деле отделял друг от друга реальности, лишь невидимо меж собой различимые; итак: первый долг! Моему Идальго должно было переставать вечно пребывать – словно бы замертво (за мертвого) перед окном, и он перестал.
Каждый человек пребывает замертво перед окном в своё бессмертие. Каждый человек есть пророк (готовый сказать: Бог жив!); а сейчас – всего-то и понадобилось пророку, чтобы стать пророком: разлапистый вороний полет: когда б мы знали, из какого сора нам расцветают новые миры… Кар-р!
Хорош вороний полет в морозном воздухе! Хороши крылья птицы, словно бы инеем подернутые! Хорош был бы и осенний проем, перед которым всю свою жизнь провел мой гордый своим одиночеством Идальго: за его стеклом было и разреженно, и даже космически – за окном был легкий морозец… Русь, ты вся поцелуй на морозе! Ты вся – как губами к железу, и без крови не оторвать собственного произнесения.
Ты как осенний проем в другую жизнь. Потому как – осеняет (освещает, просветляет, истончает перед уходом в настоящее); впрочем, то вещественно грубоватое и по осеннему истончаемое место, в котором какое-то время проживал Илия Дон Кехана перед тем, как выйти в мир и стать Идальго (человеком чести и долга), носит гордое прозвище Бернгардовка.
Железнодорожная платформа Бернгардовка. Очень русское, по петровским (кровавым и космическим) временам, имя.
Что в имени тебе своем? Имя собственно-нарицательное – как определение собственной само-идентичности: хочешь ли ты раствориться в огромном и правильном мире, или – ты хочешь произносить себя посредством той маленькой родинки, что всегда у тебя на губе? Которая и есть твоя исконная (и искомая) родина.
Вестимо, и во времена петровы человеку приходилось определять собственную идентичность.
Вестимо, любой человек сам решает, раствориться ему, стать целым и потерять свою часть, или сберечь свое с-частье, свою идентичность: хотя человек и есть прежде всего гомункул культуры, над которой возможна душа – сама эта возможность наличия у человека души уже делает человека некоей мерой изменения!
Дает возможность прилагать самого себя (свою меру) к возможным (виртуальным, стихотворным) версификациям видимого.
Точно так, как посреди наших Темных веков невидимый (теперь уже прошлый) литературный негр Илия Дон Кехана прилагает к общедоступным буквицам некую крошечную толику необъятной (и потому недоступной) тоски по настоящей идентичности. Точно так, как потом он ставит эти буквицы рядом друг с другом, дабы они (уже над собою) составились в смысл, способный продолжаться многожды дальше себя – в невидимое.
Так же, как он накладывал свою скоморошью маску на чужие книги: вдыхая в них душу живую.
Тогда «нарисованные» этими книгами глазки будут более зорки. Ведь эти книги обязательно станут бестселлерами и всем отведут (аки бесы) глаза туда, где возможно душам – дышать: ведь миру должно (а как иначе в нашем шеоле?) одушевляться! Иначе никакого мира не будет вовсе.
Ведь даже наша несусветная тоска по настоящему (ещё неопределимая и неоформленная) все равно жаждет определиться: стать наполнена смыслом и действием! Вот так и собрался мой человек Воды сбежать из Санкт-Ленинграда в Москву – глупость, конечно, невиданная! Ведь даже сейчас, пока он всего лишь из окна своего Божьего Царства выглянул, а уже стало ясно: ничего нового он не увидел да и не мог увидеть.
Не надо ехать на край света, чтобы убедиться, что и там небо синее. (Гёте)
Не надо ехать в Москву, чтобы там увидать Сорочинскую ярмарку, если она – здесь и везде.
Всего-то и увидел мой Илия Дон Кехана, что среднеобразовательную школу. Всего-то и услышал (благо, было недалеко), как прямо перед ней препо-даватель культуры телодвижений понукает своих безразличных учеников. Словно бы и самого Илию Дона Кехана – понукает, демон-стрируя: Первопрестольная потребует совсем другой внешности телодвижений!
И одушевления этой внешности потребует под стать себе – демонического и стихийного.
Итак: стайка легконогих подростков «взмывала над самими собой» – немного вразнобой: «физически и культурно» подпрыгивая и почти в один голос хихикая! Непосредственно формируя свое коллективное сознание посредством полуосознанных и полуодушевленных телодвижений, то есть: в беге! В приседании! В прыжках!
Гармония мира – словно бы днем с огнем искала и не находила подходящего (прямо к нам переступающего своими реинкарнациями) человека, способного непосредственно слышать музыку небесных сфер (вдыхать душу свою – в ритме, слове, гармонии), словно бы следуя за музыкой следом! Слыша ее и размышляя о ней, и лишь потом механически (уже много-много упростив) ее исполняя.
То есть опять-таки: словно бы в беге, приседании и прыжках!
А ведь гармония мира (доселе) никак не на-ходила подходящего человека – просто потому, что ей никуда (и незачем) было идти, ведь такой человек у нее уже есть! Ведь мой Идальго уже сам по себе является человеком Воды: наполняя живой Водой составленные им сущности, он ведает и о мертвой Воде (скрепляющей и делающей целым все разобщенное).
Если до сих пор он только и делал, что лишь сам по себе выживал в коллективном видимом, то теперь под глобальной угрозой оказалось его невидимое, его малое Божье Царство, его Санкт-Ленинград, в пригороде которого он всего лишь выглянул из окна – в тот момент времени, когда времени уже ни у кого не осталось.
Об этом и история. В которой нам всем выживать стало не-где и не-когда.
Меж тем на просторах его родины связь времен опять(!) была прервана. Причем – как гром средь ясного неба (как будто у нас с вами когда-либо бывали непрерывные времена). Но на этот раз настало очень опасное «опять»: на этот раз уже не столько коллективное сознание заинтересовало тех сверхнелюдей, что пробовали им управлять, сколько коллективное бессознательное.
Случилось то, что случилось.
Повсеместно (по всему миру людей) сами люди начали пробовать управлять тем невыразимым, что правит всем миром людей – и стали казаться себе богами, демонами или Стихиями. А ведь на деле нет вовсе никаких сверхнелюдей (бесов или богов – deus ex «из чего-либо») – есть лишь человеческие существа в лишённом волшебства шеоле (иудейском аиде), таковыми себя полагающие! Более того, полагающие такие манипуляции достаточно простыми.
Повсеместно сами собой становились понятны слова:
Если видишь чужими глазами,
То и любишь чужой любовью!
Я к тебе прихожу небесами,
Как подходит волна к изголовью…
Как идет скакунов поголовье,
Устремляя зрачок вожака:
Наше зрение за века
Научилось любить любовью -
Не такой, какой слышат уши,
А такой, какой видят душу…
Казалось бы, мы действительно научались видеть душу слов, но – гомункулам культуры вольно или невольно навязывается взгляд, что для живых и пристрастных людей silentium (невыразимое) является недостижим, что silentium есть безжизненная и сухая пустыня! Причем – с точки зрения линейной логики это является чистейшей Воды правдой.
Причем – эта несомненная правда была погибелью для идентичности жителей шестой части суши плоского птолемеева глобуса. Но что за дело литературному негру с его возделанной плантацией до сухой пустыни?
Литературный негр (вполне невидимый посреди Темных веков) вполне был доволен своей невидимостью, ведь его тёплый мир (его личного Божьего Царства) везде был бы с ним. А вот государство Илии Дона Кехана, лишенное собственной жизни в невидимом, оказывалось обречено задохнуться без влаги, если нет в нём людей Воды и Воздуха!
Или не устоять на поверхности, не опершись о людей Земли. Или ослепнуть (даже) в иллюзиях, не найдя людей Огня.
И вот уже в своей Бернгардовке (очень русское, по петровским временам, наименование) мой Илия Дон Кехана стоит перед окном в «европы», и вместе с ним вся его Русь (не какая есть, а какая могла быть) прикипает (Русь, ты вся поцелуй на морозе) губами к стеклу – аки к студеному железу, чтобы без боли и крови их уже не отнять… И от губ уже не отнять запределья.
Ибо в любых поцелуях,
Помимо плоти единой,
Есть поцелуй Иуды
И есть поцелуй Сына…
Тот самый поцелуй. Того самого Сына. Готового весь мир ис-целить: либо дать ему перестать быть миром маленьких божиков, либо – всему этому (такому маленькому миру) изменить, коли он предпочтет перекинуться в мир якобы больший. В любом случае такой поцелуй есть несомненная МИРОВАЯ КАТАСТРОФА ЛИНЕЙНОЙ ЛОГИКИ… И сию катастрофу ознаменовал самый обычный хриплый вопль!
– Кар-р! – донеслось от самой обычной (хотя очень красивой и размашистой) вороны, пролетевшей мимо окна моего Идальго: как впоследствии оказалось, у птицы в нашей истории тоже отыщется свой интерес, но – здесь и сейчас она (а еще точнее – не сама она, а лишь ее вопль) исполняла роль провозвестницы.
Кар-р!
Ведь зачем нам вся птица? Совершенно незачем – поэтому: нам с вами предстояло еще одно наглядное разделение! На этот раз делить предстояло птицу: ее полет (разлапистый и размашистый) станет сам по себе, а её отдельный вопль (громкий и хриплый) возьмется нас преследовать и словно бы окажется этим самым все разъясняющим и это самое «все» разделяющим «Кар-р».
Итак, птица улетела, а ее отдельный вопль у окна задержался.
Кар-р!
Вся видимая нам в окно заиндевелая поверхность земли очень медленно и с очень легким наклоном разделилась на свое изменение (моим будущим – моего прошлого) и на свое оставление (причем – птолемеевый глобус не остановил обращения) в самом себе – настоящего.
Итак, земля начиналась-начиналась-начиналась асфальтом перед его домом, переходила в газон и далее – к заснеженному грунту спортивной площадки и далее-далее-далее: прямиком к тому, что видит око, да зуб неймет!
То есть – к равнодушному преподавателю физической культуры! То есть – прямиком к зрачку вожака, готовому всех без разбора повести к телесному прогрессу (никакого отношения не имеющему к жизни твоей души)… Поэтому – так равнодушен наш взгляд! Мы смотрим на те самые едва одушевлённые вещи, которые справедливо попрекают нас нашим же высокомерием.
– Не мерьте себя высоко, отмерьте себя видимо, – говорят нам какие-нибудь «они».
И они совершенно правы, а мы совершенно не правы: такова высокая мера неправоты.
Ибо в любых исцелениях
Есть проявление целого и на части дробление!
Есть и явление гения,
Есть и явление урода
Как перемены лица,
И перемены погоды, которыми не испугаешь!
Но когда ты природу меняешь
(но при этом не изменяешь собственной тишине)
И тихонечко говоришь этим дождем в окне:
Ты природу меняешь во мне на совсем другую природу…
Изменяя природе, мы начинаем быть, а не казаться, мы начинаем во тьме наших веков – различать: доселе мы были безразличны (не из кого было – различать), были искусственны и продажны. Впрочем, таковыми мы и останемся, разве что – за нами придет наше время, и мы просто останемся, а не исчезнем.
И не обязательно все начнется с вороньего вопля
– Кар-р! – крикнула великолепная ворона (птица жирная и сильная), пролетая-пролетая-пролетая мимо окна и (в конце-концов) улетев неведомо куда: к чему множить сущности? Человеческая жизнь (даже без своей трансцендентности) есть бесконечное добавление к достаточному.
– Не исчезните ли вы сами, если к вашей душе постоянно не добавлять и добавлять вашу плоть и ваши желания плоти?
Нет ответа!
Что есть любовь? Не знаю. Сон во сне.
Чеширская улыбка на земле
Вдруг улыбнулась, и земля исчезла!
Точно так, как здесь и сейчас из нашего с вами окоёма исчезла птица, оставив только свой вопль – произошло это разделение очень просто: раззявив свой черный рот и покосившись черной бусиной глаза, ворона словно бы улыбнулась, предвещая… Что предвещая? Очень простую вещь: желание быть и остаться!
Я хочу, чтобы моя Россия – была, чтобы ее люди жили жизнью живой и говорили на русском языке, а не на исчезающем диалекте восточных славян – я так хочу! Причем – просто потому, что я этого хочу – тем самым хотением, для которого нет оснований больших, нежели моя воля к власти над моим миром, моей жизнью и моей смертью, которая – невозможна (просто потому, что я ее не хочу).
Причем – не по щучьему велению, а по моему хотению.
Кроме этого – пришло время (окончательно, а не полунамёком) дать изменившемуся герою простое, а не составное, имя. Которое имя было у него всегда, но – со мной оно станет заглавным: прежде он носил титул странствующего рыцаря (идальго) лишь с маленькой буквы (причем – как добавление к Илии Дону Кехана), а теперь оно станет звучать как Идальго.
Начнёт означать: и-даль, и-высь, и-ширь.
Но к чему все эти подробности имени? А к тому, что именование и есть то самое мироформирование, за которым нам предстоит наблюдать всю нашу жизнь.
Которому я отдаю свою жизнь.
Дальше – больше: отныне невидимый крик черной птицы тоже перестанет быть и прозываться карканьем! Отныне мы его будем звать Кар-ром, а вот как он будет выглядеть, мы с вами узнаем лишь к завершению моей истории мира.
– Кар-р! – невидимо прокричала жирная ворона, и таким образом (пока что безо всякого человекообраза или словообразования) на ткани моей истории обозначился некий изгиб: если сложить ткань и совместить времена и нравы самых разных (её составляющих) нитей, тогда дальнее совместится с ближним.
Тогда мы из дальних станем близки(ми); станем сердцевиной мировой гаммы (до-ре-ми-фа-соль-ля-си). Ведь если сложить составляющие имени мира, то из одной его части звучания можно перебраться совершенно в другое его счастье; так и составляются Божьи Царства и так они одушевляют наши телодвижения: произнесением нового имени старому миру:
– Кар-р!
Именно так (по имени – и никак иначе!) возможно переводить с языка плоти на язык духа. Именно так (по имени – и никак иначе!) возможно возвращаться обратно. Но в волшебных сказках (не только «Тысячи и одной ночи», но и гораздо нам близких) для этой цели служат атрибуты и посредники – как то: кроличьи норы и зазеркальные образы, а так же черные коты и мудрые вороны!
Ворона, явившаяся и сразу сгинувшая, была мудра, оставив вместо себя лишь свой вопль.
Сама она (как и я) предпочла остаться в пригороде истории: кто знает, куда нас с вами заведет дорога перемен? А с бесплотного вопля в любом случае взятки гладки (так, во всяком случае, полагала ворона – и очень ошибалась!); впрочем, давно пора перевести это ее карканье в членораздельную (как телодвижения подростков перед школой) человеческую речь.
Итак, вороний вопль, расставшись с породившей его птицей, обратился непосредственно к Илии дону Кехана:
– Любезный мой Идальго! – птичий вопль с самого начала подтвердил новый статус моего героя, давая понять, что речь с пророком может вестись только по существу, поэтому вопль сразу взял быка за рога (и не удержался при этом от симпатичной аллюзии. – Я ведь вам послан по дельцу.
Илия его (вопль) услышал и сразу же весь обратился во внимание (и пренебрёг тем, что Азазелло был отправлен королеве Марго, а сам он (скорей всего) Мастер; более того – тот факт, что чеширские губы изъяснялись на чистейшем наречии англосаксов, а названного языка мой (в невежестве мне подобный) герой не знал вовсе, даже меня ничуть не смущает.
И вот что он (а вместе с ним и я) понял:
– Я принес вам пренеприятное известие. Старик (здесь симпатическая фамильярность прямо-таки выпрыгнула из невидимых губ) велел мне вам передать, что ему опять понадобился самонадеянный рифмоплет.
Идальго не удивился. Но отвечать не стал. Тогда вороньи губы продолжили дозволенные речи:
– …! – нецензурно (или – не нормативно) выругался вороний вопль; точнее, мог бы выругаться – буде в нынешнем упоминании половой физиологии хоть какой-то древний заклинательный смысл; но – смысла не было!
Вороний вопль всего лишь хотел бы продемонстрировать власть на реальностью. Хотя помянутой властью не обладал, являясь только посредником.
Но невозмутимость Идальго его покоробила, и это выразилось в неоформленной брани: он словно бы покарябал когтем по стеклу! Оконное стекло, отделявшее чеширскую улыбку вороньих губ от адресата, которому была назначена весть, сразу же покрылось легкой изморозью. Но брань была ни при чем.
Это от фамильярности слова «Старик» из губ вороны действительно повеяло серьезной стужей. Увидев последствия, Кар-р опамятовался и немедленно продолжил свою речь другой неоформленной вестью:
– …! – а вот это уже не было заклинательной руганью и явилось более прикладным, напомнив о приворотном зелье (средстве получения утех).
– …! – повторила, ворона, прекрасно понимая смысл эпитета (и то, что он никакого отношения не имеет к предмету любовного вожделения Идальго. И только оконное стекло (как камертон души всего жилища) воздушно зазвучало легчайшим эхом далеких женских шагов.
Шаги были далеки и неслышны, но – они явно не блазнились! Они становились всё ближе. Настолько, что Илия Дон Кехана почти их услышал.
Впрочем, именно ему они и должны были прозвучать.
– Кар-р! – крикнул вестник, на этот раз вслух: демонстративно отвлекая от звука шагов (и намеренно не отвлеча); впрочем, никакого значения притворной неудаче своей не придав: шаги близились, и их все равно было не избежать! Поэтому вороний вопль лишь продолжил:
– Старику действительно понадобился версификатор, причем – исключительно самонадеянный и всё ещё полагающий, что он не какой-нибудь присвоитель чужого, жалкий плагиатор тех сущностей, что и без него сущи. Вы ведь именно таковы, я не ошибся?
– Да. А иначе?
Кар-р (почти тепло) усмехнулся:
– Можно иначе. Можно осознанно сущности множить. Сослаться, что чужих истин не бывает. Или что истина анонимна. А вы ещё несмышленыш, но о вас стало уже известно, – вестник невидимо (и от этого еще более многозначительно) бросил на Илию острый (как вороний клюв) взгляд.
Так он продемонстрировал альтернативу своему дружелюбию.
Идальго (как мастер ристаний) проигнорировал этот пустой укол. Тогда вороний вопль ещё потеплел и даже несколько (намного опережая близящиеся шаги) загорячился:
– Старик нуждается в вас. Он жалеет вас, желает немного поправить и исцелить.
Илия (как мастер ристаний) опять дал понять, что не задет Что снисходительное слово «жалеет» (совсем не воронье, скорей, пчелиное) показалось ему здесь уместным: ему хорошо подходили место и время тогдашней гражданской войны умов. Так же Илия дал понять, что волшебные слова «исцелить и поправить» сродни пожеланию: иди за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков.
Что сильно способствовало самонадеянности рифмоплёта. Впрочем, даже тепло применённого приворотного зелья не побороло изморози на стекле (чуть ранее явленной, но гораздо более изначальной).
Тогда вороний вопль тоже решил явить непреклонность. Он показал свои улетевшие (но никуда, коли понадобятся, не девшиеся) коготки, опять прокарябав голосом:
– Как вы думаете, в чем заключена нужда?
«Ж-ж-ж-с-с» провелось по стеклу, соскребая тонкую наледь. Но ответа ответа гордый Кар-р не дождался и продолжил уже вполне обычно:
– Действительно, что есть исцеление? Целостность? Цель? Это всё так прекрасно, но на деле сродни обучению плаванию: вас (такого теплого) прямо сейчас выкинут за окно и на холод. Право слово, как сладкого ди Каприо с его титанической любовью, и вы тоже заледенеете.
Провозвестник забыл, что говорит о плавании с человеком Воды… Кар-р!
Илия Дон Кехана (который о себе – знал), который – сразу же был заинтригован смыслом слов «Старик»; который – сам собой (без внешних посылов) собирался сбежать из Петербурга в Москву, при этой шутовской демонстрации коготков (давным-давно за пределы окна улетевших) негаданно почувствовал себя – словно бы взятым за шиворот.
Словно бы невидимыми пальцами! Которыми его были готовы повлечь. Туда же, кстати, куда он собирался (из глупости) сбежать. И ещё более стали слышны далекие женские шаги. Собиралась ли судьба его останавливать?
Вряд ли. Скорей, собиралась одушевить. Если счесть, что Вечная Женственность есть душа души Логоса. А шага становились совсем уж слышны. Точно так, как бормотание версификатора (рифмоплёта) становится более слышимо, когда лист бумаги на столе остывает (перефраз из поэта Геннадия Григорьева).
А шага уже почти что настали (явив себя, как и Кар-р, почти во плоти)! Настолько, что вороний вопль за окном выжидательно приумолк. Настолько, что сквозь запотевшее стекло (явно от перепадов внешнего и внутреннего настроений) принялся на Идальго взглядывать.
Как сквозь бериевское пенсне, причём – с добрым ленинским прищуром; Кар-р! Молчаливый взгляд вороньего вопля выглядел белым, пушистым и не опасным Совсем как алмазный иней на сухом стебле травы: казалось, этим воровским алмазом тоже можно резать стекло, после чего лезть прямо в душу; Кар-р!
Но сейчас в душу Илии сплетали свою тропку женские ножки. Не требовалось резать стёкла у «окон» в европы, америки или азии – всё и так было здесь; Кар-р!
Слышит ли Идальго звук волшебных шагов? Пустой вопрос! Даже если не слышит «видимо», то «невидимо» его (человека Воды) они всё более наполняли собой (хотя, казалось бы, должно наоборот) и могли совсем переполнить.
Кар-р!
Листы мироздания совместились: одно «видимое» как бы осталось на месте, но к нему прилегло другое. Причем – такое другое, чтобы после него ничто не могло быть само по себе. Что являлось, конечно, иллюзией – ведь никакой реальной власти у вороньего вопля (то есть у функции, а не у живого создания) не было и быть не могло, казалось бы; но!
Ещё миг – и эта пустопорожняя функция станет предрекать самому пророку Илии Дону Кехана всё то неизбежное, что с ним будет должно совершиться; казалось бы – ещё миг, и в какой-то своей участи Идальго перестанет (для-ради истины) быть человеком. Но у Идальго уже был свой ключ в свое зазеркалье!
Эти самые шаги женщины.
– Вряд ли Старик обратился к тебе напрямую,– молча сказал Илия, для которого этим родниковым ключом стало слово «своё», которое попросту отделило – «чужое», и вороний вопль (бестелесный и недоступный болезням) почти по человечески поперхнулся, глотнув родниковой воды, причём – выглядело это так: а никак не выглядело.
Словно бы из-под плоского мироздания выхватили всех трех китов опоры!
Не стало вороньему крику обо что опереться. Вороньему крику стало не о чем (даже ежели – молча!) прокаркать. Он словно бы лишился всех своих воображаемых обликов, которые мог бы у встречных заимствовать, в ответ – обременяя их вестью.
Разумеется даже разумом, что важности передаточного звена между мирами сия невесомость ничуть не отменила!
Куда нам без передаточного звена? Так что Кар-р остался на месте и никуда не делся. Но Идальго это не могло смутить. Более того – Идальго ему отвечал. Спародировал его непростительную фамильярность (сам – называя пославшего вороний вопль Стариком; кто имеет душу, да услышит); более того- Идальго пародировал даже невидимость вороньего вопля, поскольку произносил свое предположение молча.
Причем – проделывал он все это весьма демон-стративно.
– Вряд ли Старик поцеловал тебя в губы! А наоборот (ты – Старика), так ты (скорей) от Локи и Одина и ни как не Искариот.
Причём – показывая, что бездушная функция (сиречь, демон), как бы она не заговаривала с миром (не себя исполняя, но поручение), все равно была не способна передать некие воздушные нюансы порученного ему.
Кар-р почти что обиделся. Ведь самоутверждение посланника было слишком человеческим. А ведь за-главным в словах Идальго ока-зывалось упоминание поцелуя: человеческое, слишком человеческое действие.
Причём – весь диапазон человеческой любви (её так называемая бес-конечность – как ограниченность любого бесовства: даже зло человеческое – слишком человеческое, поэтому – ограничено) оказывался заключен в невеликую внешность человеческих губ: от поцелуя Иуда и до поцелуя Сына! Ибо всё, что оказалось оформлено человеческой речью, есть человеческий поцелуй губы в губы, родинка в родинку, родина в родину; зачем?