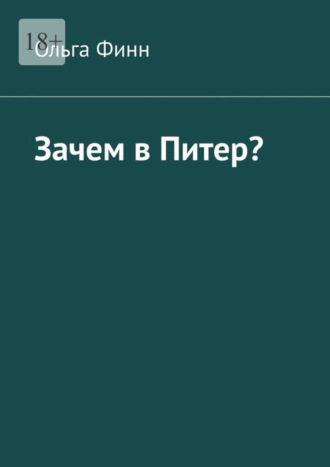
Полная версия
Зачем в Питер?

Зачем в Питер?
Ольга Финн
© Ольга Финн, 2022
ISBN 978-5-0059-1484-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВСТУПЛЕНИЕ
Эту книгу я посвящаю своим родителям, которые всегда верили в меня и всячески поддерживали. Они – мои добрые хранители, мои ангелы, мой самый счастливый билет в жизнь…
На вопрос «Зачем в Питер?» каждый переехавший сюда даст свой ответ. Я в тридцать лет поняла, что хочу жить в Санкт-Петербурге. Хотелось стать частью этого города, но было непонятно, как реализовать свою мечту. Лишь спустя десять лет у меня хватило смелости взять билет в одну сторону и просто уехать.
Тогда это казалось безумием. Почти все деньги я потратила на дорогу и на двухнедельную аренду квартиры. Со мной были мои сыновья, Саша и Егор, и вопрос, что мы будем есть и где нам жить дальше, стоял очень остро. В то же время на душе у меня было так легко и спокойно, словно с нее упал тяжелый камень.
Через несколько дней я случайно встретилась с женщиной, которая предложила нам пожить у нее на Васильевском острове, покуда я не придумаю, что делать дальше. Пока мой разум лихорадочно соображал, как без заработка оплачивать любезно предоставленные нам комнаты, мой отец, который живет на крохотном острове в Тихом океане, прилетел меня поддержать. С ним рядом у меня вернулось ощущение безграничного доверия к миру. Я нашла работу в новой для меня сфере, устроила детей в школу и начала жизнь с чистого листа. Санкт-Петербург приветливо распахнул нам свои объятия и никуда больше не отпустил.
Парадные фасады и мрачные дворы-колодцы, толчея на Невском и безлюдные улочки острова Декабристов, восторженные лица туристов и нерадостные – местных жителей… Питер – разный: хмурый и ласковый, роскошный и нищий, с ним то погружаешься в пучину отчаяния, то возносишься к небесам от восторга. Но для меня самым главным его достоянием оказались люди, живущие в нем обычной будничной жизнью, наполняющие его особым смыслом, такие же уникальные, как и он сам.
МАЙ
Любимым нашим местом для воскресных прогулок стало Смоленское православное кладбище: Егор катился на самокате по Четырнадцатой линии Васильевского острова до самой Смоленки, потом вдоль речки – к кладбищенским воротам, сворачивал у часовни Ксении Петербуржской и дальше мчал по дорожкам, куда глаза глядят. У семилетнего мальчишки не было никаких предрассудков: он срывал одуванчики и собирал рассыпанные тут и там монеты, мог присесть на скамейке у незнакомой неогороженной могилы и перевести дух.
– За пирожками? – спрашивал, улыбаясь беззубым ртом почти первоклассника, и сразу кивал утвердительно. – Тогда догоняй!
В обеденное время в трапезной у монастыря продавались горячие сладкие пирожки. Рассчитывался Егор собранными на кладбище монетами: «Как будто меня ангелы угостили, да, мам? Похороненные люди, они же стали ангелами?»
Я трепала его по голове, не зная, что ответить. Хотелось бы так же беззаветно верить в помощь небес, но меня не приняли на обещанную работу, и будущее пугало…
Месяц назад мы приехали из краевого центра на юге в Петербург и поселились на Васильевском острове. Забросило нас сюда приглашение поработать учителем истории в Вальдорфской школе и обещание принять Егора в первый класс без вступительных испытаний и за умеренную плату. Не было сил больше оставаться в душном, переполненном приезжими людьми южном городе, за несколько лет из цветущего сада превратившегося в пыльный многомиллионник. Жила я одна со своими детьми, новую семью создавать не собиралась, поэтому приглашение директора школы приняла с радостью: через три дня приеду, только соберу ребенка и вещи.
Временно поселились у Виктории – она одна жила в трех комнатах и две уступила нам, позволив переставлять мебель и пользоваться своим холодильником. Я мониторила все известные площадки с объявлениями в поисках отдельной квартиры неподалеку, и квартиры сдавались, но их мгновенно занимали вездесущие китайские студенты: селились вскладчину по пять-шесть человек, держа тем самым цены на аренду на запредельной высоте. Потом выяснилось, что мой старший сын Саша пропускает занятия в колледже с момента моего отъезда и, по кубанскому закону гостеприимства: «Женщина, за документами вход через конверт, вы что, маленькая? Вход – рубль, выход – три», Сашу пришлось срочно устраивать в десятый класс обычной Василеостровской школы. Так его аттестат из колледжа смог запросить директор. Со временем мы привыкли к своим двум комнатам, где до потолка можно было дотянуться, только встав на стол, потом на стул, а потом еще и на носочки. Покрыли истертый временем пол морилкой, Саша привез книги, игрушки, посуду, мы купили новую мебель взамен проданной старой, расставили цветы на огромных подоконниках и задумались, как жить дальше.
Погода стояла сухая, начался сезон белых ночей, радостные туристы сновали по улицам круглые сутки, поэтому положение наше не казалось мне трагическим. Мы с Егором исследовали все закоулки Васильевского, обедали на верандах, приходили домой уставшие, наспех мылись и падали спать. Особенно нам полюбился огромный детский городок со спортивными тренажерами и роллердромом под открытым небом. Там мы случайно наткнулись на неприметный дворик среди новостроек: покосившийся домишко, окнами вросший в землю, пара сараюшек и кривые деревца. Вряд ли там кто-то жил – люди беспрепятственно сновали мимо, протоптав дорожку от громадных высоток к автобусной остановке.
– Мам, там кино снимают, пойдем посмотрим! – Я с трудом оторвалась от книги Шефнера. – Хоронят старуху, но никто не плачет, все только ругаются. И я уже узнал…
– Тебе сколько раз повторять?.. – возмутилась я.
– …Что с незнакомыми нельзя говорить? Но ведь я сначала познакомился! – Егор припарковал самокат и тянул меня за рукав, поднимая со скамейки. – Пойдем, это здесь, тот старый домик.
Не знаю, какая сила заставила меня пойти в сторону выясняющего что-то сборища, но через пару минут я уже разговаривала с пожилой женщиной, отошедшей от катафалка. На ней было какое-то тряпье, надетое в несколько слоев, резиновые калоши, лицо сухое, глаза впалые с коричневыми синяками вокруг.
– Померла Кузьминична. Все из-за проклятого сарая! А вы здесь чего?
– Думали, кино снимают. Пришли посмотреть, – ответила я простодушно.
– Кино… Присядь вот, – тетка ловко придвинула мне табурет, на котором недавно покоился гроб. – Такое кино тебе расскажу…
Я оглянулась в поисках Егора – он, потеряв интерес к происходящему, укатил на детскую площадку, и приготовилась слушать.
– Кузьминична в этом доме блокаду пережила. Когда все началось, ей лет пять было. Осталась она и старшая сестра ее. Мать в первую же зиму от голода опухла, отца на фронте убили, братья тоже где-то сгинули. Сестра тут рядом работала на хлебозаводе, может, и приворовывала. Но выжили обе, вот что главное.
После войны сестра замуж вышла за калеку, пил он крепко да так и спился. Хорошо, что детей не нажили. Сестра долго не горевала – уехала на север куда-то, начала новую жизнь. А Кузьминична тогда уже подросла, школу окончила, здесь и жила. Супруг у нее был постарше, из интеллигентных, вернулся из эвакуации, а куда? – нет дома, вот и прижился у нас на Голодае. Ходили они везде вместе, под ручку прогуливались, так до старости и доскрипели. Кузьминична хоть и не красавица, но и не дурнушка, а похоронила мужа, да так одна и осталась. Любила его, наверное, кто знает…
– Всю жизнь она работала акушеркой в роддоме на Четырнадцатой линии, знаешь, где это? – Я кивнула. – Ее уже сто раз на пенсию выпроводили, но не могла она без работы. Устроилась туда же санитаркой. Не то чтобы она шибко проворная была, но ей доверяли – никогда при ней ничего не пропало, так она даже если что и найдет – отдаст хозяину. Честная была.
Но самый главный ее талант – писала она фельетоны. Как стенгазету выпускать или пропесочить кого – Кузьминичну звали. Она умела вроде и не обидно сказать, но всем все ясно становилось и совестно. Почитала бы ты ее заметку про сломанные ворота, которые починить никак не могли, и они жутко хлопали от ветра! Весь роддом от смеха корчился, хотя смешного мало. Потом кто-то в газету ее шедевр переслал – так сразу приехали и все отремонтировали.
Работала женщина на совесть – буквально с того света новорожденных возвращала, младенцы у нее в весе прибавляли, как на дрожжах, такая заботливая была. А на старости лет ночные дежурства заместо медсестер отрабатывала: все назначения и диагнозы знала почище молодых. Сядет с книжкой: «На том свете отосплюсь», и всегда везде у нее чистота была и порядок.
Домой она никого не приглашала, но кто бывал, успел разглядеть скромный быт Кузьминичны: две железные койки, сдвинутые вместе, швейная машинка с тумбой, круглый стол под скатертью, в кухне старинная бочка с чистой водой из колонки. Все вымыто: и дощатый пол, и окна. Потолок и стены сияли свежеоштукатуренной белизной. Дом дышал уютом и любовью.
Никогда она не участвовала в шумных пьяных застольях – ни на работе, ни с соседями. На 9 Мая, когда накрывали общий стол и все становились родными, целовались и плакали, Кузьминична после парада шла с мужем домой. Кивнет только и улыбнется сухо. Может, вспоминать не хотела, все-таки осиротила ее война. Вот когда сестра приезжала – та по гостям любила ходить – от нее и узнавали про нелюдимую соседку: читают с супругом книги вслух по вечерам, едят скромно, никого не обсуждают, кроме литературных героев, детей у обоих быть не может – дистрофия продолжала уничтожать выживших и после победы.
– Муж у Кузьминичны давно умер, ей разговаривать стало не с кем, она, видишь, что удумала, дачу себе возле дома устроить. Там у нее крыжовник и смородина растут, а с этой стороны, – женщина ткнула скрученным от ревматизма пальцем в сторону отъезжающего катафалка, – она всегда цветы сажала. Самые простые: бархатцы там, петунью. То, что пестрое, но ухода не требует. И странное дело – никто никогда не рвал у нее ни цветы, ни ягоды. Вообще ее как будто не замечали. Сядет старуха в хорошую погоду на табуретку, на стену своего дома обопрется спиной и сидит с книжкой. Рядом вон сколько народу, а все мимо бегут, катятся по своим делам.
Тем временем процессия ушла со двора, кто-то зашел в дом собирать на стол, а мы с теткой остались сидеть на колченогих табуретках. Я то и дело выискивала ярко-зеленые брюки Егора в пестрой детской толпе на площадке, но не могла остановить рассказчицу: живые свидетели исторических событий всегда меня завораживали.
Справа от дома стоял навес для дров, чуть поодаль – два сарайчика. Сразу за этими сооружениями возвышались новые высотки с подземными паркингами, магазинами и спортзалами на первых этажах. Подъезд к домику перепахали строительной техникой, да так и бросили – с ямами, кусками бетона и торчащей кое-где арматурой.
– Видишь вон тот сарай? Вот из-за него Кузьминична и померла, – зашептала тетка.
– Из-за сарая? Серьезно? – улыбнулась я. – Ей лет-то уже сколько было, если она блокаду застала?
– Осенью восемьдесят бы и было, с тридцать восьмого года она…
– И она работала до сих пор?
– Ну нет. Теперь нет. На пенсию жила. Подарки ей какие-то дарили, как блокаднице, – утюг или вон плиту газовую. Правда, духовка не работала и газ в дом ей так и не провели, но она плиту по объявлению продала, что-то выручила. Дрова, наверное, купила на те деньги. Дрова ей нужнее.
Я вздохнула.
– Ладно, расскажу быстро, – забормотала женщина. – А то уморила тебя уже, а до сути так и не добралась.
– Видишь поодаль крышу трехэтажного дома? В сторону Беринга смотри, левее. Увидела? – Женщина протянула руку. – Я там живу. Этой зимой к нам семья вселилась. Видно, приезжие, а денег немного. Дом деревянный, у нас одна квартира на втором этаже сильно выгорела, а выше – просто закоптилась. Ее они и купили. Мужик лет сорока, пацан подросток и мать с грудным ребенком.
Глава семейства рано уезжал на старенькой иномарке, возвращался поздно, сынок быстро стал своим среди местного хулиганья, а мать изредка появлялась с коляской на улице. Одеты они были скромно, обычно одевались, как все. Продукты отец привозил из «Ленты», тут круглосуточная неподалеку. Мальчишку в школу устроили, он перезнакомился со всеми и вроде остепенился.
По весне Кузьминична застала в своем дворике компанию старшеклассников, сбивающих замок с крайнего сарая.
– Ребята, а кто вам позволил? Вы же мне сейчас всю смородину вытопчете, – обратилась она к ним вполне миролюбиво.
– Это наш сарай, мне батя сказал сбить замок и посмотреть, что внутри. Вдруг что-то для ремонта пригодится, – ответил крепкий белобрысый паренек.
Ровная спина, смотрит прямо – было в нем что-то надменное. Кузьминична подошла к кустам смородины – все целое. Веточки не поломаны.
– Скажи папе, пусть придет за ключом, – ответила женщина. – Я поняла, из какого вы дома.
Парень махнул рукой остальным, мол, уходим, зачем-то подмигнул Кузьминичне, и ватага скрылась между домами.
Прошла неделя, еще одна, за ключом никто не приходил, она успокоилась, а потом и думать об этом визите забыла.
Как-то утром, может, месяц назад или полтора, собралась Кузьминична за рассадой. Принарядилась, туфли достала выходные, взяла корзину с ручками. Обычно в это время в питомник растений привозят гладиолусы, она всегда денег жалела, а тут расщедрилась, решила посадить. Вернулась счастливая, отложенной суммы хватило на три саженца, но она решила потом добавить дешевых цветочков и устроить роскошную клумбу перед кухонным окном.
– Померзнут цветы, Кузьминична, – крикнула ей моя собеседница, возвращавшаяся домой из аптеки. – Ты бы редиску посадила, все бы польза была.
– Редиску съешь и забудешь, а цветы все лето радовать будут, – ответила ей пожилая соседка. На том и разошлись.
На следующее утро Кузьминична собралась в магазин за хлебом и увидела разоренную клумбу. Выскочила из дома без пальто, в одном платье, – двор истоптан подошвами мужской обуви, гладиолусы заброшены на крышу дровяного сарая. Пожилая женщина подтянула цветы ближе и снова воткнула безжизненные стебли в землю, яростно орудуя негнущимися пальцами. Потом вынесла грабли, разровняла землю во дворе, тщательно вымыла руки, накинула пальто и пошла в питомник за новой рассадой. Вместо молока и куриной грудки купила анютины глазки, перебилась вчерашней пшенной кашей с постным маслом и чувствовала себя почти счастливой.
После своего скудного обеда Кузьминична заперла дом, обогнула сараи, дошла до трехэтажного, чудом сохранившегося в войну и в перестройку деревянного барака, поднялась на третий этаж и позвонила в квартиру новоселов. Дверь открыла уставшая женщина в коротких шортиках, едва видневшихся из-под просторной футболки.
– Чего вам? – спросила неожиданно мелодичным голосом. – Входите.
В прихожей стены все еще оставались закопченными, на вешалке висели куртки и детский комбинезон. Коляска мешала пройти дальше.
– Я из-за сарая, – почему-то извиняющимся тоном сказала старуха.
Женщина сморщилась недовольно:
– Да, сын говорил. Ключ принесли? – протянула руку.
– Нет, я про ключ не подумала, – спохватилась Кузьминична. – Поговорите с ним. Пусть отец поговорит. Мальчишки мои гладиолусы вырвали и на крышу забросили. А мне тяжело…
– Ах, вот что… Ладно, скажу мужу вечером, чтобы уши ему надрал. У вас все? Мне ребенка скоро кормить. – Хозяйка квартиры шагнула вперед, заставляя пожилую гостью отступить к выходу. – А знаете, что? Может, вы мне с ремонтом поможете? Нет, я понимаю, у вас возраст, я сама могу… А вы бы с коляской гуляли пару часов.
Кузьминична обрадовалась, но в тот же момент засомневалась: справится ли она? Силы уже не те, стала уставать быстро. С другой стороны, сколько новых саженцев можно купить, если заплатят… Стояла и разглядывала носки своих парадных туфель.
Молодая мать не выдержала:
– Не бойтесь, я вам платить буду. Немного, но смогу.
– Хорошо, я помогу, – кивнула в знак согласия Кузьминична и напомнила: – Про сына не забудьте. Гладиолусы жалко…
…Зарядили дожди. Да не просто моросило – с неба лило так, что казалось, вся вода мира проливается на один город.
На третий день небесного потопа прибежал сын новоселов:
– Мать зовет помочь. Когда придете?
Пожилая женщина засобиралась:
– Сейчас и приду. А как помочь-то? Неужели ребенка в такую погоду на улицу…
Парень усмехнулся:
– Да нет, мы с мамкой кладовки разобрать хотим, там еще барахло от старых хозяев осталось, а вы за Ленкой присмотрите, она ползает везде, надо, чтобы в коридор к нам не лезла.
В квартире было три комнаты, узкая кухня и небольшая ванная с уличным окошком, вход в которую вели каменные ступени. Кузьминична оказалась в просторной гостиной в два окна и удивилась тому беспорядку, который здесь царил. Несмотря на наличие огромного шифоньера, новые жильцы до сих пор хранили свои вещи в коробках и баулах, на бортиках детской кроватки сохли мокрые пеленки, пахло сыростью и копотью одновременно. Девочка спала, раскинув руки, тяжело вдыхая прелый воздух, вспотевшая в шерстяном комбинезоне с капюшоном под теплым синтетическим покрывалом.
Посвятившая всю свою жизнь младенцам, женщина ужаснулась, но понимая, что не может посторонним людям указывать, подумала: «Если им так нравится, пусть!» Ребенок спит, а остальное уже не ее дело.
– Может, проветрить? – Спросила в коридор, не ожидая ответа. – А пеленки можно и в ванной повесить, слишком уж сырой воздух возле кроватки.
– Вы что, врач? – крикнула женщина из недр кладовой. – У вас дети-то есть?
– Я всю жизнь в роддоме проработала, – словно извиняясь, ответила Кузьминична. – Разные времена застала: и кутали младенцев и закаливали. Но проветривание – первое дело. У нас же здесь туберкулез не переводится… Вы откуда приехали?
– Пермь. Не знаю, как у нас там с туберкулезом, но работы приличной нет, – хозяйка с сыном, тяжело дыша, тащили к выходу большую коробку со старыми кастрюлями, банками и мешками. – Сейчас порядок наведем, отмоем все и заживем. До сих пор прописаться не можем, пришлось временную регистрацию покупать, чтобы этот оболтус школу не пропускал. Думали, культурная столица, а оказалось, везде Россия.
– А где у вас ведро и тряпки? – Пожилой женщине неловко стало брать деньги за бессмысленное сидение у кроватки спящей девочки. – Я в комнате помою, пока малышка спит.
Кузьминична вымыла оба окна, оставив их слегка приоткрытыми, отнесла мокрые пеленки в ванную и развесила их на старой бельевой веревке. «Постирать бы эту веревку, – подумала. – Но хотя бы так…»
Отмыла люстру, двойные деревянные двери – в районе ручек они были почти черными и протерла дощатый пол. В комнате стало гораздо уютнее. Собралась поменять воду в ведре, оступилась – и черная мыльная вода разлилась по вымытому полу, едва не намочив коробки с пожитками.
Старуха охнула, на шум прибежала хозяйка:
– Чего тут? Смотреть же надо, куда идешь, глаза у тебя на заднице?!!
От резкого крика матери проснулся и заплакал ребенок. Кузьминична выпрямилась и шагнула к детской кроватке, успокоила малышку, потом только смогла ответить. Голос ее от негодования стал по-девичьи звонким:
– Вас благодарности не учили? Уважать старших? Умению прощать? Вы мне во внучки годитесь!
– Да я это… – примирительно забормотала молодая мать. – Думала, Вовка ведро перевернул. Ну вот… Ленка проснулась, а мы только верхние полки успели рассортировать. Покормите ее?
Но Кузьминична была та еще гордячка. Молча подняла ведро, собрала воду тряпкой, вымыла руки и направилась к выходу:
– Денег я с вас не возьму, ребенок спал. Вы бы и без меня справились.
На первом этаже ее догнал Вовка:
– Простите мамку. Она добрая, просто устала. Они с отцом мечтали, что переедут в большой город – новая жизнь начнется, а она не началась. В Перми хоть знакомые у нас были, а здесь никого. Денег не хватает, вот мать и психует.
– Не жалеете ее, поэтому и устает, – Кузьминична толкнула дверь на улицу. – Я помочь пришла, за это люди благодарят, а не кричат, пугая детей.
Этот случай обострил отношения соседей: отец в один из дней попросту сбил навесной замок с сарая, упаковал хлам в огромные черные мешки и оставил их стоять возле смородиновых кустов так, что пройти к ним стало невозможно. Мать с оскорбленным видом стала выкатывать коляску на детскую площадку, проходя мимо домика Кузьминичны. Хотя ей сидение на скамейке с мамами малышей было по душе. Во-первых, муж не упрекал ее в том, что она ничего не делает, во-вторых, она любила поболтать, и у нее теперь была тема для разговоров: хамство старухи. Последняя и не догадывалась, что она старая воровка, угробившая нескольких младенцев в роддоме и пытавшаяся под видом помощницы по дому ограбить наивных пермяков. Вовка с дружками подкидывал дохлых голубей и крыс Кузьминичне на крыльцо, а поздно вечером, возвращаясь с прогулки домой, не упускал возможности постучать прутом арматуры по крыше ее домика.
Только маленькая Ленка в силу своего младенческого возраста сохраняла нейтралитет, но вскоре в военные действия против Кузьминичны была втянута и она.
Однажды в полдень, вернувшись из кассы центра коммунальных услуг, пожилая женщина обнаружила в своем дворике коляску с заходящейся в крике Ленкой. Ребенок был одет в зимний комбинезон и прикрыт теплым шерстным платком, мокрый от перегрева и слез. Увидев Кузьминичну, малышка резко замолчала, вглядываясь в склонившееся лицо, затем ротик перекосился и улицу огласила новая порция детского плача.
– Иди-ка сюда, милая, – достала девочку из коляски старуха. – Кто тебя здесь оставил?
Занесла в дом притихшего ребенка, раздела, взяла чистое кухонное полотенце, обтерла мокрое личико. Постелила сухую простыню в коляску, уложила девочку и принялась качать, баюкая ее и напевая что-то себя под нос. Ленка уснула, блаженно разметавшись под весенним теплым солнышком.
Кузьминична поставила коляску возле окошка так, чтобы видеть ее, пошла собирать себе обед, когда во двор ворвалась мать девочки, схватила коляску и поволокла ее, забыв снять колеса со стопора.
– Пусть бы поспала еще, – выбежала старая женщина. – Так редко у нас погода сухая стоит, такую возможность ловить надо…
– Я сейчас полицию вызову, – прошипела Ленкина мать. – Украла коляску, еще и хозяйничает тут, раздела ребенка, оставила на ветру.
Старуха слегла, а через несколько дней снова обнаружила коляску у своего оконца. На этот раз Вовка постучал и, не поднимая глаз, буркнул, что мать уехала по магазинам, а он, если что, на роллердроме с ребятами. Старуха вынесла на улицу табурет, поставила на солнечный пятачок и принялась самозабвенно качать малышку и мурлыкать колыбельные, которые ей до войны пела бабушка.
Ей не нравилось, что девочку называют Ленкой. «Как кличка какая-то, – поморщилась женщина. – Пусть будет Белавушка». Очень хотелось занести девочку в дом, пусть бы ползала вдоволь по чисто выскобленным полам, но Кузьминична не смела. Она, затаив дыхание, рассматривала чистое безмятежное личико, обрамленное беленькими волосенками, пухлые губки, носик пуговкой, перебирала тоненькие пальчики с прозрачными ноготками. Девочка проснулась и лежала какое-то время молча, потом протянула руки к старухе и доверчиво притихла в ее объятиях.
День шел за днем. Было ветрено, но солнечно. Кузьминична выносила мусор, выставленный из соседского сарая, вспарывая неподъемные мешки и запихивая хлам в обычные, магазинные. Дойти до мусорной площадки сил ей хватало, на обратном пути она присаживалась на скамейку у своего дома и жмурилась, подставляя лицо теплым лучам. Вскоре показались кусты смородины. Несмотря на тень, отбрасываемую грудой мешков, они зазеленели и дружно потянулись к свету молодой порослью. Женщина понимала, что силы покидают ее, и совсем скоро она не сможет зимовать одна в доме с печным отоплением. Последние годы стояли малоснежные зимы, а если заметет? Она и выйти не сможет. Найдут ее тело по весне… Если вспомнят.
Шестьдесят лет женщина дарила жизнь людям, а на старости лет и поговорить не с кем. Новый смысл ее одинокому существованию придавала Белавушка – Вовка все чаще оставлял коляску старухе, убегая с мальчишками то на футбольное поле, то в кино, то еще куда-то. Зимой, скорее всего, девочка начнет ходить и про Кузьминичну забудут, но она наберет книг в библиотеке и будет читать, коротая время до следующей весны. Или станет приглашать Вовку с сестренкой в гости. Боже мой! Она же может сходить в роддом и спросить у девчат, может, кто-то предложит ее услуги няни молодым мамочкам. Уж за спящим младенцем она присмотреть вполне может, да и бутылочку с молоком подержать!
Окрыленная этой идеей, пожилая женщина засобиралась в роддом.


