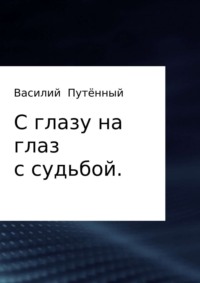Полная версия
Соната
Оксанка нежно, как дитя, прижала к груди пластинку и тихонько, как брата, поцеловала Сережку – мальчик, едва не плача от счастья, почувствовал: теплый лепесток розы коснулся его щеки.
Он рад был, что она молчала, и это молчание было для него счастьем, и он смотрел на девочку как на божество, которое никогда и ничем не обидит.
«Как жаль, что я не умею рисовать. Я бы хотел нарисовать тебя, Оксанушка, – нежная соната моего сердца!»
3
Интересную книгу о Николло Паганини прочитал Сергей. Уставшая мать спала, а он на цыпочках вышел на кухню и до утра, сочувствуя и страдая, жил судьбой великого маэстро. Порой ему казалось, что он смог бы повторить эту жизнь. Потом он прочел статью в газете, в которой автор на основании подлинных документов и фактов доказывал, что Паганини был очень обаятелен и даже по-своему красив – там же, над монографией-статьей, помещался портрет великого скрипача.
«Кому же из современников – а может быть, коллег – понадобилось так оклеветать имя гения, сделать его уродцем, чуть ли не колдуном? – рассуждал Сережка, выходя из метро. – Искусство должно жить без зависти! Паганини играл на скрипке, звуки которой проникали в сердца. Он хотел сделать людей добрее, чище, искреннее. В душе каждого человека есть струны, пусть же они не ржавеют, а всегда звучат музыкой добра!»
Он стал думать о книгах. Каждая прочитанная книга ложится в ячейку памяти, ни одна из которых не должна пустовать – словно соты, заполненные медом знаний.
Какой-то внутренний тормоз вдруг резко остановил ход его мышления, и он вспомнил, как однажды, все так же философствуя-размышляя, чуть не попал под самосвал. Водитель, потрясая булыжниковым кулаком, кричал: «Кусок долбошлепа – жизнь надоела?!» Пешеходы, увидев бледно-испуганного мальчика почти у самых фар машины, вспомнив своих детей и внуков, громко, волнуясь, заговорили, словно заочно воспитывая своих чад, а он подумал о матери: она бы не вынесла эту трагедию. Самосвал с бульдогообразной мордой мог навсегда перечеркнуть его жизнь. И он подумал о поэтах, художниках, композиторах, о всей ученой братии, которые, не взирая ни на что, мыслят везде и всюду.
Дверь открыла Аделаида Кировна. На ней был халат – яркий, живописный, с какими-то диковинно-сказочными цветами. Она, вероятно, ждала кого-то другого – хотела произвести эффект своим фешенебельным одеянием.
– Наконец-то, Сереженька, здравствуй и заходи! – постно улыбнулась.
Отрок подсознательно уловил: талант перевоплощения генетически заложен в этой притворщице.
Здесь, в просторной прихожей, были одни зеркала. Глаза хозяйки красноречиво говорили: это ультрамодно!
«Как в павильоне смеха», – констатировал Сергей.
– Мама, ты у меня сегодня светофор! – провизжал откуда-то голос Светы. – Сережа, мы чичас!
Мелодично зазвонил входной звонок.
– Начинается! – раздраженно произнесла Аделаида Кировна и приоткрыла дверь. Лицо такое, словно влепит пощечину. – Ну что тебе?!
– Тетечка Аделаидочка, вы… вы… не могли бы, пожалуйста большое, дать почитать «Три мушкетера» Александра Дюма? – звенел в приоткрытую щель детский робкий голосок, боясь отказа.
– Три мушкетера ускакали галопом, а дядюшка Дюма пусть отдохнет! – и хлопнула дверью, отчего Сергей и та девочка вздрогнули одновременно, ощутив холодную изморозь на теле.
Сергею стало стыдно, неприятно, до боли нехорошо – ведь просительница могла подумать, что и он такой же меркантильный. Ему хотелось догнать заплаканную девочку, успокоить, сказать, что он ей принесет свою книгу.
Аделаида Кировна, как тюремщик, щелкнула замком, и мальчик почувствовал себя заточенным в крепость, где лишь бездушие и бессердечие.
«Здесь музыка не будет жить!»
Он пошел вслед за Аделаидой Кировной в гостиную. На донышке сердца, он знал, навсегда останется маленький, остро колющий камешек, который не смоет никакая вода счастливой и благополучной жизни. Сколько уже их, этих камешков, в его сердце, больно ранящих его?
– Садись-ка в вольтеровское кресло и листай журнальчики заграничные! Можешь транзистор включить. А может, цветной телевизор? Или включить магнит – послушаешь записи?
– Спасибо, – неохотно взял в руки журнал. Он хотел, чтобы она побыстрее ушла. Этот человек, подумал он, живет только вещами.
– Мы, так сказать, ретируемся!
«Слава богу, аукционерка!»
Когда Аделаида Кировна вышла, Сережка облегченно вздохнул, словно выпустил из легких угарный воздух. Слух, зрение, мысли, мышцы словно сбросили с себя нечто мешающее и снова зажили своей привычной, естественной жизнью. Но ненадолго.
«Как они похожи друг на друга – мать и дочь. Во всем у них жеманность. А улыбаются – точно резинку натягивают на рот.»
В просторной комнате стоял сверкающе белый рояль – американский «Стейнвей». Вид у него был надменно-самодовольный, сытый, аристократический; казалось он был обласканный тысячью восхищенных взглядов. Возле него хвастливо вымахала почти до потолка развесистая декоративная пальма, она словно молвила гостю: вот я какая, не то что некоторые кустарниковые! На полках очень много книг, скучно смотревших разноликими корешками, ибо страдают интеллектуальным параличом – никто их не читает. Со стен улыбаются и подмигивают певцы, гитаристы, кинозвезды, прочие-прочие, все они иностранцы, и Сережка чувствует себя в их окружении чужим.
Когда Сережка взглянул на хрустальную люстру, ему показалось, что он находится в иностранном консульстве. Мальчик сидел, напрягаясь всем телом, боясь шевельнуться или скрипнуть креслом, даже дышал тихонько-тихонько. Нигде не чувствовал он себя так скованно. Все время чудилось, что кто-то, спрятавшись за портьерой, набюдает за каждым его взглядом и движением, стоит не так или не туда посмотреть, или просто повернуться, как тот невидимка подумает, что он вор. Поэтому Сережка делал вид, что читает сосредоточенно, хотя ничего не воспринимал, просто блуждал глазами по строчкам абзацев. И он понял, что стеснение породило невидимку, и это бывает не только с ним, а и со всеми застенчивыми людьми.
«Что со мной? Боюсь взглянуть даже на книги – точно одну из них уже украл».. – И он кашлянул, как бы давая знать, что он все так же недвижно сидит на кресле и прилежно просматривает журналы.
Кто-то царапается в дверь – она скрипуче приоткрылась, и виноватой походкой, словно извиняясь перед гостем, вошла Рута. Чувствовалось, что собаку обидели и она не в настроении. Рута лизнула руку приятеля, выказывая этим свое уважение, потом легла, положив узкомордую, с печально-умными глазами голову на лапы.
– Что скажешь, Руточка? Как поживаешь? – обрадовался он приходу овчарки – ведь она как бы сбросила с него эту чертову смирительную рубашку.
Глаза у собаки были говорящие.
«Живу хорошо, Сережа, – отвечали агатовые глаза,– Гурманкой стала: курицу жру, ветчину, колбасы копченые. – Но скушно мне, нет той вольготности, что у дворняжек. Пусть их обзывают шавками, ублюдками, а я, чистопородная, голубокровная, с богатой родословной, завидую им. Мы, собаки, свободолюбивые! Вот хозяйка моя, Адель, думает, что она выводит меня на улицу, а ведь все наоборот…»
Рута мгновенно подняла голову, испуганно взглянула на вошедшую в ярко-попугаистом костюме Свету. Собака встала, ожидая команду.
– Место! Место, Рута! Кому сказано?! Брысь!.. – топала ногой Света, показывая свой характер гостю.
Овчарка, повинуясь властности хозяйки, исчезла, затаив в груди очередную обиду.
Сергей видел, как Рута, опустив хвост, сверкнула глазами, показывая белки, – она, вероятно, хотела «надерзить», огрызнуться за то, что Света так непочтительно отнеслась к ней в присутствии гостя, которого она обожает. Сергей почувствовал себя виноватым – будто из-за него прогнали собаку.
– Тебе нравится мой домашний костюмчик? – Стала перед ним как манекенщица. Прошлась к окну и, крутнувшись на месте, вернулась.– Часики гонконгские! – Показывает. – Прическа моя – последний балдеж моды. Ласточкино гнездо – сама придумала. Завтра придешь – увидишь прическу а-ля мыльная, пшеничного цвета пена на голове.
«Не жди – никогда к тебе не приду!»
–Ах, как я люблю, когда мне звонят по телефону!.. Я непременно сниму трубку и мелодичным голосом проинесу: «Алло, я вас слушаю!» Ну почему ты мне не звонишь?
«С жиру бесится!»
– Молчание – сестра благородства, но не всегда эта сестрица прекрасна, сказала Света чью-то мысль. – Молчание – золото, но не вегда это золото высокой пробы!
– Аделаида Кировна сказала, что ты сочинила вальс-скерцо, серьезно напомнил Сергей о цели своего прихода.
– Только это не скерцо, а попурри! Да-да, попурри! – произнесла так, словно это слово знакомо только ей.
«И это нужно уметь сочинять», – положил журнал на красный круглый столик, давая понять, что готов слушать.
– Я слушала в Большом зале консерватории Святослава Рихтера! – Она стояла, облокотившись на рояль, словно позировала фотографу. – Ты был в Большом зале консерватории?
– Не был.
– У-у, ты можешь только пожалеть!.. Белые – точно из мрамора – двери, изумительная лепка, а на стенах портреты выдающихся композиторов – кстати, моих кумиров. Мы с мамочкой сидели в самом лучшем ложе и в поле нашего зрения был весь партер.
«Можно сидеть в самом лучшем ложе и ничего не понимать. Хотя по лицу это непросто определить, ибо у псевдолюбителей искусства богатая палитра мимики. Они так страдают, слушая Бетховена или Баха, что им нельзя не поверить.»
– О, когда играет Святослав Теофилович, я слышу журчание весеннего ручейка, веселые песни жаворонков в поднебесье, я вижу лазурь неба необыкновеннейшую, широкие поля, мудрые леса и луга тучные.– Руки ее словно витали, она, как волшебница, пыталась ими колдовать, и ей казалось, что над кончиками ее пальцев порхает жаворонок. Голубые глаза распахнуто смотрели на потолок и стены, и ей чудилось, что они оживают, раздвигаются, показывая, как на киноэкране, небо, ручьи, поле, луг, леса.
Сергей с трудом сдерживал смех, и, чтобы не выдать выползшую легкую усмешку, он прикрыл губы ладонью.
– А ты знаешь, что Гете читал Гебеля без словаря?
Сергей вдруг не выдержал, стал заметно нервничать, бледнея:
– А кто это сказал, что Гебель… то есть Гете, не зная швабского наречия, понимал Гебеля?!
– Не знаю…В сущности, это не столь важно!
– Нет, важно, коль ты устроила этот диспут! Это сказал Сергей Александрович Есенин в своей литературно-критической статье «Отчее слово»!
– Не хочешь ли ты сказать, что я вообще инфантильна?!
«Я не врач-дефектолог!»
Визави была обескуражена точным ответом, но несмотря на это, задрав
кверху подбородок, генералом посмотрела на Сережку.
Она осанисто села за белый рояль и плавно опустила длинные пальцы на клавиатуру – точно не играть села, а вот сейчас подойдет к ней маникюрша и, ловко орудуя пилочками и другим инструментом, станет чистить и полировать ее нежнейшие пальчики и ноготки.
Первые аккорды были такие, словно по клавишам пробежал испуганный заяц. В эти минуты пианистка думала о грациозном своем туше и впечатле-нии, какое производит на гостя, и ей все время казалось, что она играет в Большом переполненном зале консерватории. Брови подпрыгивали, туло-вище покачивалось из стороны в сторону, руки, казалось Сережке, не то дирижировали, не то старались кого-то загипнотизировать.
«Мимики и движений столько, словно исполняются тяжелейшие пассажи. А где музыка? Она убежала от тебя, Света, боясь стать уродливой и рахитичной. Все темпы смешались – и получился бедло-диссонанс!»
От какофонической галиматьи болела голова – Сергей заткнул уши пальцами, зажмурил глаза, но мерещившийся рой шмелей все еще жужжал в его ушах. Мучительная пытка продолжалась. Еще мгновение – и мальчик, тонко понимающий музыку, с болью реагирующий на всякую фальш, мог бы упасть в обморок. Он дрожал всем телом, стеснялся, то и дело прикрывая глаза ладонью, краснел перед неодушевленными, окружающими его предметами, будто это не Света, а он играл на рояле.
Когда Сергей увидел на Светыном лбу капли пота, он чуть было не расхохотался. Чтобы отвлечься, прийти в себя, он стал смотреть на люстру, где каждая висюлька-хрусталинка светилась и сверкала, будто внутри ее горела электрическая лампочка.
– Коктейль на трех сиропах!..Вкусно и освежающе!..– услышал Сергей, не понимая, к кому обращаются, еще не выйдя из полушока.
На столе появились два золотистых стакана с пластмассовыми соломинками.
– У тебя, Сережа, большой коэффициент благородства и культуры. Я рада, что вы с Ланочкой дружите. – Сергею казалось, что ему приснился страшный сон, в котором Светына какофония разрывала барабанные его перепонки, и он, увидев возле себя два странно улыбающихся лица, ощутил
озноб. – У меня сенсационная новость, – пропетушила Аделаида Кировна, твоя тетя, Лануся, назвала щенка, которого мы ей подарили, Аллегро! – и засмеялась, словно увидела Чарли Чаплина.
Сергей хотел встать, уйти, но что-то держало его. Вначале ему казалось, что эти взгляды точно привязали его к креслу, но потом он понял, зачем так терпеливо ждал конца – он хотел изучить, узнать этих людей, чтобы потом сочинить музыкальный памфлет.
– Сережа, не правда ли, оригинально придумано? – вопрошала Аделаида Кировна, сев в кресло, – А каково композиционное решение?
Сергей, мотнув головой, испуганными глазами посмотрел на Аделаиду Кировну и Свету, и ему показалось, что он, сидя в этой холодной крепости, стал бездарным, похожим на этих ходячих роботов, и страшная мысль молнией пронизала его насквозь, и он, больно сдавив виски, дико закричал:
– Откройте!.. Отпустите меня на волю!.. Я хочу уйти отсюда!..
На улице было по-летнему хорошо.
Солнечные лучи – теплые, нежные, как материнские руки.
Воздух показался Сережке свежим, целебным, и он чувствовал то, что чувствует спелеолог, вышедший из глубокой темной пещеры на свет божий.
«Музыка отвернулась от тебя, Света, – думал отрок, радостно шагая по тротуару, улыбаясь домам и деревьям. – Она не каждому открывает свои волшебные кладези звуков. Каждый музыкант несет в сердце свою мелодию, которая звучит в нем с первого дня рождения; и когда он умирает, душа его живет в бессмертных его творениях. Тебе, Света, никогда не быть в стране, называемой музыкой. Тебе купили дорогой американский «Стейнвей», но знай: талант не покупается и не продается!»
И он с улыбкой вспомнил слова отца: «Талант, сын, – это как бы конь, которого нужно каждый день питать овсом знаний, иначе он, исклячившись, погибнет!»
4.
Раньше Павел с Сережкой часто ходили в театр, на концерты. Анне тоже хотелось с ними пойти, но она почему-то стеснялась и даже краснела, когда Павел говорил о театре, оперетте, камерной музыке. И, быстро отвернувшись, чтобы не заметили ее стыдливый румянец, уходила на кухню, на ходу говоря: «Ты, Павлуша, иди с Сереженькой, а я по хозяйству.» «Что за ангельский человек! – думал Павел. – Верная своему очагу весталка…Не знаю, люблю ли ее, жалею, черт меня поймет?!»
В театр ходят, думала Аннушка, особенные люди, знающие толк в этом деле, а кто она: санитарка, уборщица. Она и бинокль, если б пришлось, положим, сидеть на «камчатке», не умеет правильно, по-интеллигентному держать, сразу поймут: кто она и откуда. Зачем же портить людям празднично-веселое настроение? Да и кроме того, вещи у нее простенькие, ношенные, не из шиковых.
В парке на скамейке она тогда сидела, угощала конфетами детвору. Иные смело запускали руку в большой кулек, вытаскивали полную пригоршню «Мишки» и убегали.
Павел в тот день был пъян. Никогда не пил, а тут вдрызг напился. Сонату, которую он писал целый год, не поняли, а те, кто старается получше высказаться, говорили, что в ней очень много «моцертизма» и «бетховенизма». И даже студенты, его товарищи-однокашники, после прослушивания утверждали, что это талантливо написанный новый вариант «Лунной» сонаты. Выходит, он – плагиатор, умеющий искусно переделывать чужие шедевры. Хоть в петлю лезь, но и смертью своей не вызовешь в них понимания. «Не верю, – говорил себе Павел, не верю: неужели в каждом из них вирус зависти?! Они игнорируют новаторство, не желают замечать идею…» В тот день ему казалось, что никто в этом мире не поймет его. А когда он узнал, что Жанна уехала на «Жигулях» с директором ресторана, он упал на асфальт, искровенив себе лицо. Боли и тоски было так много и они были так тяжелы, что не хватило бы всех железнодорожных составов, чтобы погрузить их в вагоны. И он понял, что не только на войне умирали люди – осколок измены смертельно ранить может любого в мирное время. А ведь таких раненых немало – и женщин, и мужчин. Найдется ли в этой жизни сестра милосердия, думал тогда он, которая перебинтует его раны?
Павел пьяно плюхнулся на всхлипнувшую скамью. Дети, подгоняемые окриками матерей и бабушек, быстро разбежались.
Сердце у Анны испуганно дрогнуло, бросив холодок к горлу, но она ласково, словно успокаивая, посмотрела на незнакомца.
– Да, выпивоха, алкаш, протрынькал червонец сегодня! Да, выпил лишку! – куражился Павел, но ласковые, успокаивающие глаза девушки не только отрезвили его, но и в паузе молчания дали возможность вспомнить что-то свое. Они как бы вернули его в босопятое детство, и он вспомнил мать: у нее были такие же добрые, родниково непогрешимые глаза.
Павел сглотнул комок горечи – слезы рвались наружу. Эта хрупкая, голубоглазая девушка, которую он вдруг захотел на руках понести к счастью, показалась ему такой беззащитной, святой, непохожей на всех других.
– Простите!.. Простите меня, родная!.. – прикрыл глаза ладонями, дрожа всем телом.
Анна полюбила Павла. Знала ли она, что такое любовь, думала ли, что существует такое понятие? Она, простая девушка, не задумывалась над этими вопросами, но тем не менее умела любить. Она любила сердцем и душой, как любят прозрачный полдень с усмехающимся солнышком, свирель утренней пичуги, лопотание торопливой речушки, целомудренную зорьку вечера и утра. А разве любовь может быть «ученной, всезнающей»? Может, давние-давние наши предки – пещерные, первобытные – любили по-настоящему, лучше нас? Была б такая волшебная подзорная труба, позволившая бы нам взглянуть в глубину древних веков, мы бы убедились, что это именно так. Настоящая любовь презирает прагматизм и рационализм. И трагична судьба так называемых «бухгалтеров», подсчитывающих все «за и против». К сожалению, штат их все более увеличивается, и правит там – их ничтожество мещанство и вещизм.
Любовь, вероятно, имеет два заряда: один – положительный, энергети-чески питающий саму любовь, другой – отрицательный, уккумулирующий в человеке ненависть к «тому» или к «той». Чем сильнее, беззаветнее Анна любила Павла, тем больше, злее он ненавидел Жанну Тихомирову. И один кощунственно гадкий ворос мучил его, преследовал, он даже боялся его: что будет, если Жанна вернется? И, несмотря на это, он знал, что так, как Анна, никто и никогда не полюбит его. Порой ему казалось, что эта простая, воспитанная в детском доме девушка нравственно выше, чище его, и он не достоин ее любви.
Анна родила сына, Сережку, и была счастлива этим. Ей, худенькой, хрупкой, не верилось, что она смогла родить ребенка. Бледная, сильно похудевшая, она улыбалась всем в палате, не хотела думать, что могла умереть при родах – ведь ей сделали кесарево сечение.
Павел так же учился в консерватории на композиторском факультете, и редко приходил к Анне. Она очень стеснялась его, как и в первый раз, думая, что ее бледность, старенький халат, сквозящая в глазах усталость неприятны, даже противны ему. И когда он уходил, она с волнением думала, что он больше никогда не придет. И тихонько, стесняясь саму себя, плакала… подходила к кроватке и смотрела на сладко улыбающегося во сне малыша. И ей казалось, что сынок, не открывая глаз, этой счастливой улыбкой успокаивает ее; и когда, улыбаясь, снова шила махонькие рубашечки, штанишки, чепчики, все казалось, что он исподтишка посматривает на нее жалея. И думалось ей, что он будет хорошим, ласковым сыном.
5
Сережка вышел из метро и торопливо направился к мастерской. Хоть сегодня и суббота, выходной день, но отец все же пошел на работу. «Конец месяца, аврал, штурмовщина, – чуть раздраженно сказал он. – Приходить не надо!» Сережке так хотелось сегодня пойти в филармонию или Дом органной и камерной музыки! Давно они с отцом там не были. Нет, он не будет уговаривать отца отправиться туда, он просто хочет провести его с работы домой…
Григорий Васильевич стоял на крылечке под навесом, неторопливо, задумчиво покуривал. Увидев Сережку, улыбнулся, помахал рукой.
Когда мальчик подошел, вахтер положил ему на плечо чуть дрожащую руку.
– На свадьбе вчера был! – торжественно сообщил, радуясь чему-то. – Хорошая свадьба! Пел там один – видать, из артистов оперных. Поет – сердце из груди вынимает. Я и слова запомнил: «Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей.» Это, стало быть, лебедь своей подруге погибшей кричит. А потом и сам кончает жизнь самоубивством, бросается с неба на землю грешную. Вот как любили друг дружку! Так и надобно любить и жить, чтоб друг без дружки не обойтися.. Я вот не поэт, а мысль ко мне пришла: ведь в тот, пожалуй, день много свадеб с разными обычаями было справлено по всей Земле. Некоторые страны, конечно, еще спали, солнышко еще не подарило им день Это ж сколько, если сосчитать, национальностей!
Григорий Васильевич говорил волнуясь, и Сергей понял, что все это он говорит для него, желая, чтобы и он любил как лебеди.
«Добрые люди, – думал отрок, – как целебные колодцы, к каждому из которых хочется подойти, благоговейно поклониться и испить живительной водицы.»
– Вот придет такое время, когда не будет ни вахтеров, ни охранников, ни милиции. Это и есть, Сережка, коммунизм чистой воды.– Глубоко затянулся, пустил сизоватый дымок, задумался, поглаживая подбородок. – Я вот читал в одном научном талмуде, что были раньше кайно…кайнозойская, мезо…мезо… Ну, черт, и названия же, шибче на гору взберешься, нежели их выговоришь! Мезо, стало быть, зойская, протеро… и тоже зойская эры. И вот в те-то времена живали разные там дриопитики, парантропы, ремапитики, прочие питики и эти неа…нео… ниандртальцы. Тяжело, скажу тебе, влазят в башку эти словеса. Как их ученая братия запоминает – не знаю?! – Пожал плечами. – По мне лучше выкосить луг, чем их заучивать. Ну так вот, те питики были, так выражаясь, наши сородичи, собратья-предки наши… человекопохожие то есть. Хвосты у них, стало быть, поотрастали. Не так чтобы они, эти хвосты, им мешали, но все же эти хвосты у них имелись. По-ученому – атрибут необходимый. Потом эволюция такая, стало быть, пошла-развернулась, хвосты эти атрофировались и поотпадали, ну как соульки с крыш. Вот. Люди по этой причине стали бесхвостые. Какая в них нужда, в хвостах этих? Ты попробуй найди-ка сейчас хоть одного профессора или академика с хвостом! Не найдешь – дудки!
Дядя Гриша последний раз затянулся, медленно загасил сигарету о спичечный коробок и, открыв его, спрятал туда окурок.
– Теперь смекаешь к чему это я клоню? Неспроста ведь о хвостах стал философствовать.
Сережка пожал плечами, жалея, что не может ответить.
– Ну так слухай, мил человек. Ведь зло, зависть, жадность, хапужничество, нечестность и все подобное нехорошее и есть длиннющий хвост у всего человечества, который ему очень мешает и делает его больно некрасивым. Аж стыдоба берет меня за всех за людей! Природа, конечно, – говорю научным языком, – хороший селекционер, но ассистировать нам при ампутации этого подлого червеобразного хвоста она не будет. Мы, люди, должны его отсечь беспременно сами – раз и навсегда!..
Когда Сергей пошел, Григорий Васильевич, войдя в вахтерку, сказал вслух:
– Вот они, хирурги будущего! Они-то навовсе отрубят у человечества этот – ядрена его мать! – хвостище!
В цеху тихо, никого нет, словно все ушли на митинг. Под ногами поскрипывает песок. На верстаке Александра Михайловича – гайки, шайбы, винты, почему-то хаотично валяются сверла, напильники, масленка, штангенциркули. На полу – тоже гайки и винты, опрокинутый круглый стул, – кто-то, вероятно, спешил, споткнулся и, озлясь, не соизволил поднять его. Дверки установки настежь открыты, сверкают хромированные ручки. Пахнет керосином.
Сергей боязливо, точно его ударят, подходит к обшарпанной коричне-вой двери бытовки, сквозь приоткрытую дверь которой сочится разговор. Сердце сильно «галопировало», и мальчику казалось, что разговаривающие за дверью слышат его стук.
– Закусончик у нас, братва, бог позавидует!
– Это первач или последыш?
– Последыши бывают в акушерстве…Первач – понял?! У меня самогон-ный аппарат из нержавейки, последней модификации – хоть на ВДНХ де-монстрируй!
– Не боишься, что конфискуют?
– Он у меня в такой схованке, что ни один миноискатель не обнаружит…
Все вдруг засмеялись, узнав, где прячет свое «изобререние » собутыль-ник.