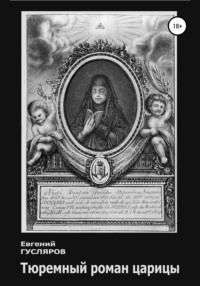полная версия
полная версияСамоубийство Пушкина. Том первый
Русские фразы, которые доносятся из-за двери, испорчены акцентом, скорее немецким, чем французским.
– Дождётесь, моя госпожа. То, что я не рассказываю вашему мужу об этом красавчике Ланском, разве не благодарность с моей стороны?
– Фи, как это грубо. Вы совсем не умеете разговаривать с порядочной женщиной. Впрочем, прощайте. Я приглашала Пушкину на двенадцать… На моих часах уже без четверти. Как бы нам не столкнуться в дверях… Слуг я отослала. Один оставлен Ипполит, который инструктаж получит…
– Она скорым шагом спускается по лестнице в прихожую. Встреченному слуге говорит на ходу:
– Ипполит, поступишь, как сказано. Через минуту явится сюда госпожа Пушкина, скажешь, что я жду её… Там… Наверху…
Указывает перчатками вверх, туда, где только что говорила с неизвестным нам персонажем. Уходит. В открытую дверь с улицы врываются клубы морозного воздуха.
Через мгновение после её ухода появляется Пушкина. Ей зябко с мороза. Ипполит узнает её. Помогает снять шубку.
– Ипполит, иди, предупреди Идалию Григорьевну…
– Проходите, проходите, там вас дожидают.
Ипполит неуверенно указывает рукой вверх. Глаза, однако, прячет. Пушкина пожимает плечами. Потом идёт наверх. Входит в полуоткрытую дверь.
– Идалия, ты не можешь себе представить, – энергично начинает она и тут же умолкает. Вместо Идалии перед нею Дантес. Он в повседневной дежурной форме кавалергардов. Видно отвлекся для этого дела от несения дежурной службы. Улыбается. Впрочем, не совсем уверенно… Ему всё-таки чуть-чуть не по себе.
Следует несколько вполне водевильных телодвижений. Артист он, однако, бездарный. Дантес с преувеличенным размахом, картинно преклоняет колена.
И начинает не столь бойко.
– Я догадываюсь, о чем вы хотели сказать Идалии. Напрасно. Вы в ней не найдёте сочувствия… Впрочем, я не об этом. Вы должны понять меня. У меня не было другого способа увидеть вас наедине…
На лице Натали страдание и тоска.
– Господи, вы оба задались целью свести меня с ума. Вы ведь как будто любили меня… Так ради…
– Я люблю вас. Вы заставляете меня безумствовать. Оставьте своего мужа. Вы не для него, вы для меня созданы. Как можно быть женой Пушкина… Этого пигмея с обезьянскими ужимками. Да оглянитесь же вы на него. Что не дает вам взглянуть на него беспощадным взглядом… Вы должны быть моей. Сегодня!.. Сейчас же!..
Дантес встаёт с колен. То ли начинает он лучше играть, то ли в самом деле впадает в раж. Признаки исступления появляются в его поведении. Он делает вид, что способен к насилию. Он овладевает руками Пушкиной. Хочет обнять её. Происходит борьба с обоих сторон неподдельная. У Дантеса откуда-то вдруг появляется пистолет. По всей видимости он даже не заряжен. С теми пистолетами надо было обращаться не столь вольно. Из наклоненного дула пуля, так бывало, могла и выкатится. Дантес приставляет дуло то к распахнутой груди, то к виску… Замахи эти довольно решительны, он будто тычет себя пистолетом.
– Я убью себя на ваших глазах, если вы не уступите мне. Оставьте, жестокая, мне жизнь. Один только миг счастья. Неужели нет во мне ничего, что заставило бы вас забыться на четверть часа?.. Ведь я против этого жизнь ставлю!..
Не может Дантес в лицедействе своем подняться до драмы. Вязнет в фарсе. Натали, видимо, мимо воли чувствует комическое в тяжкой этой сцене. Она разражается вдруг неудержимым злым смехом. Это останавливает на миг нелепую импровизацию Дантеса. Его обескуражила эта неожиданная реакция. Пушкина, воспользовавшись мгновенным его замешательством, исчезает за дверью. Бежит по лестнице мимо напуганного Ипполита, который глядит на неё круглыми глазами.
– Вакханка! – кричит вдогонку Дантес. – Ты сама сделала выбор. Ты, думаешь, спаслась? Ты завтра же будешь по уши в помоях… Ты не знаешь, что бывает грязь, которую не отмоют века…
Следующая сцена происходит в доме Вяземских. Велика тяжесть, с которой Натали Пушкиной предстоит идти домой. Сразу она не решается. Гнев, страх, грозные предчувствия – это требует выхода, совета. К счастью, в доме Вяземских только хозяйка – Вера Фёдоровна. Пушкину в таком состоянии она видит впервые. Вяземская умна и добра – это выражается в такте, в котором нет ни торжества, ни злорадства. Сочувствие её ненавязчиво.
– Господи, что за лицо, Натали?
– Ах, Вера, мне некому сказать. Чувствую, до беды дошло…
– Где? Что? Александр опять что-нибудь выкинул?
– Муж ни при чём. Меня Идалия заманила к себе. Там Дантес. Он осмелился говорить со мной, как с публичной девкой… Он требовал…
Натали не может говорить. Рыдания душат её.
– Этого надо было ожидать, – потерянно говорит Вяземская. – Это кончится бедой, если Александр узнает… Как поступить, не приложу головы… Может, не говорить пока… Ведь это же порох. Хотя, это, конечно, так остаться не может…
– Вера, я не знаю… Я кругом виновата… Я могла бы не сказать мужу… Они мне грозят. Я знаю, они какую-то мерзость задумали. Они мне отомстят. Я думаю, они не остановятся перед клеветой. Вера, у тебя имя такое, не верь клевете. Я почему-то и теперь боюсь клеветы, Вера… От клеветы и смерть не избавит…
Петербург. 27 января 1837 года. Около четырех часов пополудни.
Карета с Данзасом и Пушкиным выворачивает по Дворцовой набережной мимо крепости на Черную речку. На набережной попадется им экипаж Натали. Встрепенётся Данзас, надежда ему блеснёт. Встреча эта, кажется ему, ниспослана самой судьбой, чтобы уйти от катастрофы, увести от неё. Но… Пушкин смотрит в другую сторону, а жена его близорука и не разглядела того, кто проследовал мимо…
Как играть Пушкина: Некоторые заметки при чтении пушкинских документов.
«Форма одежды сначала была стеснительна. По будням – синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета: это бы ничего: но зато, по праздникам, мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми – во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстук, ботфорты, треугольная шляпа – в церковь и на гулянье.. Ненужная эта форма, отпечаток того времени, постепенно уничтожилась: брошены ботфорты, белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета, фуражка вытеснила совершенно шляпу, которая надевалась нами, только когда учились фронту в гвардейском образцовом батальоне». Так одет должен быть Пушкин-лицеист. (Из заметок И.И. Пущина о Пушкине).
«Беседы ровной систематической, связной у него совсем не было: были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но всё это только изредка и урывками, большего же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания».
Барон М.А. Корф был недоброжелатель Пушкина, но его замечания не лишены живости и внешние проявления характера тут видны…
«Он говорил тенором, очень быстро, каламбурил, и по-русски, и по-французски…» – об этом вспоминала Вера Александровна Нащёкина.
Друг его, князь П.А. Вяземский отмечает: «…краска вспыхивала на лице его. В нём этот детский, женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения».
«Рожа ничего не обещающая» – скажет, впервые увидевший его московский почт-директор Булгаков.
Кто-то запомнил, как говорил о Пушкине Карл Брюллов:
– Сразу видно счастливого человека. Так смеется, что вот-вот кишки увидишь…
Наталья Николаевна как-то приревновала его и отвесила ему элементарнейшую из пощечин. Это разом привело его в великолепное настроение. Он почувствовал себя счастливым от такого неравнодушия и опять хохотал этим неповторимым смехом своим.
«Смех Пушкина так же увлекателен, как его стихи» – пишет А.С. Хомяков.
«Как он звонко хохотал» – вспоминает та же В.А. Нащекина.
Вот Пушкин читает «Бориса Годунова»:
«Наконец, надо представить себе саму фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства – это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в чёрном сюртуке, в чёрном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную и, между тем, – поэтическую, увлекательную речь!».
Так описал первое чтение Пушкиным знаменитой трагедии М. Погодин.
Шевыреву во время этого чтения он «показался красавцем».
К особенностям импульсивной натуры Пушкина брат его Лев относит следующее:
«Когда он кокетничал с женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его был необыкновенно заманчив. Должно заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и так несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его».
Уже в глубокой старости В.А. Нащекина вспоминала всё-же:
– Замечательные глаза, глаза, всё говорившие и постоянно менявшие своё выражение, поэтому он мне ни на одном портрете не нравился, всё это деланные выражения…
Брат Лев оставил о внешности его следующую запись:
«Пушкин был собою дурён, но лицо его было одушевленно и выразительно; ростом он был мал (в нём было с небольшим пять вершков) но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно».
Художник Чернецов для каких-то технических надобностей записал точный рост поэта на эскизе картины «Парад на Марсовом поле» – «2 арш. пять вершков с половиной».
Точная аршинная мера – шестнадцать вершков, что составляет 0,711 метра. В вершке – 4,4 см.
У брата Льва что-то с ростом шибко напутано, какая-то, видно, описка.
По Чернецову точный его рост будет 1664 миллиметра или 166 см. 4 мм.
Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки. «Нигде он так не выразился, – замечает Лев Пушкин, – как в описании Чарского (см. «Египетские ночи»). Вот короткий отрывок: «Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печёный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вёл жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое».
«…худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волосов. Ничего юношеского не было на этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось». Это замечание К.А. Погодин сделал о молодом ещё Пушкине.
Замечание того же Погодина:
«…превертлявый и ничего не обещающий снаружи человек».
Иван Снегирев в дневнике отметил:
«Талант виден и в глазах его…».
А московский почт-директор Булгаков опять: «Рожа ничего не обещающая».
В воспоминаниях, относящихся примерно к началу двадцатых годов Пущин упоминает о сигарках, которые они закуривали.
Зимой двадцать четвертого года, приехав в гости к Пушкину, он упоминает о трубках, с которыми они уселись за дружескую беседу.
В самом начале Арзрумского похода Пушкина видел Н.Б. Потокский: «Пушкин из первых оделся в черкесский костюм, вооружился шашкой, кинжалом, пистолетом; подражая ему, многие из мирных людей накупили у казаков кавказских нарядов и оружия…».
«На Эриванскую площадь, – видел Палавандов, – выходил в шинели, накинутой прямо на ночное бельё, покупая груши, и тут же, в открытую и не стесняясь никем, поедал их… Перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеётся, якшается на базаре с грязным рабочим муштаидом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками».
В марте 1827 года П.Л. Яковлев заметил:
«Пушкин очень переменился и наружностью: страшные чёрные бакенбарды придавали лицу его какое-то чертовское выражение, впрочем все тот же, – так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от весёлости и смеха к задумчивости и размышлению».
«В самой наружности его, – отмечал некто Попов, – было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; носил бакенбарды большие и всклокоченные; одевался небрежно; ходил скоро, повёртывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню. В свое время многие подражали ему, и эти люди назывались a la Пушкин… Он был первым поэтом своего времени и первым шалуном».
Опять из наблюдений Ксенофонта Полевого:
«…когда к нему приходил гость, он вставал с своей постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно было назвать когтями».
«В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более, что, после бурных годов молодости и тяжких болезней, он казался по наружности истощённым и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; но он всё ещё хотел казаться юношею».
Вот ещё одно описание Пушкина, относящееся, по-видимому, ко времени его тридцатилетия. Сделал его путешествующий поляк Станислав Моравский:
«Небрежность его одежды, растрёпанные (он немного был плешив) волосы и бакенбарды, искривлённые в противоположные стороны подошвы и в особенности каблуки (стоптанные?) свидетельствовали не только о недостатке внимания к себе, но и о неряшестве… За исключением одного раза, на балу, никогда его не видел в нестоптанных сапогах. Манер у него не было никаких. Вообще держал себя так, что я бы никогда не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода. В обхождении он был очень приветлив. Роста был небольшого; идя, неловко волочил ноги, и походка у него была неуклюжая. Его речь отличалась плавностью, но в ней часто мелькали грубые выражения».
«Однажды, – вспоминал Лев Пушкин, – в бешенстве ревности он пробежал пять вёрст с обнажённой головой под палящим солнцем по 35 градусам жары».
Видно, что Пушкин чем-то озабочен. Он в рассеянности угощается за дружеским застольем.
– Как тебе кажется это вино? – спрашивает хлебосольный хозяин.
– Да ничего. Сносное, пожалуй, – рассеянно отвечает тот.
– А поверишь ли, еще месяцев шесть назад и в рот нельзя было взять.
– Поверю.
– Пушкин, – задыхаясь от восторга, сказал Кюхельбекер, – ты настоящий сын солнца!..
– Не слишком верь этому, Кюхля. Никита, который выносит мой ночной горшок, другого мнения…
– Раевский – настоящий генерал. У меня есть тому доказательство…
– Какое?
– Он сказал мне однажды потрясающее правило, как не проиграть. Любое решение на войне, учил он меня, правильное. Проигрывает тот только, кто не может принять никакого решения. Клянусь, этим можно руководствоваться не только на войне…
– Ну, как дела? – спрашивает Пушкин.
– Хуже не бывает, не печатают меня.
– У меня хуже…
– Как так?
– Ничего не пишу…
О том, как относиться к Дантесу:
«Это был столь же ловкий (gewander), как и умный человек, но обладал особенно злым языком, от которого и мне доставалось, – вспоминал в своих записках генерал Р.Е. Гринвальд, его остроты вызывали у молодых офицеров смех"
Как-то речь зашла о женщинах. Некто граф А…н сказал барону Дантесу:
– Барон, про вас говорят, что тут вам очень везёт, особенно с замужними.
– Чтобы в том убедиться, граф, вам осталось только жениться…
Барон Дантес носил на пальце перстень с изображением какой-то коронованной особы. Возможно, Карла Девятого, по своим тогдашним лигитимистским настроениям. Видимо, перстень в художественном отношении был не особо высокого качества.
Пушкин решил уязвить его:
– Поглядите, господа, барон носит на пальце изображение обезьяны!
– Не думаю, иначе это был бы ваш портрет, – не задумываясь сказал Дантес.
Враждебные отношения между Дантесом и Пушкиным возникли не сразу. О вовсе незаурядных качествах будущего убийцы поэта говорит тот факт, что Пушкин испытывал к нему некоторое время род приязни:
«Красивой наружности, ловкий, весёлый и забавный, болтливый, как все французы, – пишет И.М. Смирнов, – Дантес был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, Дантес дал ему прозвание Pacha a trois gues (трехбунчужный паша), когда однажды тот приехал на бал с женою и её двумя сестрами…"
Вот как пишет о Дантесе его приятель князь А.В. Трубецкой, даже после смерти Пушкина державший сторону его убийцы:
«Дантес был статен и красив; на вид ему было в то время лет 20, много 22 года. Как иностранец, он был образованнее нас, пажей, как француз – остроумен, жив, весел. И за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать: он ли жил с Гекерном, или Геккерн с ним… В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль. Он был очень красивый, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованный ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже принято в нашем обществе.
В то время Новая Деревня была модным местом. Мы (кавалергарды) стояли в избах, эскадронные учения производились на той земле, где теперь дачки и садики 1 и 2 линии Новой Деревни. Все высшее общество располагалось на дачах поблизости, преимущественно на Чёрной речке. Дантес часто посещал Пушкина. Он ухаживал за Наташей, как и за всеми красавицами (а она была красавица), но вовсе не особенно «приударял», как мы тогда выражались, за нею. Частые записочки, приносимые Лизою (горничной Пушкиной), ничего не значили: в наше время это было в обычае. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женой, он вовсе не ревновал, но, как он сам выражался, ему Дантес был противен своею манерою, несколько нахальною, своим языком, менее воздержанным, чем следовало с дамами, как полагал Пушкин. Надо признаться, при всём уважении к высокому таланту Пушкина, это был характер невыносимый. Он как будто боялся, что его мало уважают, недостаточно почёта оказывают; мы, конечно, боготворили его музу, а он считал, что мы мало перед ним преклоняемся. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Natalie не противоречила ему в этом, быть может, даже соглашаясь с мужем, но, как набитая дура, не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард был всегда у её ног. Когда она начинала говорить Дантесу о неудовольствии мужа, Дантес, как повеса, хотел слышать в том как бы поощрение к своему ухаживанию. Если б Natalie не была так непроходимо глупа, если бы Дантес не был так избалован, всё кончилось бы ничем, так как в то время, по крайней мере, ничего, собственно, и не было – рукопожатие, обнимания, поцелуи, но не более, а это в наше время были вещи обыкновенные».
Пока всё…
Книга вторая
Суеверный Пушкин
Заметки о древностях русского духа
Не хотелось бы зваться пушкинистом. Хотя я и в самом деле подозреваю, что всякий русский, рано или поздно, в какой-то степени им становится. Любопытно было бы проследить – почему?
Думаю так, что Пушкин в какой-то необъяснимо высокой и законченной форме выражает собой тип русского человека и тип русского характера. Не говорю при этом, что тип этот представляет некое совершенство. Законченность его характера как раз в том, что он вобрал в себя все противоречия и загадки того, что во всем мире величают натурой русского, русским характером.
Пушкин, сам умерший в долгах, как в шелках, исхитрился после смерти своей полтора столетия уже кормить неплохим хлебом и часто даже с маслом легионы анатомирующих его короткую жизнь. Здесь тоже загадка. Как могла эта недолгая жизнь вместить столько, что до сей поры представляется неисчерпаемой?
Все дело, видимо, в широте его души. Она вместила столько, что даже русское дремучее и мудрое суеверие впитала во всей полноте. Древний и тайный ужас, в котором постоянно обреталась языческая душа славянина, очень явственно касался сокровенных струн его натуры.
Это можно, конечно, объяснить великолепно развитым поэтическим чувством. Но это первое попавшееся объяснение, которое по логике поиска надо отбрасывать сразу.
Есть другое. Наш языческий страх легко объяснить постоянной угрозой, ожиданием беды. Душа Пушкина развивалась именно в такой обстановке. Рок постоянного ожидания недобрых перемен не отпускал Пушкина в течение всей его жизни.
Как я говорил уже, мне меньше всего хотелось, чтобы это были именно записки о Пушкине. Лично меня раздражает непомерное количество пушкинистов. Мода и легкий хлеб начинают опошлять эту священную тему. Но заметки о русском суеверии, как это оказалось, без Пушкина невозможны. В языческой натуре Пушкина таилось, может быть, самое обширное и достоверное собрание таинственных, грозных и забавных следов древней жизни славянской души.
Это был как бы последний всплеск того священного атавизма, который до сей поры ощущает каждый из нас и который является незабытым детством всех нынешних философий.
Я не могу быть уверен, что Пушкин был хорошим христианином, но просто христианином он был. Однако вот какая замечательная деталь. В последние дни жизни Гоголя его неистовый духовный тренер отец Матвей Константиновский требует от него освободиться от главного, что стоит на пути в царство небесное.
– Отрекись от Пушкина, он язычник!
Думаю, что не так уж прост был этот «ржевский Савонарола» поп Матвей, и умел смотреть в корень.
Если перелистать жизнь Пушкина с определённой заданностью, то окажется, что суеверие играло в ней необычайно важную роль и в значительной степени определило само её течение. Во многих случаях именно оно влияло на повороты его судьбы и, не будь Пушкин «язычником», его жизнь могла бы сложиться совсем иначе.
Вот один из самых известных случаев. Он описан современниками Пушкина неоднократно.
Даль, очень близкий ему человек, мог слышать об этом от самого Пушкина.
Свидетельство Даля для меня является авторитетным и должно быть точным, поскольку он сам всю жизнь собирал и расшифровывал народные приметы. Он часто бывал консультантом у Пушкина относительно значения разного рода предзнаменований.
«Всем близким к нему известно странное происшествие, которое спасло его от неминуемой большой беды. Пушкин жил в 1825 году в псковской деревне, и ему запрещено было из неё выезжать. Вдруг доходят до него тёмные и несвязные слухи о кончине императора, потом об отречении от престола цесаревича; подобные события проникают молнией сердце каждого, и мудрено ли, что в смятении и волнении чувств участие и любопытство деревенского жителя неподалеку от столицы возросло до неодолимой степени? Пушкин хотел узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет; он вдруг решил тайно выехать из деревни, рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки же возвратиться. Поехали; на самых выездах была уже не помню какая-то дурная примета, замеченная дядькою, который исполнял приказание барина на этот раз очень неохотно. Отъехав немного от села, Пушкин уже стал раскаиваться в предприятии этом, но ему совестно было от него отказаться, казалось малодушным. Вдруг дядька указывает с отчаянным возгласом на зайца, который перебежал впереди коляски дорогу; Пушкин с большим удовольствием уступил убедительным просьбам дядьки, сказав, что, кроме того, позабыл что-то нужное дома, и воротился. На другой день никто уже не говорил о поездке в Питер, и всё осталось по-старому. А если бы Пушкин не послушался на этот раз зайца, то приехал бы в столицу поздно вечером 13 декабря и остановился бы у одного из своих товарищей по лицею, который кончил жалкое и бедственное поприще своё на другой же день… Прошу сообразить все обстоятельства эти и найти доводы и средства, которые могли бы оправдать Пушкина впоследствии, по крайней мере, от слишком естественного обвинения, что он приехал не без цели и знал о преступных замыслах своего товарища».
Сказать честно, меня в работе над этими заметками привлекала одна немаловажная для авторского самолюбия деталь. Мне хотелось, наконец, написать такую вещь, от которой невозможно было оторваться. Которую с одинаковым удовольствием прочитали бы и тонко организованная посетительница, допустим, литфондовского бара и толстокожий бюрократ, устроившийся со своим столом прямо на столбовой дороге очередной российской перестройки.