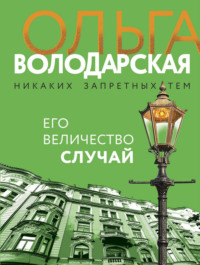Полная версия
Детектив весеннего настроения
Взглядом исподлобья он проводил потрюхавшую мимо него машину и вновь посмотрел вверх. Форточка определенно была открыта.
Он моментально вспомнил события последних дней, все сопоставил и перепугался.
Перепуганный креативный директор издательского дома «Власть и Деньги» остался один посреди сталинского двора, засаженного чахлыми липами, с круглой клумбой, разрытой автомобильными колесами посередине.
Можно ничего не делать. Можно выйти на проспект, остановить какую-нибудь другую машину, перед водителем которой не будет неудобно, и уехать в редакцию, а оттуда позвонить в милицию. Сказать, что у него дома воры. Приедут менты и во всем разберутся. Сами, без него.
Скорее всего, он так бы и сделал – не геройствовать же на пустом месте, в самом-то деле! – если бы не… Если бы не все те же события последних дней, о которых он вспомнил с таким детским потным испугом.
Если он уедет в редакцию и станет оттуда звонить, все узнают то, о чем знать не должны.
Значит, он не уедет.
Он поднимется в квартиру, даже если это обернется для него бедой. В конце концов, он уже давно не тот беспомощный студент-третьекурсник, спасать которого пришлось декану Александру Ивановичу!..
Должно быть, это было самым глупым решением в жизни Константинова, и ему даже показалось, что в голове у него как будто развернулся плакат с надписью «Глупое решение!», но он пошел наверх.
Он не стал вызывать лифт, чтобы не приехать слишком быстро. Он шел, считая ступеньки, шел медленно, смотрел на сверкающие носы своих начищенных ботинок и с ужасом думал, что отступать ему некуда.
Он сам решил… идти. Теперь убежать – значит струсить, а он не должен трусить, даже перед самим собой. Особенно перед самим собой!..
Он же… воевал когда-то. То есть не воевал, но видел войну своими глазами и так близко, как не должен видеть ее ни один нормальный человек.
Широкая лестница сталинского дома пологой волной возносила его все выше и выше. Константинов шел все медленней и медленней. Шестой этаж. Не слишком высоко и не слишком низко.
На просторной площадке было светло и как-то очень торжественно, как на выпускной школьной линейке. Константинов долго не мог понять, почему, а потом понял – окна помыли, и солнечный свет оказался легким и радостным, каким-то воздушным. Далеко внизу, как из бочки, глухо лаяла собака, и он пожалел, что у него нет собаки.
Так. Он готов ко всему. Нужно собраться с духом, и все.
Решительным движением Константинов вставил ключ в замок, повернул его и вошел.
В квадратной просторной прихожей тоже было солнечно и тихо, и торжественно, как на площадке, но все же что-то изменилось, и он сразу это почувствовал.
Его портфель, который он поставил у стены, исчез.
Он поискал глазами – нет портфеля! А должен быть, он всегда ставил его на одно и то же место! Если бы Саша мог, он испугался бы еще больше, но у него уже не было сил пугаться. Что бы там ни происходило, кто бы там ни был, в его доме, он сейчас все узнает.
Пан или пропал!..
Очень тихо и осторожно Константинов двинулся внутрь своего дома, который вдруг стал для него враждебен, и не просто враждебен, а как-то подло враждебен, потому что он все еще продолжал прикидываться его домом. Он вошел в коридор и увидел тень, которая плотным пятном лежала на белой стене.
У него в квартире все стены были белыми – угораздило его когда-то сделать «евроремонт», а переделывать «евро» на нормальный у него не было ни времени, ни сил.
Константинов увидел тень и замер, а тень, наоборот, зашевелилась и задвигалась – она же не видела Константинова! Он почему-то удивился, что тень двигается беззвучно, он ожидал грохота, подобного тому, какой бывает в кино, когда в спальне красотки орудует маньяк, но беззвучная действительность оказалась страшнее.
В ванной у него швабра. Как войдешь, сразу справа. Швабра и ведро. Ведро вряд ли ему пригодится, а вот швабра очень даже может. Фактор внезапности это называется. Если неожиданно шарахнуть по голове, хоть бы и шваброй, вполне можно оглушить. Ну, если уж не оглушить, значит, вывести из строя хоть на какое-то время. Нужно только как-то изловчиться и открыть дверь в ванную раньше, чем непрошеные гости его засекут.
Если засекут, все будет плохо. Все будет просто ужасно.
В тот же миг его креативное воображение нарисовало ему картинку, очень отчетливую – как его будут хоронить, как Любанова будет стараться держать себя в руках, как заплачет Марьяна, секретарь редакции, как что-нибудь трогательное скажет Андрей Борисыч, а бандерлоги по причине траура напялят галстуки и заскучают.
Картинка была настолько отчетливая и красочная, что Константинову стало совсем худо. Ну да, он трус и знает об этом. Он никогда не умел защищаться и, если бы не декан Александр Иванович, так и не научился бы! Он умеет… А впрочем, сейчас-то какая разница, что именно он умеет!..
Тень опять шевельнулась и поползла, и, зажмурившись, Константинов нырнул в ванную, схватил швабру – ведро упало и загрохотало по плитке, а он сильно ударился плечом о косяк, так сильно, что слезы потекли из глаз и правая рука, та самая, в которой у него был «фактор внезапности» под названием «швабра», повисла, как плеть.
Фактор внезапности внезапно утратил внезапность!
Тень уже не ползла, она стремительно приближалась, Константинов обнаружил это, вывалившись из ванной.
Тень уже почти закрыла чистый и торжественный школьно-актовый солнечный свет, и тогда он кинулся головой вперед, размахнулся, чтобы ударить, и…
– …и чего теперь?
– А ничего! А то, что я тебе говорил: бабло за просто так нам никто не отмуслякает, а ты – поедем, поедем, блин! Вот и поехали!..
– Да что ты расперделся-то! Ща придем потихонечку, кофейку хлопнем, побазарим с кем-нибудь! Может, чего и узнаем…
– Да с кем ты побазаришь, когда во всех новостях нашу мамку показывают и говорят, что она там была!
«Мамкой» крутые программеры время от времени называли Леру Любанову – когда очень боялись или когда требовалась ее помощь. Леру «мамкой», а Константинова «папкой», хотя, в отличие от Любановой, он был не самый большой начальник, были и покрупнее.
– А если узнает кто?.. Ну вот хоть кто узнает, что нас тоже туда носило, и че тогда?! – Бэзил Gotten Пивных даже по сторонам зыркнул – не слышит ли кто.
Никто не слышал, потому что на стоянке за невысокими елочками и непонятными тумбочками с навесными речными цепями, крашенными черной краской, они были одни. Только бы охрана не догадалась, о чем они шушукаются, не вышла бы посмотреть!
– Да кто узнает?! Как?!
– А хрена лысого знает как! Стуканет кто-нибудь, чтобы нас того… чтобы нас… того…
Алекс Killer Кузяев посмотрел подозрительно, даже перестал независимо крутить на пальце ключи от «восьмерки».
– Да кто стуканет-то, Васька?! И кому?
– Да тот, кто нас в этот, блин, город на Неве приволок! Вот он и стуканет, что мы с тобой… из-за нас с тобой…
– Тихо ты! Чего орешь на весь паркинг?!
– Да че паркинг! Скоро на всю редакцию заорут, что мы с тобой!..
– А че мы-то? У нас за компы не сажают, нету такой статьи, сам мне говорил!
– Да я говорил, чего в журнале прочитал! Там так написано было – не сажают, а на самом деле хрен его знает, может, и сажают! А если заказчик стуканет, и нас… того?..
– Да чего – того?!
– Пришьют нас, и все дела! Чтобы не мешали, блин!
Killer Кузяев каким-то странным, неловким движением уронил в лужу ключи от своей машины и нагнулся, чтобы поднять. Поднял и потряс в воздухе. С ключей капала грязная вода. Killer вытер их о штаны и сунул в карман.
– Ты че, заболел, сын мой?! Кому мы нужны?!
– А тому, – зашептал Бэзил Пивных в самое ухо Алексу, – кто все это затеял. Кто тебя в сетке нашел и кучу бабла за услуги предложил! Кто нас в ту квартиру поселил и кто задание давал! Откуда он знал, что ты с голосами работаешь?! Ты кому говорил?
Алекс подумал. Он совсем не чувствовал себя виноватым, но беспокойство Бэзила передалось и ему.
– Ну… тебе говорил. Юрику говорил, который мне тогда кучу прогов специальных напер. Еще Сашку говорил, который сисадмин[1] у этих…
Бэзил в одну секунду позеленел и даже с лица спал немного.
– А по радио ты не объявлял, для чего тебе все эти проги и все такое?! Придурок, блин, урод! Пол-Москвы в курсе, а он у меня еще спрашивает! Какого-то кекса крутого урыли и нас к этому делу приспособили, а он меня еще спрашивает!
– Как нас приспособили?!
– А ты не знаешь как! Мамку кто дурил?!
– Ну… мы дурили, ну и чего?
– А мамка в это время в том самом городке обреталась, где кекса завалили и где мы с тобой… художественно выступили! Сдадут нас за милую душу, и все – поливайте фикусы и высылайте деньги! Мамку-то мы подставили? Подставили! Кекса в Питере ухлопали? Ухлопали! Это называется – политическое дело, вот как это называется! Теперь будут крайнего искать, а чего искать, когда мы – вот они, самые что ни на есть крайние!
– Да мы ни при чем, Васька!
– Да мы-то как раз и при чем, Леха! Может, этот кекс мамкин самый разлюбезный друг был, или, наоборот, самый заклятый враг! А мы во все это по самые помидоры вляпались! – Бэзил перевел дыхание и утер сухой лоб. – Мы же ничего не знаем! Зачем нас в Питер гоняли, зачем ты голосовую прогу писал?! Не просто так же! – Он подумал, сморщился и добавил жалобно: – И главное, бабла не дали ни копья! Ну что за ботва, прикинь!
Алекс Killer Кузяев молчал.
Конечно, он крутой и всякое такое, и он сам отлично знает, что за баловство с компьютером в этой стране в тюрьму не сажают, это тебе не Америка, обетованная земля всех крутых «хакеров и программеров», но… Васька волнуется, а в последний раз он волновался, когда на третьем курсе физрук, скотина, хотел ему в семестре пару влепить за то, что Васька высосал на физре пузырь дешевого портвейна и ушел в отруб! С той поры он, кажется, больше ни разу не волновался.
Собственно, притянуть их ни за что нельзя, и того кекса они в глаза не видали, но то, что вся эта история мутна и дурно попахивает, – это точно. Это к гадалке не ходи!..
Может, отпуск взять?.. Ну… пока все не рассосется. Уехать на Волгу, в Саратов, и там рыбешку половить да в местном баре девчонок поснимать? А что? Неплохая идея!
Сию неплохую идею он моментально изложил Бэзилу и получил в ответ черную неблагодарность.
Бэзил, вместо того чтобы возликовать, сообщил Алексу, что тот «чукча нерусская» и что они должны не в отпуск ехать, а как-то себя… «обезопасить».
Как именно, Бэзил не знал.
– Пошли к Константинову, а? – жалобно попросил он Алекса. – Ну пошли! Мы ему все расскажем. А он что-нибудь придумает!
– Ты чего? Заболел? Константинов первый мамкин прихехешник! Он сразу к ней ломанется, и все, будь здоров! Нельзя нам к нему идти!
– Тогда, может, в ментуру?
– Сдурел совсем! Какая тебе ментура?! Вот менты-то уж точно решат, что кекса мы завалили!
И они замолчали и уставились в разные стороны. Какая-то птичка присела на ветку, отряхнула капли вчерашнего дождя, покопалась у себя под мышкой, под крылом, встопорщилась и была такова.
Бэзил Gotten птахе позавидовал. Вот уж воистину не знает она ни заботы, ни труда, чирик – и нету ее, улетела! Куда бы Бэзилу улететь, да так, чтобы никто его не нашел?!
Поднялся и опустился шлагбаум – какая-то машина заехала на асфальтовый пятачок, который в редакции шикарно называли «паркинг». Как все «паркинги» в центре Москвы, был он крошечный и неудобный, машины стояли в один ряд, кроме того, ровно три четверти мест было «абонировано» начальством, а из оставшихся два были «гостевыми». Поставить машину на «паркинг» считалось в коллективе большой удачей. Из машины вышла секретарша Марьяна, покопалась в салоне, выставив на обозрение идеальную попку, обтянутую идеальной черной юбкой, переступила ногами.
Бэзил Gotten вздохнул печально.
…нет, ну почему – как клевая девчонка, так всегда мимо кассы, а?! Нет, ну вот почему в мире такая несправедливость наблюдается?!
Марьяна обошла свою машину, открыла и закрыла багажник – зрелище еще печальнее, потому что открылся превосходный обзор Марьяниной задницы, – и канула за елочки. Там пролегал короткий путь к редакционному крылечку, знаменитому на всю Москву дверной ручкой. Ручка была бронзовая, в виде человеческой руки, показывающей фигу. Что именно хотел сказать дизайнер, присобачивший такую ручку на дверь солидного и процветающего издания, так и осталось загадкой, но крутым хакерам она очень нравилась. Время от времени они сообщали друг другу, что «вот было бы круто, если бы вместо руки был пенис»!
– Значит, так, – неожиданно басом сказал рядом Алекс Killer, – будем выжидать. Нет, а чего такого-то?! Нет нас и не было ни в каком Питере! И никто не докажет, что ту голосовую программу я писал! Да мы и не знаем, пошла она в дело или не пошла!
– Да сто пудов пошла, как же она не пошла, когда нас специально под это дело в Питер…
– Этого мы не знаем, – перебил его Алекс. – И вообще сидим тише воды ниже травы, пятаки не высовываем!..
– А если мамку посадят?
– Да мамка сама разберется, она тертая! Самое главное, чтобы нас не припекли, а на остальное… – и Алекс, не будучи покладистым котенком и мышонком, развесисто сформулировал, что именно нужно сделать «с остальным».
Бэзил Gotten ни в чем не был согласен со своим напарником, но решил не спорить – место было уж больно неподходящее. Еще какая-то машина остановилась недалеко от стоянки, и Бэзил все время на нее косился.
Ну и ладно. Если Алекс козел, так пусть и дальше козлит, а Бэзил еще подумает, как он может себя «обезопасить». В конце концов, он и сам может пойти и сдаться, Алекс для этого ему вовсе не нужен.
Совершенно упавшие духом, но старающиеся бодриться, они побрели к редакционному крылечку, и даже фига их не вдохновила, и ни один из них и не вспомнил о том, что «было бы клево, если б вместо нее был пенис».
Некоторое время перед входом в редакцию ничего не происходило, а потом открылась дверь той самой машины, которая остановилась недалеко от стоянки. Дверь открылась, и из нее вышел человек.
Самый обыкновенный человек в костюме и с портфелем – таких костюмов и портфелей в редакции было великое множество.
Помахивая портфелем, человек дошел до «восьмерки» Алекса Killer Кузяева, быстро оглянулся по сторонам и вставил в замок блестящую штучку.
Некоторое время она не хотела поворачиваться, скрежетала и за что-то цеплялась. Насвистывая сквозь зубы, человек продолжал свои попытки. Железка вдруг вгрызлась поглубже, провернулась, и дверь как будто ослабла. Не торопясь, человек убрал свою железку в карман, поставил портфель на мокрый асфальт, еще раз оглянулся и открыл дверь. Машинное нутро, как перегаром, дохнуло на него застарелой сигаретной вонью, запахом прокисшей еды, должно быть, еще юношеским потом от какого-то барахла, кучей сваленного.
Человек поморщился. Лезть в машину было неприятно, как ночевать в кибитке монгольского кочевника.
Впрочем, он все сделает быстро. С некоторым усилием откинув переднее кресло, благословляя всех инженеров-механиков, сконструировавших такую прекрасную машину с таким прекрасным передним креслом, он покопался в куче барахла, сваленного на заднем сиденье.
Там не было того, что он искал. Человек несколько секунд подумал. Он никуда не спешил, и это было странно, ибо занимался он делом совершенно противоправным – обыскивал чужую машину.
Внимательным взглядом он окинул салон, слегка поморщился, когда глазами наткнулся на смятые бумажные пакеты, и одним пальцем поддел крышку «бардачка». Оттуда лавиной хлынул всякий мусор, конфетные фантики, скомканные бумаги, а напоследок съехали компакт-диски в прозрачных пластмассовых коробках и вообще без коробок. Человек нагнулся и стал перебирать их. Некоторые он отбрасывал сразу, а другие внимательно изучал.
На одном из дисков жирным черным маркером было коряво написано: «С-бург, заказ, май». Человек усмехнулся, интуиция его не подвела, аккуратно спрятал диск во внутренний карман пиджака, захлопнул дверь, даже подергал ее, проверяя, закрылась ли, поднял с асфальта свой портфель и зашагал по своим делам.
От тишины можно было сойти с ума.
Мелисса Синеокова сидела на кровати и думала так: как бы мне не сойти с ума.
Что я буду делать, если вдруг здесь я рехнусь? Или умру? Вот что мне делать, если я тут умру?
Тишина была убийственной. Она тоненько звенела в ушах, дрожала внутри головы, и первый раз в жизни Мелисса Синеокова поняла, что такое слуховые галлюцинации, когда звук рождается внутри черепа и мозг понимает, что этого звука нет, а уши слышат лавину, грохот, обвал!
Которых нет.
Нет. Нет. Нет.
Вначале она пыталась говорить вслух сама с собой, но это оказалось еще хуже, потому что жалобные, хриплые звуки, которые издавало ее горло, увязали в тишине, пропадали в ней. И еще становилось очень жалко себя, несчастную, оказавшуюся «на грани безумия», как она сама иногда писала в своих детективах.
– Ты не бойся, – шептала она себе, и от шепота, тишины и темноты слезы наворачивались на глаза, начинали потихоньку капать, стекать, а уж потом литься ручьем. Слезы попадали на губы и катились с подбородка, попадали на руки. Мелиссе они казались очень горячими. Ей даже странно было, что слезы такие горячие, как кипяток.
– Ты не бойся, – шептала она и гладила себя по коленке, – мы что-нибудь придумаем!..
«Мы» – это как бы та Мелисса, которая снаружи, подбадривала ту Мелиссу, которая внутри.
«Мы» – в этом была надежда, которая вдруг вспыхивала очень ярко, прогорала, как спичка, и все вокруг снова погружалось во мрак.
Чирк, вспышка, жаркий и живой огонь, – меня будут искать и найдут! Меня увезли от гостиницы среди бела дня, меня все видели, а у нашего издательства есть служба безопасности, которая меня выручит!
Огонь слабеет, умирает, гаснет – я останусь тут навсегда! Он же ненормальный, тот тип, что меня похитил! Господи, он совершенно ненормальный, и хуже всего, что он так ни разу и не появился. Он приволок меня сюда и исчез, и с тех пор ни разу не появлялся!
И снова вспышка, и снова как будто озарение – Васька не даст мне пропасть, и Лера не даст, они уже наверняка знают, сколько времени прошло, день, час, неделя!.. Это я сижу тут в темноте и ничего не знаю, а они наверняка меня уже ищут и обязательно найдут! Лера – и чтобы не нашла?! Такого не может быть, просто не может быть, и все тут!
И снова умирание, чернота – она никогда, никогда отсюда не выберется! Она не помнит даже, сколько они ехали, может, день или два! И не знает, сколько времени она здесь сидит.
Часов не было. Васька подарил ей в прошлом году очень дорогие, и она «жалела их носить». Он ругался и подкладывал часы ей на столик перед зеркалом, и она надевала, но все время помнила о них, поднимала манжету, проверяла, на месте ли, и заодно смотрела время, как пятиклассник, который никак не может дождаться, когда кончится ненавистное природоведение!
Очухавшись от беспамятства, Мелисса некоторое время не могла понять, где она и что с ней, и вдруг подумала, что умерла и ее похоронили заживо, как Николая Васильевича Гоголя, согласно известной легенде.
И тогда, зажмурившись в абсолютном мраке, чувствуя, что темень давит ей на глаза, на переносицу, на череп, она вскочила – сильно закружилась голова, так что пришлось взяться за нее двумя руками. Но это простое движение убедило ее, что она не в могиле, что она жива!
Мелисса долго сидела, держась за голову, а потом попробовала встать.
Руки и ноги целы, точно целы, и даже слушаются, вот только в голове звон и во рту сухо. Сухо и как-то очень неудобно. Неудобно от того, что язык разбух и не умещался на своем привычном месте, цеплялся за зубы, и хотелось откусить от него хоть часть, чтобы он стал немного поменьше.
Тут Мелисса поняла, что непременно умрет от жажды. Сухо было не только во рту, но и в глотке, и, кажется, в желудке тоже сухо. Так сухо, что стенки прилипли друг к другу, и только большой глоток воды спасет ее, разлепит ссохшиеся внутренности. Чем больше она думала о воде, тем невыносимей хотелось пить, и язык разбухал все больше, и она вдруг задышала ртом – от страха, что задохнется, ее разбухший язык не пропустит в легкие ни глотка воздуха.
Темнота была абсолютной, как бывает, наверное, в могиле, и никто из живых не должен видеть такую темень, ибо она предназначена только для мертвых!..
Вот тогда Мелисса заплакала в первый раз, и эти слезы вдруг помогли ей. Слезы вымыли сухость изо рта и горла, стекли в слипшийся желудок, и язык уменьшился в размерах, и она стала длинно и глубоко дышать носом, стараясь надышаться впрок и понимая, что это невозможно.
Потом она нашла воду. В полной темноте она шарила руками и нашарила что-то плоское и с острыми углами, кажется, грубо сколоченный стол, или, может, козлы, которыми пользуются деревенские плотники, когда рубанком сгоняют душистую завитую стружку к краю длинной и звонкой сосновой доски.
Как бы ей хотелось сию же секунду стать деревенским плотником, чтобы в просторном сарае, где пахнет сеном и деревом, стояли самодельные козлы, а вдоль стены были навалены смолистые доски, а она водила бы рубанком по желтой древесине, щурилась на утреннее солнце, которое вваливается в распахнутые щелястые двери, слушала, как под крышей, попискивая, возится какая-то птаха!
Она шарила руками. Кажется, там было очень пыльно, и в палец, почти под ноготь, воткнулась щепка. Дальше – она нащупала, наваливаясь на доски животом, – была стена, тоже деревянная. В этот момент что-то свалилось на пол, глухо стукнулось и покатилось, Мелисса слышала, как оно катилось и, похоже, булькало.
Это бульканье заставило ее сглотнуть слюну, которой не было во рту, только язык, как ржавая терка, прошелся по изнемогшему нёбу. Она повернулась на звук, вытягивая шею и едва дыша. В полной темноте она проворно опустилась на колени и поползла в ту сторону, куда укатилось то, что так волшебно булькало. Так волшебно и так похоже на воду. Лбом она стукнулась обо что-то непонятное, повернула и снова зашарила руками, и нашарила!
В пластмассовой бутылке была вода, примерно половина емкости, и Мелисса жадно выпила ее всю до капельки, и потом еще высосала остатки, и, тяжело дыша, утерла рот.
Какое-то время она еще проживет. Не умрет от жажды. Не задохнется от распухшего языка.
Сидя на полу посреди тьмы, она снова заревела, и ревела долго, в голос. Проревевшись, она крепко вытерла лицо ладонями, доползла до кровати – она точно знала, что это кровать, потому что слышала, как тряслась холодная пружинистая сетка под волглым матрасом, уселась и стала думать.
У нее долго это не получалось – думать, – и приходилось все время возвращаться из мрака. Усилием воли возвращаться.
«Значит, так.
Меня похитили. Прямо от гостиницы, среди бела дня. Как в кино. Какой-то человек позвонил и сказал, что меня ждут на съемках в павильоне на улице Чапыгина и сейчас за мной приедет машина. Потом тот же голос позвонил и сказал, что машина приехала».
Тут начиналось ужасное, и Мелисса еще немного поплакала, чтобы дать себе отдохнуть.
Она села в эту машину, маленькую и страшненькую, совершенно ни о чем не раздумывая, потому что звонивший ей человек говорил все «правильно» – он правильно назвал передачу, в которой ей предстояло сниматься, правильно назвал улицу, где должны были проходить съемки, – сто раз Васька возил ее на Чаплыгина, – и вообще говорил какие-то правильные слова и называл ее Людмилой, а не Мелиссой. Так ее называли только «свои».
И машинка, маленькая и страшненькая, не показалась ей странной, подумаешь! На каких только машинах ее не возили!
Однажды на склад, где она должна была подписывать книги для Тамбовской областной библиотеки, ее вез грузовой «москвичок», именуемый в народе «каблук». Невразумительный мужичонка рулил «каблуком» словно из последних сил, а может, ей так казалось, потому что мотор все время глох, и мужичонка, отчаянно жуя «беломорину», наваливался на руль, суетился, дергал «подсос» и все время повторял:
– Да что ж ты, милай!.. Ну, давай, давай, милай!..
Как будто машина была лошадью.
Кроме того, Леша Денисов из рекламного отдела, улыбаясь извиняющейся улыбкой, подложил ей под ноги несколько запечатанных пачек с книгами, которые нужно было «захватить» на склад, откуда завтра пойдет «транспорт». К груди будущая знаменитая писательница прижимала объемистый портфель, в котором утром привезла редактору Ольге Вячеславовне рукопись.
– Мила, – Ольга Вячеславовна улыбнулась, взглянув на папку, которую Мелисса гордо водрузила перед ней: принимай, мол, работу! – Вы можете не распечатывать текст и не возить такие тяжести. Зачем? Я сама распечатаю.
– А разве… так можно? – пробормотала Мелисса растерянно. Редакторша представлялась ей существом высшей касты, небожительницей, олимпийской богиней, которая не должна утруждать себя распечатыванием ее рукописи!..