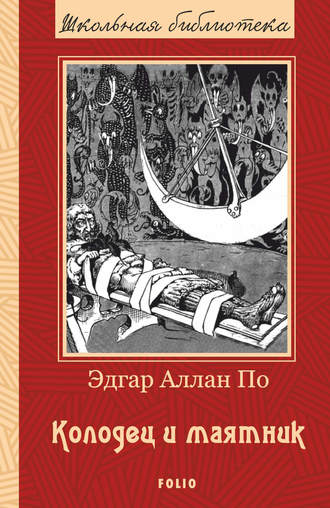
Полная версия
Колодец и маятник. Рассказы
– На лбу ясно видны выжженные буквы В. Ф. Б., – перебил другой конюх. – Я предполагал, конечно, что эти начальные буквы значат «Вильгельм фон Берлифитцинг», но в замке все уверяют, что лошадь не их.
– Странно! – проговорил барон задумчиво, очевидно, не сознавая своих слов. – Правда, замечательный, удивительный конь! И видно, действительно, пугливый, неукротимый. Ну, пусть будет моим, – заключил он после паузы, – может быть, такому наезднику, как Фридрих фон Метценгерштейн, удастся укротить самого черта из конюшен Берлифитцинга.
– Нет, господин, вы ошибаетесь; мы ведь докладывали вам, что конь не из берлифитцингской конюшни. Будь он оттуда, не осмелились бы мы представить его кому-либо из вашей семьи.
– Правда! – сухо согласился барон.
И в эту самую минуту из замка выбежал, весь раскрасневшись, постельничий. Он шепнул на ухо барону о внезапном исчезновении куска обоев в одной из комнат и принялся сообщать какие-то подробности. Несмотря на пониженный голос, которым он говорил, ничто не скрылось от возбужденного любопытства конюхов.
Во время этого разговора Фридриха, по-видимому, волновали различные чувства. Однако он скоро овладел собой, и лицо его приняло выражение злобной решимости, когда он приказал немедленно запереть на замок комнату, а ключ отдать ему.
– А слышали вы о несчастье со старым охотником Берлифитцинга? – спросил один из слуг барона, когда, после ухода постельничего, огромный конь, признанный бароном своею собственностью, поскакал с удвоенным бешенством по аллее, которая вела от замка к конюшням Метценгерштейна.
– Нет, – отвечал барон, резко поворачиваясь к говорившему. – Ты говоришь, несчастье?
– Он умер, господин. Думаю, для вас, как члена вашей семьи, известие не самое печальное.
Усмешка скользнула по лицу слушателя.
– Как он умер?
– Стараясь спасти своих любимых лошадей, он сам погиб в огне.
– Вот ка-а-к! – протянул юноша спокойно и вернулся, как ни в чем не бывало, в замок.
С этого дня в поведении распутного барона Фридриха фон Метценгерштейна произошла замечательная перемена. Он, в самом деле, разочаровал ожидание многих маменек, имевших на него вид; а в своих привычках и образе жизни еще больше чем прежде стал расходиться с жизнью соседней аристократии. Он никогда не переступал за пределы своего поместья и жил совершенно одиноко. Разве только таинственный бешеный рыжий конь, на котором он начал постоянно ездить, мог иметь некоторое право называться его другом.
Однако барон получал многочисленные приглашения от соседей.
– «Не почтит ли барон праздник своим присутствием?» – «Не примет ли барон участие в охоте на кабана?»
– «Метценгерштейн не охотится». – «Метценгерштейн не может быть», – гласили лаконичные ответы.
С такими постоянными оскорблениями высокомерная аристократия не могла примириться. Приглашения стали реже и менее любезны и наконец совершенно прекратились. Вдова умершего графа Берлифитцинга даже высказала надежду, «что барон будет дома, когда не захочет быть дома, если он пренебрегает обществом равных себе; и будет ездить, когда не захочет, если предпочитает общество своей лошади».
Это, конечно, была вспышка наследственной неприязни и доказывала только, какую бессмыслицу мы в состоянии сказать, желая проявить особенную энергию.
Люди же более снисходительные приписывали перемену в образе жизни барона естественной печали о безвременно погибших родителях, забывая его жестокости и распутство в короткий период, непосредственно следовавший за этим грустным событием. Нашлись и такие, которые приписывали это чересчур развитому самомнению и гордости. Третьи, между которыми следует упомянуть семью доктора, наконец, намекали на черную меланхолию и нездоровую наследственность; вообще темные слухи подобного рода ходили в обществе.
В самом деле, неестественная привязанность барона к новому приобретению – привязанность, как будто усиливавшаяся с каждой новой вспышкой бешеных наклонностей дьявольского животного, – начала принимать в глазах всех благоразумных людей отвратительный и неестественный характер. В полдневный зной, в глухую ночную пору, здоровый или больной, в тихую погоду или бурю молодой Метценгерштейн казался прикованным к седлу гигантского коня, неукротимый нрав которого так подходил к его собственному характеру.
Но были обстоятельства, которые в связи с событиями последнего времени придали сверхъестественный и чудовищный характер мании наездника и свойствам коня. Скачки́ коня тщательно измерялись, и оказалось, что они превзошли даже самые невероятные предположения. Кроме того, барон не дал имени животному, хотя все прочие лошади его конюшни имели имена, характеризовавшие их. Конюшня коня находилась в отдалении от прочих, а что касается конюхов и прочей прислуги, то никто не смел ухаживать за ним или подходить к его стойлу. Ходил за ним сам барон. И даже из тех трех конюхов, которым удалось с помощью узды и аркана из цепи задержать его во время бешеной скачки из Берлифитцинга, ни один не мог сказать, чтоб он действительно коснулся рукой тела животного. Проявление особенного ума в лошади не возбуждали, конечно, особенного внимания; но были обстоятельства, которые невольно бросались в глаза самым флегматичным скептикам, а бывали случаи, когда толпа зевак в ужасе кидалась прочь перед его загадочными порывами, и даже сам Метценгерштейн бледнел и отступал перед пытливым пристальным выражением его человечьего взгляда.
Между всеми окружающими барона никто не сомневался в необыкновенной горячей привязанности молодого дворянина к бешеному коню, никто, кроме одного незначительного и уродливого пажа, безобразие которого всем мозолило глаза и мнение которого, конечно, не имело ни малейшего значения. Он имел смелость, если вообще смел иметь какое-либо мнение, утверждать, что его господин никогда не садится в седло без невольной, хотя почти незаметной дрожи и что каждый раз, по возвращении из продолжительной прогулки верхом, каждый мускул лица его дрожит от злобного торжества.
Однажды ненастной ночью Метценгерштейн, проснувшись от тяжелой полудремоты, выбежал как сумасшедший из комнаты и, вскочив на коня, помчался в лес. Такое обычное событие не привлекло ничьего особенного внимания, но слуги ожидали с беспокойством его возвращения, как вдруг, после нескольких часов его отсутствия, неожиданный пожар отхватил все роскошные здания замка, с треском проникая в самые основания их.
Так как пламя, когда его заметили, уже так распространилось, что попытки спасти какую-либо часть здания были, очевидно, бесполезны, то испуганные соседи стояли кругом, ничего не предпринимая и молча смотря на пылающий огонь. Но скоро новое ужасное зрелище привлекло внимание толпы и доказало, насколько сильнее впечатление, производимое видом человеческого страдания, чем самых ужасных зрелищ разгула стихии.
По длинной аллее из старых дубов, ведущей от леса к главному выезду замка Метценгерштейн, скакал, точно гонимый самим демоном бури, конь с всадником без шляпы и в растерзанной одежде.
Ясно было, что всадник уже не в состоянии управлять конем. Искаженное лицо и судорожные движения показывали сверхъестественные усилия; но всего только один крик вырвался из губ, сжатых ужасом. Минута – и резкий стук копыт заглушил рев пламени и свист ветра; другая – и, перемахнув одним прыжком через площадку, конь взлетел на качающиеся ступени лестницы замка и исчез с всадником в вихре бушующего пламени.
Буря моментально стихла, и наступила мертвая тишина. Белесое пламя, будто саван, все еще обволакивало здание и, высоко поднимаясь в спокойном воздухе, распространяло сверхъестественный свет, между тем как облако дыма тяжело повисло над строениями, приняв явственные очертания гигантской фигуры.
Береника
Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas[2].
СаадиБывают различные несчастия. Земное горе разнородно; господствуя над обширным горизонтом, как радуга, цвета человеческого страдания так же различны и точно так же слиты, и оно точно так же царит над обширным горизонтом жизни.
Я могу рассказать ужасную историю и охотно умолчал бы о ней, если бы это была хроника чувств, а не фактов.
Мое имя Эгеус, фамилию же свою я не скажу. Нет в стране замка более славного, более древнего, как мое унылое, старинное, наследственное жилище. С давних времен род наш считался ясновидящим, и действительно, из многих поразительных мелочей, из характера постройки нашего замка, из фресок нашей гостиной, из обоев спальни, из лепной работы пилястров оружейной залы, но преимущественно из галереи старинных картин, из внешнего вида библиотеки и, наконец, из характера книг этой библиотеки можно было вывести заключение, подтверждающее это мнение.
Воспоминания первых лет моей жизни связаны с библиотечной залой и ее книгами. Там умерла моя мать; там родился я. Но странно было бы сказать, что я не жил прежде, что у души нет предыдущего существования… Вы не согласны? Не станем об этом спорить. Я же в этом убежден и потому не стану убеждать вас. В человеческой душе живет какое-то воспоминание о призрачных формах, о воображаемых глазах, о мелодических, но грустных звуках, воспоминание, не покидающее нас, – воспоминание, похожее на тень, смутное, изменчивое, неопределенное, трепещущее; и от этой тени мне трудно будет отделаться, пока будет светить хоть один луч моего разума.
В этой комнате я родился, в этой комнате я провел среди книг мое детство и потратил юность в мечтах. Жизненная действительность поражала меня, как видения и только как видения, тогда как безумные мысли мира фантазий составляли не только пищу для моего повседневного существования, но положительно и исключительно мою действительную жизнь.
Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в отцовском замке. Но мы росли совершенно по-разному: я – болезненным и вечно преданным меланхолии; она – живой, грациозной и полной энергии; ее дело было бегать по холмам, мое – корпеть над книгами. Я жил сам в себе душой, предаваясь самым упорным и трудным размышлениям, она же беззаботно встречала жизнь, не заботясь ни о тенях на своем пути, ни о молчаливом полете времени с его черными крыльями. Береника! При ее имени черные тени восстают в моей памяти. Образ ее стоит, как живой, передо мною – такой, какой она была в первые дни своего счастья и веселья. Как была она фантастично хороша! А потом, потом наступил полный ужас и мрак и свершилось нечто, неподдающееся рассказу. Болезнь, страшная болезнь обрушилась на нее и на глазах моих изменила ее так, что трудно было узнать ее. Увы, болезнь отходила и снова подходила, но прежняя Береника уже не возвращалась! Настоящую Беренику я не знал или, по крайней мере, не признавал ее за Беренику.
Главные страдания кузины моей заключались в эпилепсии, которая часто заканчивалась летаргией, похожей на смерть, от которой она просыпалась совершенно внезапно. Между тем и моя болезнь, – мне сказали, что это не что иное, как болезнь, – быстро развивалась, усиливаясь от неумеренного употребления опиума, и наконец приняла характер какой-то странной мономании. С часу на час, с минуты на минуту болезнь действовала энергичнее и наконец совершенно подчинила меня своей власти. Эта мономания заключалась в страшной раздражительности умственных способностей, которую можно определить раздражительностью способностей внимания. Очень может быть, что вы меня не понимаете, и я боюсь, что не буду в состоянии дать вам точного понятия той нервной напряженности, с какой мысль углубляется в созерцание самых обыденных в мире вещей.
Моим постоянным занятием было: думать без устали, по целым часам, над какой-нибудь беглой заметкой на полях книги или над фразой в книге; задумчиво смотреть в продолжение целого долгого летнего дня на причудливые тени, стелющиеся по стенам; забываться по целым ночам, наблюдая прямое пламя лампы или пламя углей в камине; мечтать по целым дням над запахом цветка; монотонно повторять какие-нибудь обыкновенные слова до тех пор, пока звук от повторения перестанет занимать мысли; в полном, упорно сохраняемом покое забывать всякое чувство движения и физического существования.
Мысли мои в такие минуты никогда не переходили на другие предметы, а упорно вертелись около своего центра. Человеку невнимательному покажется очень естественным, что страшная перемена в нравственном существовании Береники, вследствие ее страшной болезни, должна бы была послужить предметом моей задумчивости. Но ничуть не бывало. В светлые минуты несчастие ее, правда, меня огорчало, я думал с грустью о страшной перемене, происшедшей в ней. Но эти мысли не имели ничего общего с моей наследственной болезнью. Болезнь моя питалась не такой переменой, а переменой физической, страшно изменявшей Беренику.
Во дни ее поразительной красоты, можно сказать наверное, я не любил ее. Чувства мои никогда не шли из сердца, а всегда из головы. Береника являлась мне не настоящей Береникой, а Береникой моих мечтаний, не земным, а абстрактным существом. Теперь же я дрожал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; горюя о ее гибели, я все-таки помнил, что она давно любила меня, и когда-то в грустную минуту заговорил с нею о браке.
День, назначенный для нашей свадьбы, приближался. Однажды после обеда я сидел в библиотеке; я думал, что в комнате нет никого, кроме меня, но, подняв глаза, увидал стоявшую передо мною Беренику.
Она казалась мне какой-то призрачной и высокой. Я молча откинулся на спинку кресла; она стояла тоже молча. Худоба ее была ужасна; в ней не осталось ничего от прежней Береники. Наконец взор мой упал на ее лицо.
Когда-то черные волосы теперь стали светлыми, а мутные и поблекшие глаза казались без ресниц. Я взглянул на губы. Они раскрылись особенной улыбкой, и взору моему представились зубы новой Береники. Лучше бы мне никогда не видеть их или, увидав, лучше бы умереть!
Скрип двери пробудил меня; подняв глаза, я увидел, что кузины в комнате нет. Но белый и страшный призрак ее зубов не покидал и не хотел покинуть комнаты. На поверхности их не было ни точки, ни эмали, ни пятнышка. Мимолетной улыбки достаточно было, чтобы они врезались мне в память. И потом я их видел так же ясно, как и прежде, видел даже яснее, чем прежде. Зубы эти являлись и тут, и там, и везде: длинные, узкие и необыкновенно белые, с бледными губами, натянутыми вокруг так, как они никогда не бывали прежде. Затем наступил полный припадок моей мономании, и я тщетно боролся против ее непреодолимого и странного влияния. В бесконечном числе предметов внешнего мира я только и думал, что о зубах. Я чувствовал к ним страстное желание. Все окружающее было поглощено мыслью о зубах. Они сделались для меня источником жизни. Я изучал их, и мне казалось, что зубы Береники – это идеи. И эта безумная мысль погубила меня. Вот потому-то я так страстно и стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими может возвратить мне рассудок.
Дни проходили один за другим, а я все сидел в своей комнате с призраком зубов. Но как-то раз, во время моей задумчивости, раздался внезапно крик ужаса, и, спустя немного, я услышал рыдания и вздохи. Я встал, отворил дверь и увидал горничную, которая сообщила мне, что Береника умерла и что могила ее уже ждет.
С сердцем, замирающим от страха и отвращения, я отправился в спальню покойницы. Комната была большая, мрачная; на каждом шагу я натыкался на приготовления к похоронам. «Гроб, – сказал мне слуга, – стоит за занавескою на кровати, и Береника лежит в гробу».
Кто-то спросил меня, хочу ли я видеть покойницу? Я не заметил, чтобы чьи-нибудь уста шевелились, а между тем вопрос был задан, и отголосок последних слов еще раздавался в комнате. Отказаться было невозможно, и с чувством какой-то подавленности я направился к постели. Я тихо поднял темные занавеси, и, когда опустил их, они упали мне на плечи, и отделили меня от живого мира, и заперли меня с покойницей.
В комнате пахло смертью; особенный запах от гроба вызывал во мне дурноту, и мне казалось, что от тела отделяется уже запах разложения. Я бы отдал все на свете, чтобы бежать от этого страшного влияния смерти, чтобы еще раз дохнуть воздухом под чистым небом. Но у меня не было сил шевельнуться, колени тряслись, я точно прирос к полу и пристально смотрел на вытянутый в гробу труп.
Господи! Может ли это быть? Неужели у меня помутилась голова? Или покойница действительно пошевелила пальцем под саваном? Дрожа от страха, я тихо поднял глаза, чтобы взглянуть на лицо покойницы. Носовой платок, которым была привязана челюсть, развязался. Бледные губы улыбались, и из-за них смотрели на меня белые, блестящие, ужасные зубы Береники. Я судорожно отскочил от постели и, не говоря ни слова, как безумный, бросился вон из этой страшной комнаты смерти.
Я очутился в библиотеке и сидел в ней один. Мне казалось, что я пробудился от какого-то ужасного, смутного сна. Была полночь. Я распорядился, чтобы Беренику похоронили до заката солнца; но я не сохранил точного воспоминания о том, что делалось в это время. А между тем мне припоминалось что-то ужасное, что-то смутное и потому более ужасное; оно походило на какую-то страшную страницу моего существования, написанную темными воспоминаниями, ужасными и неразборчивыми. Я старался разобрать их, но не мог. Между тем по временам в ушах моих раздавался звук, похожий на пронзительный крик женщины. Точно я совершил что-то. Я громко спрашивал себя: «что такое?» и эхо комнаты отвечало мне: что такое?..
На столе подле меня горела лампа, а возле нее стоял ящичек из черного дерева. Ящик был очень обыкновенный, и я часто видел его: он принадлежал нашему семейному доктору. Но как он попал ко мне на стол? Почему я дрожал при виде его?.. Взор мой упал наконец на страницы открытой книги и остановился на одной подчеркнутой фразе. Это были странные, но простые слова поэта Саади: Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. – Отчего от этих слов волосы мои становятся дыбом, и кровь застывает в жилах?
В дверь библиотеки кто-то тихо постучал, и ко мне на цыпочках вошел слуга, бледный как мертвец. Глаза его блуждали от ужаса, и он заговорил со мною тихим, дрожащим, глухим голосом. Что говорил он мне? Я понял только некоторые фразы. Кажется, он рассказывал, что ночью в замке слышали страшный крик, что вся прислуга собралась и побежала на крики. Тут голос его стал ясен; он говорил о поругании могилы, об обезображенном трупе, вынутом из гроба, – трупе еще дышавшем, еще вздрагивавшем, еще живом!
Он взглянул на мою одежду; она была выпачкана грязью и кровью. Не говоря ни слова, он взял меня за руку; на ней оказались следы от ногтей человеческих. Он обратил мое внимание на предмет, приставленный к стене. Я посмотрел: то был заступ. Вскрикнув, я бросился к ящику из черного дерева. Но у меня недоставало силы открыть его; он, выскользнув у меня из рук, тяжело упал па пол и разлетелся в вдребезги. Звеня, выскочили из него несколько инструментов для дерганья зубов, и вместе с ними рассыпались по всему полу тридцать два белых маленьких кусочка, похожих на кость.
Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля
Мечтам безумным сердцаЯ властелин отныне,С горящим копьеми воздушным конемСкитаюсь я в пустыне.Песня Тома из Бедлама[3]Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени – я в этом не сомневаюсь – будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.
Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый – совсем не по времени года, – без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов, и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.
Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто – даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук – не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул – затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.
Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был… нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии – никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, – ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.
Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувыркнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.











